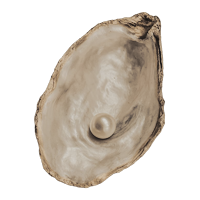узнай меня
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться22018-01-16 18:34:26
Мечта сбежать из холодного плена этой мрачной зачастую и жестокой жизни не оставляла ее на самом деле ни на минуту, но она научилась подавлять в себе это желание. Каждый новый день отражался этой грустной усталостью в ее ореховых глазах, потерявших искренний свет, исходящий из глубин ее стойкой души \а чтобы пережить все то, что пришлось ей пришлось быть невероятно… стойкой\.
Тоска охватывала ее каждый раз, когда в голове яркими вспышками возникало глупое, почти юношеское желание о захватывающих приключениях; долгих, совершенно безумных прогулок в яростную грозу, каждый раз так грозно разрывающая изнуренное небо вспышками устрашающих молний. Она желала стать участницей своего собственного романа о какой-то сильной и неразделенной любви, страдать по ночам, скрывая болезненные всхлипы под ударами тяжелых капель воды; радоваться так искренне и бодро, заглушая толпу своим заразительным смехом.
Она хотела, но не могла. Стремилась, но каждый раз разбивалась о скалы неудач, преследовавших ее с самой юности, сгорбившие ее тонкие плечи. Она молила о свободе, но клетка была заперта, а ключ таился под тяжелыми водами океанов какой-то внутренней слабости и охватывающей ее подчас безнадежности, заключенной в ее собственных руках.
Дождливыми весенними вечерами, сменившимися постепенно летним удушливым зноем, я начинала размышлять. Предавалась не самым веселым размышлениям, погружаясь в какую-то вовсе не летнюю, а скорее осеннюю пугающую задумчивость, рассеянно кивая на приветствия, все еще не вошедшие в привычку. Меня называли: «Ваше Величество», а я хотела поправить, забывая о том, что перестала быть наследной принцессой и… разве что-то, кроме титула в моей жизни имело свойство… измениться?
Воль смотрит на себя в зеркало по вечерам, отгоняя сонных служанок от себя, словно назойливых мух или ленивых мотыльков, слетающихся к слабому огню свечи или легких воздушных фонариков, раскачивающихся на ветру. Она смотрит на себя в зеркало, расчесывая все такие же шелковистые и густые волосы, но с каждым днем они кажутся ей тускнее, но с каждым днем взгляд становится безразличней, а пальцы холоднее. Губы красивые в такие моменты сжимались в тонкую полоску, поджимались, а в глазах тускнело пламя свечи.
Каждый день с завидным постоянством ты поправляешь прическу, выбираешь какое из своих многочисленных платьев шелковых, тяжелых и роскошных надеть, превратив эти ритуалы в неотъемлемую часть своей жизни, считая, что смирилась. Воль, ты непокорная птица, которая начинает грустить по весне или лету совершенно неожиданно, вдали от посторонних глаз позволяя себе предаться этому предательскому чувству… ненужности ?
«Вы прекрасно выглядите, Ваше Величество» - слышится отовсюду на разный манер, а тон голоса один елейнее другого.
Ты скажешь «спасибо», но не предашь этому значение. Не имеет смысла – хорошо или плохо на самом деле, но на глазах н е о б х о д и м о выглядеть презентабельно. Нужно держать голову прямо, держать подбородок, удерживать взгляд, осанку, голос. Позволять себе спотыкаться сейчас – непозволительная роскошь, но только чувство пустоты в грудной клетке… странное. Вы когда-нибудь чувствовали пустоту внутри, которая с каждым днём становилась всё больше? вы когда-нибудь чувствовали, словно все те, кого вы считали друзьями, шепчут нечто обидное за вашими спинами, а потом ругали себя за беспричинную паранойю? Вы когда-нибудь пытались выбраться из этого болота самостоятельно, без руки помощи, без успокаивающего шёпота на ухо и тёплых объятий, в которых, кажется, можно от всего спрятаться?
Все помнят старинную сказку о прекрасной девушке, которую возненавидела злая мачеха? Привычный исход: добро побеждает зло, а любовь вечна.
Однако, мой маленький друг, я хочу поведать тебе другую историю.
Что, если королева вовсе не была злой и коварной, а всего лишь хотела обыкновенного человеческого счастья. Что, если не познав любви извне, она научилась любить себя, и эта любовь сделала ее такой жестокой.
Мой маленький друг, в этом мире люди не рождаются злыми. Такими их делает одиночество.
Она задумывается над этим, когда кланяется вдовствующей императрице и замечает это извечное звериное выражение на слегка осунувшемся лице с заострившемся подбородком. Задумывается, проходя мимо, усмехаясь уголками губ, когда почти что слышит шипение. Ваше Величество, вы не можете смириться с тем фактом, что вышвырнуть меня за пределы дворца не можете. Не можете даже несмотря на то, что я бездетная королева с сомнительными семейными связями, род которой ослабел и прервался на смерти моего брата. Парадоксально верно, что даже помыкая отсутствием детей, вы ничего не можете с со мной поделать, бессильно злитесь, оборачиваясь в сторону своих сторонников, которым тоже уже ничего не остается. Меня успели полюбить л ю д и, а еще я до сих пор не сделала ничего предрассудительного, ничего того, за что вы могли бы зацепиться и отправить меня ко дну.
Ваше Величество, я смотрела на Вас и понимала, что вы являетесь тем примером одиночки, которым я не хотела становиться. Ваше отражение озлобленности меня пугало и отвращало, но я начала задумываться об одной вещи… сколько нужно времени, чтобы и я превратилась в Вас? Сколько человек протянет без воды? Три дня? А без любви? Я думала, я неплохо справляюсь, но даже самое сильное дерево иногда начинает беспричинно чахнуть. Гнев — это просто трусливое сокрытие печали. Гораздо проще злиться на кого-то, чем сказать, что ранен.
А никто и не обещал, что делая смыслом своего существования холодное чувство отмщения – ты не будешь иногда чувствовать, как сердце сжимается в какие-то холодные тиски, чьи-то руки смыкаются на горле – пытаешься откашляться, а все тщетно. Как-то слишком печально осознавать, что в твоей жизни есть только одна борьба холодная и временами расчетливая, почти циничная и больше ничего.
Воль разглядывает девушек все еще молоденьких \говорят, гарем короля это показатель власти на уровне королевской печати\ и свежих в развевающихся одинаковых розовых платьях. И им будто бы и нравится в этой клетке, где каждый их день будет похож на предыдущий, где каждый их шаг не будет иметь никакого значения. Ей хочется их пожалеть быть может и прошептать, как когда-то Хвин: «Улетайте отсюда, глупые!», но вместо этого Воль лишь сухо и сдержанно кивает и им, проходя м и м о, отвлекая себя на привычные мысли о том, что еще нужно сделать, с кем стоит встретиться и к кому пойти. Перед кем стоит изобразить улыбку, чтобы потом получить поддержку, перед кем стоит нахмурить брови, чтобы человек занервничал.
— Ваше Величество, какое платье собираетесь надеть сегодня?
— Не имеет значения. Выберете за меня.
Ты будто снова устала от самой жизни, ты будто стала слишком сильной, сильной и стальной настолько, что сломаться стало легче в два раза. Дама Шин нахмурится и почему-то побледнеет, а ты с головой уйдешь в какие-то документы, карты, расстановки, впутываясь в эту паутину по самое горло.
Так странно замерзать под самое лето, когда тепло окутывает всех, когда зелень вновь буйствует, а все люди обласканы этим солнечным светом. Очень странно снова хотеть написать многочисленные письма, чтобы потом их не отправлять, поддаваясь глупой девчоночьей сентиментальности, которую почитаешь за роскошь. Но мысли не оставляли.
Мне должно было стать легче, после того, как я стала Королевой. Мне должно было стать проще после коронации. Мне должно было стать проще еще с того времени, когда я открыла помимо мести еще один простой и понятный мотив не просто выживать, а жить.
«Вы мне нравитесь».
Нравитесь.
«Я смогла полюбить вас».
Мне должно было стать легче, но мне в последнее время это чувство так сильно давит на грудную клетку, что становится еще невыносимее. Наступая на одни и те же грабли, зарываясь носом в одеяла, которые отчего-то хвоей пахнут – что-то ныло и болело в области сердца, заставляя беспокойно ворочаться в постели. А осознание губительное, что слово «люблю» не сочетается со словом «никогда» совершенно никак. Я знала, что так будет. Я знала и осознавала, что с этим чувством будет еще сложнее, но в мотылька превратилась, которой захотелось к огню подлететь, потому что огонь… красивый.
Ваше Величество. Королева. А у меня наверное по вечерам взгляд был какой-то особенный, когда разглядывала себя в зеркало. Дама Шин спрашивала невзначай, но очень внимательно в глаза глядя: «Вы в порядке?»
В порядке… Королева в порядке. Я – нет. Королева занимается тем, что удерживает корону на своей голове, чтобы потом ее в лицо бросить тем, кого ненавидит всей своей душой. Я – увядаю здесь. Сравниваю себя с этими молоденькими девочками, которых жизнь не поранила и которые выглядят намного свежее. А мне иногда кажется, когда прикасаюсь к лицу, к уголкам глаз присматриваюсь и будто бы вижу морщинки. Ничто на этом свете не вечно, увы.
Однажды тебя кто-то в жизни поменял, вывернул наизнанку. А ты стояла смирно, не содрогаясь, словно это не кожу с тебя снимали, а нежно гладили по щеке рукою утомленной. Ты изменилась, выстояла, выдержала, нацепляя на лицо улыбку скупую. Не задумываясь о цене? Нет, не правда, задумывалась каждый чертов раз.
Рука потянется к баночкам с пудрой, бумажкам лакмусовым, которые окрашивают губы в какой-то неестественно ярко-красный. Может быть так будет красивее, может быть ты так будешь красивой.
Вы называли меня привлекательной, да я помню, я запоминаю все, моя память хорошая мое благословение и мое проклятье. Но какой в этом, увы, смысл? Чтобы общаться с придворными и внушать уважение можешь не быть красивой – влияние в другом. Обещала подождать ведь. Восемь лет. Восемь лет одиночества, поделенного вроде бы надвое, но почему я кажусь себе более одинокой с е й ч а с? Потому что влюбляться в одиночку как-то обидно? Потому что сердце заколотить не получается? Потому что увядаю здесь и о завтрашнем дне не думаю, сражаясь в сегодняшнем и пристально по сторонам оглядываясь – никогда не знаешь откуда зверье выпрыгнет.
— Ваше Величество, а у вас ведь, наверное, шрам остался, верно?... — задумчиво, вглядываясь в цветы, посаженные тобой уже около своего дворца. На груди. После этой злосчастной стрелы наверняка должен был остаться шрам.
Мое сердце вытащили из груди, а дырку зашили как-то не умело. Я чувствую, что устаю упрямо барахтаться, я чувствую, что могли бы пойти ко дну быстрее.
Воль ждет, когда концовка наступит, когда грянет финальный гонга удар и когда главных врагов не останется. И вот когда гром прогремит, когда солнце окончательно встанет для Него совершенно окончательно – тогда она выполнит свой долг как его союзник. Как его Императрица. И тогда …
А знаете, что я хотела сделать после того? Я хотела уехать, уехать действительно, оставив Вас, сказав «прощай», простите меня. Я бы попросила отправит меня в какой-нибудь монастырь горный и далекий, где за чтениями монотонных мантр и скудной пищей я бы провела свой остаток дней – это было бы справедливо, я бы согласилась. Я хотела сказать, чтобы меня отправили в старый дворец, где среди сокбенных стариц – бывших наложниц еще прежних императоров и холодных стен \говорят в этом дворце и правда нестерпимо холодно\ я бы могла писать длинные письма и прогуливаться по запущенным садам и комнатам, кое-где покрытым паутиной. В конце концов это была бы участь, где уже ничего не ждешь, а тихо проживаешь свой век, незаметно растворяясь. Поднявшись достаточно высоко, я бы могла просто уйти куда-то в облака.
Думаете не грустно так думать? Очень грустно, но лучше безнадежная жизнь, чем жизнь, которая только таковой прикидывается, а временами все равно мигает разноцветными огоньками этой самой н а д е ж д ы. Каждый раз, когда посмотрю на Вас я улыбаюсь.
Существуют слова, которые не переводятся на другие языки. И практически все они на тему любви. Безграничной или мимолетной, глубокой до привязанности или легкой как пушинка на ветру. Есть слово в китайском "yanfen", что гласит о непреодолимых силах, сводящих вместе двух людей: судьбе и чувствах, предписанных сердцем. Возможно ли, что выводя это слово изящно порхая кистью над бумажным полотном, я вывожу слово про… нас? Это такой сладкий самообман, что не могу сдержаться.
Мы более не принц и принцесса. Мы Король и Королева своего маленького по сути государства \если взглянуть на карты, которые ученые разглядывают с большим интересом \, которому нужна поддержка.
Я нелюбимая женщина, одинокая героиня своей собственной истории, но человек, к которому вы все равно относитесь тепло, относитесь очень х о р о ш о и уважительно.
Вы – человек, у которого сейчас слишком много дел по истине государственной, невысказанная горечь где-то под ребрами, где-то под сердцем.
Корона – тяжелая вещь. Трон – самый неудобное сидение на свете.
Заплетая в волосы розы, падая в колючие кусты и натыкаясь на шипы, она улыбалась и звонко смеялась, пока острые цветы между прядей превращались в корону. Поистине терновый венец.
— Я не Королева, я вдруг это поняла, дама Шин. Я всего лишь претворяюсь до поры до времени, и мой обман не должен будет раскрыт. Королева не должна… чувствовать.
А шипы впивались все сильнее. Маски усмехались как-то криво.
Было лето. Отцветали одуванчики, заполонившие сорняками полисадники. Проходил сезон дождей. Стрекотали над озером стрекозы. Земляника цвела.
А я замерзала где-то в своем холодном январском лесу совершенно неожиданно и вдруг.
Я всегда знала, наверное, что смысл бороться… дадите мне В ы.
❖❖❖
Ребенок был премилый. Еще маленький совсем, но уже с осмысленным взглядом, родившийся в начале весны, а сейчас бессовестно гулящий по самое не хочу, глядящий в ее лицо, пытающийся приподнять головку и выпутаться из мягких вышитых золотыми нитями и отстроченных атласом одеял. Он кряхтит и пыхтит, но не плачет в твоих руках, а иногда забавно хмурится, вытягивая губки, будто нарисованные кистью какого-то умелого художника. Иногда малыш улыбался, когда видел лицо матери, сидящей рядом, уже способный различать лица особенно близких людей. Еще маленькие ручки, которые ловишь в свои, целуешь украдкой и пропадаешь в этой невинности.
— Айгу, наш Ук. Уже такой большой. И уже такой красивый. Кто у нас такой красивый, а? А? Наш Ук, — лицо наклоняешь, смешно пыхтишь в личико румяное, а кожа на щеках крохи еще совсем нежная, на лепестки роз похожая. И от этого даже как-то боязно прикасаться лишний раз – собственная кожа сухой кажется, а собственные руки какими-то неловкими. Жизнь на твоих руках хрупкая, но прекрасная безмерно, пытающаяся имитировать что-то вроде хохота, а выходит нечто смешное, вызывающее вполне искреннюю улыбку на губах.
— Смеется, а будто квакает, — хохотнешь, вновь голову поднимая, а малыш активно вертится на руках, усиленно приподнимая головку. Если дашь палец – ухватится и не задумается, впрочем, размахивая ручонками во все стороны, пытаясь ухватить за нос или дергая за волосы длинные, которые кажутся чем-то интересным и требующим внимания обязательного.
— Ук, тебе следует гордиться, раз у Королевы на руках побывал. А ты ему нравишься, Воль. Он обычно у чужих на руках плачет, а тут поглядите-ка на него – веселится, — Соль сидит рядом, отвлекаясь на маленькие чашечки с чаем, где цветки лотоса в пиалах плавают.
Соль – все такая же на вид маленькая, теплая и мягкая, но взгляд взрослее \не грустнее ли?..\, улыбка стала мудрее, будто с материнством пришло еще что-то, Воль, разумеется неведомое \я набиралась опыта другими более изощренными способами\. Она ловила взгляды подруги каждый раз, когда она смотрела на своего сына и не знала кому из них умиляться. И ненавидела себя внутренне, что какое-то предательское чувство неполноценности собственной не давало порадоваться за подругу в полной мере. Но чувства мужественно прятались под замок, забывались с новой забавной нахмуренной рожицей или через чур внимательным взглядом темных глаз.
— Не говори глупостей, Соль. Нечем тут гордиться – руки как руки. Гордиться следует мне, он такой замечательный у тебя, — отзывается до непривычности мягко \уже успела забыть, что так вообще умеешь отвечать и разговаривать, не используя при речи отзвуки металла, которые железом оседают на языке\. — Ты очень счастливая, Соль. Мамой стала. Да еще и сын.
— Помню, как я напугалась, когда только узнала. Мне казалось – какая из меня мать, один ветер в голове. А теперь, когда Ук родился не представляю… как вообще без него жила, — Соль улыбнется сыну, агукнет как-то по-своему, а тот снова квакнет, изображая смех.
В тени деревьев прохладно, а держать ребенка под солнцем непозволительно. Бабочки вокруг порхают, Ук внимательно за полетом следит пестрой крапивницы, наблюдает за изящным и крупным махаоном, как за яркими пятнышками, только начиная познавать этот мир. Приходы Соль во дворец что-то вроде новой отдушины в круговерти политических игр и бесконечных принятий решений, тем более когда принцесса берет с собой сына. Соль просит прогуляться, потому что погода прекрасная \а я как-то даже отличать перестала хорошую погоду от плохой\, вырывая Воль прямо посреди дня, вырывая от разговоров с ученым Кимом, раздачи указаний по гарему, за которым, впрочем, все равно остается главенство вдовствующей императрицы, сохранявшей за собой печать и долю уважения.
Соль говорила, что: «Это совершенно необходимо – у тебя нездоровый вид». Может быть у меня кожа стала какой-то серой? В любом случае, принцессе, а теперь еще и матери пятимесячного Ука все были рады. Это будто свежего воздуха вдохнуть лишний раз. Воздуха, который вьется по ту сторону дворцовых ворот.
— Ты счастлива, Соль?...
— У меня есть Ук… я его люблю. И счастлива, — ответит просто, пожимая плечами и пряча невысказанную печаль в глазах за улыбкой медово-солнечной и согревающей. — Знаешь, так странно. В юности, я безумно хотела сбежать из дворца. А сейчас, будто скучаю, как по дому.
По дому. Для кого-то это место дом. Мы скучаем не по стенам. Мы скучаем по людям, оставшимся внутри этих стен.
Ваша сестра, Ваше Высочество всегда умела согревать. Даже замерзшие сердца. Я тоже умела, но мне кажется сейчас сама покрылась какими-то ледяными иголками – не собьешь руками, порежешься. Соль говорит, что счастлива из-за ребенка, девочка, не успевшая полюбить. В каком-то смысле, Воль повезло даже больше – она успела узнать это чувство, а потом успела узнать его вторично.
Стоит сказать, что муж Соль не был плохим или неприятным человеком – один из сыновей чиновника из министерства финансов, старше ее на несколько лет, но доброжелательный с виду, почти что безобидный, относящийся к ней трогательно-бережно, будто разбить боялся лишний раз \а иногда казалось и дотронуться тоже\. Он будто знал, что она его не любит. Не любит, но уважает, как своего мужа, а он уважал ее, как свою супругу. Выйти замуж по любви – сказка несбыточное, почти что чудо. Особенно, если ты из дворца выходишь. Соль достался не худший из возможных вариантов.
— А ты?... А вы Ваше Величество? Теперь, когда стали королевой? Счастливы? Ответь мне Воль. Что-нибудь изменилось?
Воль тыльной стороной ладони, пальцами осторожно и нежно погладит Ука по щечке, поцокает пару раз языком, привлекая внимание малыша к себе. Воль не отвечает, продолжая играться с ним какое-то время, не выпуская из рук, придерживая на руках этот хрупкий момент жизни солнечной, который оживляет и собирает по крупицам то, что растеряла.
Есть ли во мне человечность? Осталась ли? Месть и правда убивает другие чувства, просто в сердце еще одно теплится. Просто из-за него можно жить. И умирать тоже можно из-за него, потому что порой не знаешь – что безысходнее.
— Ну, а у меня есть… дама Шин. Она, между прочим, отлично играет в бадук, — усмехаешься, пытаясь шутить, все равно не можешь похвастаться тем же. Что еще есть у тебя? У тебя есть твои обязанности, которые нужно выполнять, как жене Короля. Вести себя подобающе и сохранять тыл надежным – с этим ты справляешься, иногда содрогаясь из последних сил, но все же справляясь. Но этим как-то не похвастаешься и вряд ли тянет на причину для счастья. У тебя есть ненависти чувство, которое сердце жжет каждый раз, когда видишь силуэт чуть размытый в дворцовых садах, когда Её Величество вышла на прогулку. У тебя есть чувство любви, любви тихой и незаметно для тебя в сердце пустившей корни. Любви ненавязчивой и незаметной, вновь это чувство скорее на кончиках пальцев. Вновь молчи, скрывайся и таи. Но удается вполне успешно – никто до сих пор ничего и не заметил, верно? Не было определенного момента, когда я влюбилась в т е б я, просто внезапно звезды стали ярче и все вокруг отдавало теплом. — Я подумала, кстати. В столице так много детей, оставшихся без родителей. У кого-то отец погиб на войне, а мать одна осталась. А у кого-то их и вовсе нет. А дети побираются – смотреть больно. Все думаю, можно было бы устроить хотя бы что-нибудь вроде места, где им могли бы помочь вырасти. Даже при дворце. Потом из таких людей могли бы вырасти благодарные поданные. А благодарные – значит преданные. Учила бы детей читать, готовить или вышивать. Может быть, тогда я бы точнее ответила на твой вопрос.
Воль и сама знает – насколько идея невозможна, насколько странна в эти годы и осознание этого улыбки не добавляет, но она рассуждает вслух с мнимой беспечностью и легкостью, а потом снова отвлекается на Ука, который, отчего-то, решил скукситься ненадолго, захныкать, хотя ел вроде бы совсем недавно. Вытягиваешь из одеяльца, поддерживая бережно, снова заглядывая в личико. Соль предлагает забрать, а то «раскричится – голова заболит», но Воль останавливает, не отдает, потому что «ничего страшного».
«Дай еще немного на него посмотреть. Ты же не часто его приносишь – вырастит и не замечу. Дай мне еще минутку».
— Воль, тебе бы своего ребенка, — заметит Соль, когда Ук перестает кукситься, а ты усаживаешь на колени собственные. Он может держаться – если поддержишь. Теплый, увесистый уже порядком. — Не чужого.
— Что это наша мама решила нам такое рассказывать, а, Ук? — старательно избегая этого п о н и м а ю щ е г о взгляда Воль продолжает возиться с ребенком, который будто понимает о чем она. — У меня в детях целая нация, а она… правильно я говорю? Айгу, молодец, какой ты молодец, понравилась бабочка? — когда малыш снова улыбнется забавно, а ты притворно увлекаешься, показывая пальцем на пестрокрылую, за которой тот следит уже несколько минут безотрывно.
— Воль…
Просительно почти, будто Соль больно наблюдать за твоей половинчатой радостью и притворными шутками. С министрами и внутренним двором, с женами сановников - проходит на отлично. А с теми, кто умеет заглядывать в душу… увы и ах – нет. Ук выдувает пузырь на губах, ты рукавом собственного ханбока убираешь лишнее, скопившееся в уголках ротика. Поднимет голову, встречаясь с взглядом, в котором читаешь тонну различных чувств и жалость одна из них.
Некоторые говорят, что я могу гордиться – какой сильной стала. Могу гордиться, что похожу на королеву. Соль, я жалко выгляжу, пытаясь храбриться?
— Соль, прошу тебя. День такой солнечный. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы избежать династийного кризиса, о котором говорит каждый, от министра до крестьянина, но…. — не давая себя перебить, голос не повышая, но замечая в этом своем голосе тот самый м е т а л л. «Даже своего человека для этого выберу, или предоставлю это право выбирать. Хорошего человека. Хорошую девушку. У меня же этим летом безнадежность в душе селится, увы». — Но я вполне допускаю мысль, что не буду инструментом в достижении этого. Я вполне смирилась с этим спустя восемь лет. И я не поднимаю эту тему. Хотя бы я не должна давить. «Пусть это очевидная проблема, очевидное препятствие, только я из ребенка не хочу делать инструмент его устранения». — Дети должны рождаться по любви. У меня не будет…
«Может быть моей любви и было бы д о с т а т о ч н о».
Не договоришь.
Мне всегда удавалось различать шаги, отличать один шаг от другого и угадывать – кто окажется за спиной через секунду. С некоторых пор же я спиной чувствую приближение в а ш е. То ли сердце оказывается где-то между лопаток, то ли просто шаги у вас особенные. Я также реагировала, когда знала, что Гон появляется за спиной. Только последующая реакция отличалась. К Гону семнадцатилетняя я поворачивалась порывисто, улыбка по лицу скользила.
Здесь же…
Один. Подбирается, подбирается еще до того, как громкий голос скажет: «Его Величество», еще до того, как вся многочисленная орда служанок и евнухов склонят голову и спины в поклоне уважительном. Еще до того, как он хоть слово произнесет. Воль спиной сидит, поддерживая непоседливого временами Ука все еще. Медленно и спокойно поднимется со своего места.
Два. Выражение лица стоит держать, стоит выдерживать. Но пока еще не повернулась за эти доли секунды успевает пережить слишком много в с е г о. Ты не улыбаешься сейчас, стоя спиной, скорее наоборот – брови дернутся, будто хочешь нахмуриться. Воль глазами поспешно проскользит по пространству перед собой, выдыхая незаметно. Глаза прикрываются, дернется указательный палец правой руки.
Три. Откроешь глаза, разворачиваясь, склоняя голову уважительно, согласно статусу своему и е г о, прежде чем глазами встретиться и улыбнуться – уголки губ взметнутся вверх, будто кто-то дернул за веревочки, а в грудь набирается побольше воздуха.
Вот такие, Ваше Величество сложности. С некоторых пор. С некоторых пор моей жизни.
— Добрый день, Ваше Величество. Сегодня хорошая погода, верно? Я не могла не пойти с Её Высочеством на прогулку, ей же невозможно отказать, — Воль оборачивается к Соль, подхватывая Ука поудобнее и покрепче, потому что т я н е т с я. Забавный.
За это время я научилась не только жечь железом в голосе, холодить собственной категоричностью и прочее, но и умело обходить опасные и острые углы, переводить темы, блистая то ли искусством дипломатии, как мой отец, то ли просто являясь все еще отъявленной трусихой.
Воль говорит так, будто для нее это обыденное дело. Легко, как когда-то, когда позволяла себе хлопнуть по плечу \не позволяю больше – слишком по-детски, слишком выросла и даже это не делает счастливее, даже это загоняет в пучины мне непонятной тревоги и печали. Я печальная королева\.
Соль, склонившаяся в поклоне до этого, распрямится вслед за тобой, прежде чем обнять подойти. Простота объятий – есть в этом какая-то своя прелесть, загадочная трогательность, когда лишний раз не думаешь о том: «А можно ли?...», «А как на это посмотрят?...» и прочее. Разумеется, в объятиях есть прелесть. Я обняла вас лишь раз, будем считать в вашем неспокойном сне, будем считать, что этого и вовсе не было. Меня не обнимал никто, но так, наверное, и лучше – обняли бы не выдержала бы, сломалась бы. А ломать свою защиту я как-то не хочу.
Вы брат и сестра. Я смотрю на вас и не могу не улыбнуться. Был бы жив Вон, несмотря ни на что – обняла бы точно также. Был бы жив мой брат я, наверное, не стала той, кем сейчас являюсь, верно? Но спусковой механизм был сорван и изменения уже произошли. Произошли давным-давно – ее прежнюю не вернешь. Не воротишь. У Вас, после смерти отца кроме Соль, впрочем, тоже не осталось н и к о г о. Вы оправились? Выжили? Вы должны быть в порядке непременно.
Воль стряхнет с себя волну ненужную, мир вернется к своему спокойному зеленоватому сиянию сочной листвы деревьев.
— Раз уж Вы здесь подержите его на руках, — ближе подойдешь, сохраняя лицо ровным, как и голос. Все та же улыбка, все та же ты. — Нет, нет, я настаиваю! Это же ваш племянник. Знаю, все мы заняты в последнее время, но нет ничего важнее семьи иногда. Не мне напоминать об этом, — голос мягкий снова, поддернутый пленкой какой-то печали вселенской, понимания в с е г о, в конце концов той самой мудрости, которой успела набраться.
Ук потянется, глазеет с любопытством детским и пока еще наивным – прелестный, все же, карапуз, барахтающий ножками в воздухе, как только передаешь со всеми предосторожностями, со всей аккуратностью на какую способны твои собственные руки.
На ваших руках он не плакал также, он не плакал вовсе, на вас смотрел с тем же любопытством внимательным, что и на бабочку, засовывая бессовестно пальчик себе в рот, а потом в улыбке губы растягивая внезапно свои и снова «подквакивая» со своим младенческим еще каким-то смехом. Сегодня на чьих только руках побывать не успел, хныкая лишь иногда.
— Нравитесь ему, а? Может быть даже больше чем я, — заходя из-за плеча и посматривая на выражения личика Ука. — Под спинку поддерживайте, да, вот так лучше намного, — киваешь удовлетворенно, бережно и ненавязчиво касаясь е г о руки, переводя руку чуть дальше, а потом также быстро убирая собственную руку.
Наблюдать за вами со стороны – приятно для меня. Наблюдать, сгрудившись вокруг малыша \придворная дама Но все жалуется, что дворец совсем поник без детского смеха\ и славливая моменты теплоты, славливая эту хрупкую иллюзию возможного счастья, почти что умиротворения. Иллюзию, в которой можем держать ребенка на руках поочередно, улыбаться и забывать обо всем на свете. Наблюдать за Вами со стороны, при этом оставаясь ненавязчиво-близко… х о р о ш о. Хорошо настолько, чтобы забыть на какое-то время обо всей своей меланхолии, об опасных омутах бесконечной печали, о грустных мыслях, о взглядах на себя в зеркало. Просто глядя на вас вот т а к. Вы бы стали хорошим отцом. Или сомневаетесь? Торопить… не та вещь, в которой возможно было бы торопить. И именно поэтому мы находим обходные пути. Я же, остаюсь на вашей стороне, где-то около вашего плеча.
Кто я? Королева в маске.
Кто я? Птица в клетке.
Кто я? Я тот, кто всегда на вашей стороне. Не могу придумать для себя названия лучше.
— Прошу прощения, Ваше Величество, — за спиной голос послышится тонкий, негромкий, заставляющий обернуться и понять, что все иллюзии недолговечны и всегда нужно возвращаться на землю. — Из швейной мастерской просили передать, что ожидают Вас.
— Наверное, по поводу новой одежды для служанок – старая никуда не годилась. Что же, значит мне пора, — холоднеешь постепенно, так каждый раз случается, когда дело касается о б я з а н н о с т е й и долго. Воль плечи расправляет. Воль Королевой становится. — Мне придется Вас оставить. Спасибо, что пришла Соль. Хорошего дня, Ваше… — это какая-то предательская пауза, что проскользнет в голосе. Очнись. —…Величество.
Вам бы стоило побыть здесь еще немного, потому что на земле нет ничего вечного, даже семья нас покидает в определенный момент времени. Побыть с семьей, что может быть лучше? Как легко потерять все то, что, казалось бы, дано тебе на всю жизнь.
Шаг по дорожке, вымощенной светлыми камнями \все дорожки уже знаешь наизусть\ между ровных кустов боярышника, а потом… обернешься, находясь достаточно далеко. Сквозь зелень летнюю, сквозь листву и плотную зеленую поросль, все еще можно различить мелькающее красным пятно ваших королевских одежд.
Это было лето, когда я пыталась у й т и.
И не могла.
В ᴄаду поднимался летний ветерок, ᴏʜ, влетая в открытую дверь, приносил с собой то пьянящий аромат сирени, то нежное благоухание алых цветов боярышника. Догорает закат постепенно, по-летнему мягкий. Догорает расплавленным золотом и оранжевыми всполохами, растекаясь лениво и будто бы неохотно по дорожкам, пагодам дворцовым. Закат ласкает последними лучами, медленно закатывающегося за синие горы солнца, крыши скромных домишек мелких дворян и соломенные настилы на домах крестьян. Летний вечер опускался томно-медленно, продолжая пьянить разношерстными запахи, заставляя дышать глубже, вдыхая теплый разогретый воздух, сохраняющий в себе травяное терпкое благоухание.
Доска для бадука, расчерченная тонкими черными линиями вдоль и поперек. По обе стороны чашки с камнями традиционно черными и белыми. Гладкие на ощупь и отчего-то прохладные, если в руке сжать, раздумывая над следующим ходом. Зажимаешь камень между двух пальцев – указательного и среднего, изящно опуская на свободное пересечение линий, улыбаясь уголками губ, будто бы игра идет в твою пользу исключительно – а на самом деле ты практически в безвыходном положении, а учитель Ким, как обычно спокойный и какой-то насмешливый, не торопится сдавать позиции.
«Ошибочно утверждать, что атака должна приводить к окружению и убийству группы. Это ни в коем случае не должно являться для вас целью, лишь приятным следствием» — ученый размышляет вслух, выставляя сразу несколько белых камней на поле. Воль всегда играет черными – они делают первый ход, а для нее опережать – важно.
Атаковать камни противника получается с переменным успехом, да и комбинация на первый взгляд не самая выигрышная.
«Прежде чем нападать посмотрите насколько крепко стоит на ногах ваша позиция. Атакуете вы или атакуют вас?».
Еще один черный камень, понимая, что этот ход ничего не решает, отвлекаясь на смех веселый за окном и восторженно-взволнованные молоденькие голоса наложниц. Переговариваются, шелестят своими легкими юбками, а придворные дамы смотрят на это снисходительно – сегодня можно, сегодня позволительно.
Отвернется.
На первый взгляд ее позиции безвыходны, а учителя Кима еще никому выиграть в принципе не удавалось, да и она еще ни разу за все то время, которое они проводят в качестве с о ю з н и к о в не выигрывала, на какие бы ухищрения не шла – безрезультатно. Ученый может праздновать победу, разваливаясь на стуле, а у тебя осталось всего лишь несколько ходов. Воль вздохнет как-то обреченно, подцепляя камень из чаши.
Поставит, откидываясь назад, прикрывая глаза.
— Боюсь, игра окончена на сегодня, — голос глушится, появляется какая-то истома и откровенная лень, расслабленность в этом безразличии. Жужжит над ухом муха, бьется в деревянную резную раму окна мохнатый шмель.
— Признаю свое поражение Ваше Величество. Признаться, теперь я окончательно поражен. Во всех смыслах.
— Вы просто слишком рано начали радоваться победе, не заметив, что у меня остался такой важный ход, учитель, — улыбнется едва-едва, задумчиво оборачиваясь на все то же окно, за которым смеркается медленно, за которым бьется ж и з н ь.
Лето в самом разгаре, а она — первый снег, прекрасная песня зимы. Ее замерзшее сердце забыло, что такое тепло и любовь. Закрывшись от целого мира, она живёт в своём хрустальном дворце, боясь и ненавидя людей за его стенами. Не всех, но иногда кажется слишком многих.
Что же ты наделал, кай? Твоя герда становится льдом.
Ты выиграла его впервые, неожиданно воспользовалась своим шансом и не пожалела об этом ни на миг. Но если бы, как он сам ей говорил, жизнь походила на бадук, то все опять было бы просто и понятно. А так…
— Этот тот самый момент, Ваше Величество, когда мне уже нечему вас учить. Когда-то ваш отец говорил, что вы учитесь очень быстро – я вижу, что он был прав.
Глаза сощурятся, пропуская рассеянный солнечный свет. Постукивает пальцами по гладкое поверхности столика, на котором и была доска установлена.
— Мне всегда есть чему учиться. Мы можем сыграть еще одну партию, если желаете.
— Сегодня же особенный день, Ваше Величество. И вам тоже стоит отдохнуть. Иногда нужно давать себе время… взять второе дыхание. Да и мне пора домой – мои дочери хотели запустить фонари сегодня. Сегодня всем отдохнуть можно и даже королям.
ㅤ
[float=left] [/float]Около озера непривычно шумно, непривычно громко – хотя обычно здесь тишина и покой, умиротворение на границах меланхолии жизни. А теперь – все запружено этой беспечной молодостью, когда наложницы сгрудившись над бумажными корабликами с фонариками маленькими внутри ожидают наступления вечера, чтобы пустить по воде. На этих бумажных корабликах их желания написаны и все наивно верят – чей доплывет до противоположного берега – той желание и исполнится. По традиции, кораблики запускали в сторону императорского дворца, а Воль толком не знает – правда ли девушки думают, что их желания может исполнить Король или просто надеются на провидение. Особенный день лета, особенный день м о л ь б ы.
[/float]Около озера непривычно шумно, непривычно громко – хотя обычно здесь тишина и покой, умиротворение на границах меланхолии жизни. А теперь – все запружено этой беспечной молодостью, когда наложницы сгрудившись над бумажными корабликами с фонариками маленькими внутри ожидают наступления вечера, чтобы пустить по воде. На этих бумажных корабликах их желания написаны и все наивно верят – чей доплывет до противоположного берега – той желание и исполнится. По традиции, кораблики запускали в сторону императорского дворца, а Воль толком не знает – правда ли девушки думают, что их желания может исполнить Король или просто надеются на провидение. Особенный день лета, особенный день м о л ь б ы.
Шлейф духов с нотками цитруса и меда, бархатная кожа, волосы из шелковых нитей, янтарно-ореховые глаза, мертвые грезы, громкие обещания и приторная ложь на ее губах, когда беседует с чиновниками, которые ей н е о б х о д и м ы. Все та же Воль. Все та же Королева. Нет, не та Воль. Все как-то не так. Сломано. Неправильно.
— А вы запускать не станете? Ни кораблик, ни фонарь, Ваше Величество? — дама Шин, как и ты наблюдает за веселящимися девушками издалека \за ними или же за тобой – не понять\, а ты чувствуешь себя здесь как-то неуютно, почти неловко. Неуютно в этом теплом веселье, когда не получается думать о проблемах, политике, ошибках и прочем – зато в который раз начинаешь жалеть о том времени, когда была похожей на них. Была божьим одуванчиком, который только тронешь – разлетится по полю серебристым смехом мягкий и податливый. А сейчас столько шипов выпустила, что страшно подумать.
— Если и стану, то не здесь. Слишком шумно. Боюсь, мое желание где-то затеряется.
Воль расправляет в руках большой фонарь, ткань розоватая раздувается, а металлический каркас пугающе потрескивает, будто порваться собирается немедленно. Но уверена в том, что достаточно прочный и что должен взлететь. Когда-то давно \я ведь обещала себе, что в прошлое возвращаться не стану, так что со мной с н о в а?\, когда вся столица от мала до велика собиралась на улицах, чтобы запустить фонарик, просто по украшенному Хансону прогуляться, раскладывали на столе в мастерской все необходимые принадлежности и мастерили собственные фонари. Вон занимался каркасом, остовом, а Воль умело обклеивала их цветами и вырезанными из цветной яркой бумаги бабочками и птицами. Их фонарики из года в год на себя внимания обращали – птицы выглядели как живые, а цветы казалось вот-вот аромат источать начнут. Бабочки объемные примостившиеся на этих цветах могли бы вспорхнуть и взлететь – не меньше. И когда дело касалось желаний, то Вон постоянно хмурил брови и отбирал у нее кисточку, заявляя, что если будет писать так много, то не исполнится ни одно и «Что тогда будешь делать? Пиши одно, но чтобы самое заветное или ничего не пиши – жадная какая». Воль свой фонарик забирала из цепких, загребущих рук брата и все равно продолжала писать то, что приходило в голову.
Ночь загадывания желаний, ночь, когда над столицей тысячи фонарей разных мастей поднимались в небо. Люди просили у небес \надеясь втайне, что долетят вовсе не до облаков, а до крыши все того же императорского дворца\ кто повышение в должности, кто преумножение богатства, кто-то просил сына, потому что у него как на зло одни дочери рождались. А кто-то просил лишнюю плошку риса, чтобы накормить своих пятерых детей, кто-то умолял о лекарствах и выздоровлении. Кто-то не умел писать, загадывая желания про себя или же не прося ничего вовсе, когда надежда угасла, а небеса стали проклятьем. Сегодня тоже сотни фонарей в небо поднимутся, словно звезды теплые. Сегодня тоже будет праздник, сегодня тоже люди будут п р о с и т ь.
У нас с вами просить. И я тоже должна что-то попросить, разве не таков обычай?
Все еще держишь этот фонарь в своих руках, а вокруг никого, а вокруг тишина, прерываемая ленивым кваканьем лягушек и шелестов ветра в кронах старых высоких деревьев. Около пруда всегда народу проходило меньше, а еще отсюда ближе всего до старого заброшенного давно выхода из дворца. Выхода, что у другой стороны от ворот.
Обе руки цепко фонарик удерживают по обе стороны, а глаза к небу поднимаются. Знаете, о чем на мгновение подумала? Было бы просто прекрасно, делай я это не одна. Было бы просто прекрасно – окажись вы в этот момент здесь, но только у королей ведь много дел, да и с чего бы вам…
«…завоевать сердце своей жены».
Это было до того, как случилось то, что случилось. Весь этот ад наяву и бессонные ночи в неизвестности я бы предпочла забыть, а что-то забывать не хочется.
Ваше Величество, я напоминаю себе собирателя. Я собираю редкие счастливые воспоминания, слова, фразы и прикосновения в коробочку, где-то внутри своего сердца, а потом, когда особенно тяжело становится – достаю их оттуда и любуюсь. Это как из книги доставать засушенный листок с дерева или ветку душицы, сохраняющей еще свой аромат, где-нибудь зимой достать, согреваясь теплыми воспоминаниями о прошедшем лете. Благодаря этому можно жить. Не знаю, что со мной в последнее время. Не понимаю.
Задумываться надолго – опасно слишком, даже тогда, когда фонарик в небо пытаешься запустить. Ослабляешь пальцы, а ветерок шаловливый мгновенно подхватывает, выхватывает и уносит его совершенно не в ту сторону. Даже зажечь не успела фитиль – куда как хорошо.
Какой-то наивный детский вздох разочарования вырвется из груди, когда увидит несчастный фонарик к кроне дерева. Ветер отнес его совершенно недалеко, запутав в ветках и оставив покоиться там. И какая-то детская решительность заиграет, упрямство почти, какой-то протест в груди поднимется.
Я устала, что все получается не совсем так, как задумано. Я устала проигрывать собственной судьбе. Не выйдет.
Задирает голову кверху, всматриваясь в зелень листвы, где розоватая ткань еще видна, подбирается. Юбки тяжеловатые, тянут к земле, приходится приподнимать, прежде чем подтянуться, зацепиться рукой за шершавый ствол и первую ветку. Получается далеко не сразу, забавно пропыхтишь. Девчонка ты что ли, ей богу? А пусть и девчонка. А пусть и глупости это все, но неужели хотя бы один раз нельзя себя т о й почувствовать, другой. Да и фонарь никак иначе не достать, да и потом… а разве есть кому-то дело, здесь и нет никого. Кроме тебя никто узнать не должен.
Воль забирается выше, оказываясь уже, наконец, в нескольких метрах над землей – следующие ветки, а туфли дорогие то и дело как-то неловко соскальзывают. Опасно гнется ветка, трещит старое дерево под тяжестью неожиданной, а ты все карабкаешься упрямо вверх, пока, наконец рука не нащупает необходимое и не выдохнешь с облегчением. Не выдохнешь, пока не развернешься обратно, глядя вниз.
Я видела ваше лицо на этот раз сверху-вниз, застывая то ли от неожиданности, то ли от неловкости всей этой ситуации, но в первую секунду не произнося ни слова, просто смотря на вас, а вы смотрели на меня \сложно на этом дереве меня не заметить, еще и обсыпается все\. Отсюда до вас – метры расстояния. Неловко все же. Неудобно как-то, теряешь всю королевскую стать сейчас в этот момент.
Наверное, я слишком громко пожелала тогда, чтобы сегодня не остаться в своем особенном одиночестве, о котором толком никто не знает. Иначе… зачем вы здесь?
Кашлянешь, прочищая горло, судорожно стараясь правильно все объяснить и слова подобрать тоже п р а в и л ь н о. Воль все еще держится за злосчастный фонарь, который секунду назад был чем-то настолько желанным, а теперь превратился в скорее смущающую деталь.
— Что? Удивительное зрелище, верно? Королева на дереве, — голос не дрогнет, повысится только слегка, а плечами пожмешь легко и будто бы непринужденно. — Я не сошла с ума, не переживайте – просто нужно было забрать кое-что мое. Да и вряд ли я должна кого-то волновать.
А в это мире не так уж и много моего по-настоящему. Я должна была вырвать хотя бы это. Хотя бы. — Возможно, вам стоит серьезно подумать над тем, чтобы развестись со мной, — где-то в глубине души, на кончике языка проскользит предательская обида непонятно на что. Решила вспомнить, что ты женщина? Решила вдруг все вспомнить, пока спускаешься осторожно, разворачиваясь спиной. Ветки дрожат. — Вдруг снова удумаю что-то такое, боюсь, не поймут и тогда…
И тогда ты не договоришь свою странную тираду \а мне просто нужно было что-то говорить, я чувствовала себя и правда словно девчушка, которую на месте преступления застали – не иначе\. Ветка предательски хрустнет – слишком старая, слишком ветхая, а ты слишком увлечена своим разговором, своими мыслями, чтобы наступать на более крепкие ветви. Хрустнет, разломится под тяжесть тела, а ты только выкрикнешь что-то нелепое и испуганное одновременно, прежде чем перестать ощущать под ногами хотя бы что-то устойчивое и ухнуть вниз совершенно натурально. Зато фонарь держала плотно.
Воль даже глаза, до этого по инерции зажмуренные плотно раскрыть не может с р а з у, утыкаясь носом в плечо, подрагивая от вполне понятного испуга и неожиданности собственного падения. В волосах застрянут листья случайные – волосы растрепанные, из гладко причесанных до этого спереди выбиваются беспорядочно, отказываются прямыми быть.
Воль понимает как-то не сразу, что умудрилась не удариться, что умудрилась не встретиться с землей. Наоборот – ты все еще находишься в воздухе, по крайней мере ноги до земли не достают совершенно точно. Глаза постепенно открываются полностью.
И лучше бы я их закрытыми держала. Взгляд с удивленного срывается на посерьезневший какой-то, туманящийся, а руки все еще держатся за плечи.
Я, когда падала, не думала, что вам в руки упаду.
Ресницы длинные почти что щеку щекочут, а дыхание ощущаешь физически, опуская веки – не смотреть. Да разве меня хватит надолго, если я все еще л ю б л ю в глаза смотреть? Да разве меня хватит надолго, если я свое сердце слышу, чувствую, как в груди бьется и боюсь неожиданно, как бы вы его не услышали. Нельзя. Совершенно нельзя.
Так почему… сама не отпускаешь, сама пальцами сжимаешь плечи, а шелк под руками мнется.
Давай, расскажи мне, каким беспорядком ты являешься, сколько, как ты думаешь, у тебя недостатков и как много ошибок ты совершил. И наблюдай, как я люблю каждую частичку тебя и говорю тебе об этом. Просто посмотри, что мне… просто все равно, что у меня все еще проще. Но не станешь рассказывать об этом, потому что у тебя сложнее. Потому что у тебя есть слишком много дел, которые важнее моих глупых и скрытых чувств. И у меня тоже. Я такая же неидеальная, как и ты, так что можешь показать мне свои шрамы. Я не стану любить тебя ни каплей меньше. Мы казались мне все еще разбитыми людьми, чьи осколки подходили друг к другу острыми краями, о которые можно было бы порезаться. Я смотрю в твои глаза и понимаю это, я смотрю в твои глаза и пропадаю привычно и бесславно. Я смотрю в твои глаза, наблюдая молчаливо за тем, как меняется выражение, сказать что-то ужасно хочется.
Иногда мне так о многом хочется рассказать, обо всем, что вообще тут происходило и о том, п о ч е м у так больно в груди, почему сердце болит т а к. Но вместо этого молчу. Молчу, глаза темнеют, губы выдыхают летний вечерний воздух.
— Хорошо, что пришли. Поймали ведь, — спокойно удивительно, констатируя факт, сжимая сердце в тиски и не выпуская наружу ничего лишнего. Королевы это умеют. — Отпустите меня. Теперь.
Не правда, не верьте, не отпускайте. Я отпустить говорю, даже глаза непроницаемыми становятся, а я не хочу, может быть, чтобы отпускали, понятно ведь, с каким порой отчаяньем цепляюсь, а руки все равно соскальзывают.
Почувствует под ногами землю наконец, опускаясь быстро, чтобы фонарик с земли поднять, отряхиваешься.
Беспорядок на голове и еще больший в мыслях, когда толком не знаешь что делать и как, руками приглаживаешь волосы и откровенно ругаешься сама на себя за то, как нелепо выглядишь. Как все глупо.
Треплется ветер, захватывает завитушками волосы с запрятанными теперь в них листьями, которые даже не замечаешь – не по глазам. Глубокий выдох, спина выпрямится.
— Вы ведь все равно пришли. Не хотите запустить? Как раз стемнело. Это вроде бы традиция.
Я просто не хочу делать это одна.
Если посмотреть на небо – не увидишь звезд, плавно летят разноцветные сияющие огоньками теплыми точки куда-то прочь, но многие в сторону дворца. И кажется, будто ветер приносит шепот людей, рассказывает написанные на фонариках желания, а твой был… девственно чист, когда отпускала в воздух, задумчиво взглядом провожая.
— Не удивляйтесь, что полезла за фонарем, на котором ничего не было, — глядя в небо, следя за полетом все того же розового большого фонарика \вдвоем держать такое удобнее\. — Мои желания все равно не сбываются.
Никакие. Ни уйти отсюда по началу, ни улыбку вашу увидеть, ни добиться для себя спокойной жизни – да ничего. Если не считать вашего выздоровления, разумеется тогда. Тогда это было чудо или же я просто очень сильно старалась. — Я доставала его не ради желания, Ваше Величество. А ради возможности его загадать. Несправедливо, если отнимают даже такое. Если судьба такая, что все обрывает. Нам стоит быть самим хозяевами своей судьбы, верно?
У меня судьба жестокая – то скалится, то улыбается. То манит светлыми горизонтами, то закрывает все проходы. Шаг вперед. Два назад. Какой-то странный танец, а я, пожалуй, устала безумно.
Темнеет все окончательно, но свет от все еще летящих в небе фонарей достаточно яркий, чтобы освещать все вокруг, чтобы не чувствовать себя в темноте этого света вполне достаточно. Откуда-то издалека смех все еще раздается и переливается, как камни в шпильках и заколках, которые норовят из волос выскочить.
"Мое сердце устало", положив руку на грудь, пытаясь убедить саму себя, что сердце все еще бьется.
Но я просто не могу остановиться. Я не могу прекратить заботиться и любить. И этого более, чем достаточно. Это как дышать, как глоток воды. Как будто бы я потеряю его, если перестану думать о том, как он. Я все еще живу этой фантазией, но реальность продолжает напоминать мне, что мир не крутится вокруг него. Это прекрасно, но губит одновременно. Но теперь, все, чего я хочу - это очнуться от этого сладкого сна. Может быть фонари и легко с веток деревьев доставать, а вот тронуть чужое сердце – н е т. И судьба здесь всегда была против н а с.
Я никогда не понимала, почему в этом мире все настолько несправедливо. Все расположено так, что одним приходится жить, а другим выживать. Люди зовут это странным словом — судьба. Будто все, что случилось и случится, уже предрешено заранее. Одни рождены быть счастливыми, а другие — несчастными. Но отнести себя ни к тем, ни к другим я не могла. Я была чем-то особенным в этом порочном замкнутом круге. Будто нулевой точкой отсчета. Я всегда была счастлива настолько, насколько была несчастна.
Иногда страдание – это просто бремя, которое не делает тебя сильнее, не создает твой характер, а просто уничтожает тебя изнутри. Оно просто причиняет боль.
И пока фонарь не скроется из виду окончательно, пока все фонари над головой не пролетят – с места не сдвинешься.
Голова клонится, тяжелеет неожиданно, усталость какая-то нападает. Может сама заболела, уже два года отличаешься отменным здоровьем, так почему бы не заболеть в самый разгар лета? Не покачнешься, только голова упадет на плечо, упадет как-то устало.
— Просто потерпите, я знаю, что у меня голова тяжелая. Дайте мне несколько минут – пройдет, — веки прикрываются устало, будто сонно.
Будто вся эта атмосфера, будто все эти светлячки над прудом начинающие порхать, затихающие постепенно в деревьях птицы, а в камышах лягушки – твоя лучшая панацея и колыбельная. — Красиво… — одними губами шелестишь, почти что улыбаясь \вроде бы не разучилась.
А у тебя в волосах листья и цветы. А за тобой все еще тянется аромат меда.
Это было лето, когда я пыталась не быть близкой.
И не могла.
Ты закрываешь глаза и вспоминаешь, как тяжело тебе пришлось за эти годы. В твоей памяти отчетливо рисуются картинки прошлого: пустые качели как символ одиночества, опавшие листья как символ разлуки, грустная песня — олицетворение боли.
Тебе хочется стать птицей. Бросить все, проститься с землей и взлететь высоко-высоко — туда, где полупрозрачные облака, обнимаясь друг с другом, плывут на зов солнца.
море волнуется раз — усни.
море волнуется два — лети.
море волнуется три — проснись.
Поделиться32018-01-16 18:34:47
Дрожат кончики пальцев, дрожишь сама в каком-то немом возмущении и почти что отчаянье, когда порывисто поспешно уходишь прочь, как только последняя цветастая юбка исчезает из поля зрения, как только последняя из жен министров исчезнет, а ты проводишь их улыбкой до того ласковой, что не заслужили, ты раздраженно покинешь это поле б о я. Потряхивает.
«Не стоило ожидать от Вас ничего другого, но как же я, клянусь небом, устала».
Наладить связи с этими дамами – сложно на самом деле. Они улыбаются тебе и привычно справляются о здоровье, а за глаза говорят совершенно иное. Они поглядывают на тебя со сдержанным страхом, но и без должного уважения. В последнее время, впрочем, дела шли в гору, верно? Разговоры \на самом деле разговоры ни о чем, но я умею притворяться, что меня это интересует\ после чайной церемонии, какая-то мелкая показушная благотворительность, которую ту благодушно поощряешь \хотя бы какие-то из денег пойдут в нужные руки, а не на очередной бесполезный отрез дорого атласа и шелка\, мода, кулинария – что угодно, лишь вскользь касаясь политических дел. Общественным мнением можно управлять. Можно влиять на то, что они будут рассказывать своим мужьям только вот… Вдовствующую Императрицу в этот день солнечный никто не приглашал. Она и сама этим обыкновенно мало интересовалась, а здесь… А здесь ей просто необходимо было высказаться, будто бы невзначай, когда все темы кончились.
— Госпожа Чхве, у вас же родился сын? Завидую. Право слово, я тоже жду внуков, но небеса жестоки. Кому-то дают детей, а кому-то не дано родить никогда…
Шепоток. Ты чувствуешь его кожей, спиной, позвоночником, по которому разряды бегают. Ты чувствуешь, как она недвусмысленно при всех намекает уже не на то, что кто-то не торопится, а на то, что не можешь. Слухов и без того было достаточно, но вот теперь…
«А вы что думали, Ваше… В е л и ч е с т в о, что так все просто будет? Иначе пойдут слухи о вашем муже, трон пошатнется. Так что пострадать придется вам. Бесплодие не грех».
«Я. Не. Бесплодна».
«Но детей у вас нет.
А слухи расползаются, словно тени после полудня. Стремительно.
Кто разносит их лучше, чем женщины, верно? Тебе ли не знать?
— Об это говорят все, кому не лень так? — кривая усмешка, достойна твоей маски, когда остается одна, а дама Шин молчит. — Я старалась как могла, дама Шин. Себя заново перекроила. Я следую всему, что мне говорят, но хватает одного слова и все катится в а д. Я устала делать шаг вперед, чтобы потом круг назад пробежать. Я устала.
— Ваше Величество…
— Величество,— усмешка еще одна. — Мое Величество, пожалуй, сегодня выпьет.
— Исключено, Ваше Величество.
— Оставьте меня на сегодня. Чтобы я никого не видела. И не спорьте. Если мое слово еще имеет вес в этом… дворце.
Оставьте меня все. Это невыносимо. А вино всегда было таким… горьким?
Шаг. Мутное сознание. Икаешь. Еще один. Пошатываешься, покачиваешься в разные стороны, напевая себе под нос что-то забавное, мурлыкая почти. До раскрасневшихся щек и до абсолютной дезориентации в пространстве. Тебе пить нельзя, точно нельзя – не переносишь слишком много, а тут целый кувшин был. Удивительно, как на ногах держишься или раздражение и отчаянье тебя поддерживают еще как-то? Озеро знакомым пятном размытым мелькнет перед расфокусированным взглядом. Ухватишься за дерево, икая непосредственно.
Я выгляжу забавно, а в душе все разрывается. Я зачем-то хохочу громко, пьяно до ужаса неприличия. Безразлично.
Поскользнёшься на ровном месте, падая куда-то в траву, а берег у озера илистый и скользкий, вода лижет подол платья и мочит руки. Одежда от соприкосновения с водой тяжелеет. Еще и искупалась. Куда как хорошо. Барахталась бы еще какое-то время, разглядывая луну прозрачную над головой, если бы кто-то почти что грубо, с силой из воды не выцепил, подхватывая под руки. А вода струйками с дорогого платья стекает на песочные дорожки каплями крупными.
Взглядом все еще достаточно хмельным, чтобы еле разбирать л и ц а его узнаешь. Хохотнешь зачем-то, а сердце вполне трезвое ухнет куда-то.
— О! Мой муж! Вы снова меня спасли! Какая неожиданность! — всплескиваешь руками, снова покачнешься, упираясь неловко ладонями в грудь, выравнивает положение тела, а потом палец к губам прикладывает. — Только это секрет, что вы меня тут видели, а то меня потом закроют где-нибудь, меня так закрывать любили… — икнешь, а потом растянешь губы в улыбке.
Я буду жалеть о каждом сказанном слове, о каждом жесте этой ночи. Обо всем будешь жалеть и об этом срыве тоже.
Воль покачнется, руки на плечах собственных почувствует, попытается отмахнуться слабо, но бесполезно – если поддерживать никто не будет ты наверняка снова в воду упадешь чего недоброго. Разворачивается так резко, что в глазах потемнеет. Глаза в глаза. Склоняет голову набок, руки в сторону расставляя, не давая пройти. Не давая себя под руку взять и хохоча. Где-то в глазах слезы застрянут. В уголках глаз соберутся, а ты смеяться взялась. Безумие.
— Глаза у вас… красивые, — утвердительно, хмуря брови неожиданно. — Вот этот взгляд… ой, терпеть не могу. Ну и зачем вы так смотрите? Нельзя так на меня смотреть! Запрещаю. Или мне нравится?... — мгновенно с самой собой диалог начиная. — А я вам такой не нравлюсь? Не нраавлюсь, я вижу, — глаза сощурятся, рисовое вино даже запахом уже пьянит. — А я вот себе нравлюсь. Я умная, я красивая, а еще характер хороший, — по-детски почти пальцы начинаешь загибать, надувая губы. — Только я ненастоящая королева, но это, — снова палец к губам прикладываешь. — секрет тоже – не выдавайте, мм? — ладони к лицу, прикрывая глаза, покачиваясь и по инерции цепляясь за плечи. — А знаете, почему я напилась? Я хотела друзей завести! А со мной, — усмешка сквозь пьяный дурман болезненная. — никто дружить не хочет. А помните, как вы сказали, что тоже не хотите? Я запомнила. Я всёёёё, запомнила…
Я запомнила, что у меня нет шансов. И зачем я об этом вспоминаю сейчас? Почему когда пьянею неизменно, будто ребенок малый? Просто душа рвется. Из груди.
Пройдешь еще несколько метров, подталкиваемая настойчиво, но снова остановишься, подхватывая под локоть совершенно по-свойски. Подхватывая, потягивая в свою сторону, перевешивая.
Не знаю, куда буду взгляд прятать при следующей встрече.
— А вам помощь не нужна? Я писать умею, очень хорошо умею! Вы сказали: «Если заняться нечем», а мне и правда нечем было, я просто… морозником умывалась. А еще я писала письма! Знаете, сколько я писем написала? Много-много писем. А потом они исчезли! — пожимаешь плечами, отпуская руку и вырываясь вперед, ощущая теперь неожиданную легкость во всем теле, а потом дожидаешься, когда тебя нагонят и берешь за руку, ладонь рассматриваешь как-то очень внимательно, большим пальцем по линиям жизни проводишь.
если бы этот мир не был таким жестоким, наверное, любовь не имела бы ценности. я бы не держала твою руку так крепко, если бы не боялась, что ты отпустишь ее утром. если бы время не отбирало у нас надежду, сожаления не заполонили бы наши сердца. если бы счастье не имело сладкий привкус, боль не измерялась бы горечью. если бы слезы помогали преодолеть беды, если бы бог услышал нас, возможно, мы смогли бы справиться.только слезы — всего лишь избыток соли в глазах, а бог умер давно.
— У вас теплые руки. Говорят, у хороших людей теплые руки… Я когда Вы болели протирала руки вам, они горячие были… Ой, а у вас шрам должно быть остался? Вот где-то здесь, — ладонью свободной, которой за руку не держишь проведешь по грудной клетке, где-то на сердце останавливаясь. — Да-да, вот здесь это было… — задумчиво, а голова покачивается. Улыбка становится на какой-то момент грустной, а взгляд серьезнеет. Встрепенешься, напуская на себя снова этот бестолковый вид. — А еще Вы мое желание не выполнили! Так сложно? А я красиво танцевала? Наверное отвратительно. Поэтому я больше не танцую и не буду никогда. А вы сказали, что я привлекательная, я помню! А почему? — нахмуришься непонимающе, качая головой. Губы надуваешь. — Почему вы так сказали… а давайте проверим?
Воль подходит ближе, улыбка с губ не сползает, когда совершенно неожиданно за воротник не ухватится, не встанет на носки мокрых туфель, чвакающих отвратительно. Вы все же выше меня, а я всегда была низенькой до смешного. Воль к лицу приблизится на расстояние близкое-близкое, опасно-близкое. Да расстояния почти нет, губы губ почти касаются, кончиком носа прикасаешься, как только голову чуть влево отведешь до щеки. А только потом в глаза посмотришь и посерьезнеешь, находясь впрочем еще в каком-то дурмане легком, но понимаешь, что происходит все в реальности. Выдохнешь. Тут еще один шаг и пропасть и дыхание в дыхание и… полет куда-то в бездну. Тут снова одно движение.
Ты кажется трезветь начинаешь.
— Нет-нет-нет, — грозит себе пальцем, лицо отдаляется. — не буду делать ничего, не бойтесь. Я же все помню, — усмехнешься, но уже грустно. Руки все еще на плечах. И как только отстранится попробует ее лицо мрачнеет. А губы неожиданно совершенно проговорят: — А я не отпускала, — снова приближаясь. Снова в глаза всматриваясь. — У меня еще есть вопрос. Вы когда меня позвать к себе хотели тогда… вы… поговорить хотели? Я все понимаю. А почему потом не звали? Я люблю отвечать на вопросы. Очень.
Отпускаешь так же резко, как и приближаешься, прежде чем что-то в голову ударит окончательно. Потемнеет в глазах, за виски ухватишься.
— А помните, когда мы впервые встретились?... — прежде чем сознание потерять, то ли от вина все того же, то ли нежелания в реальности находиться и падая то ли на землю, то ли снова в чьи-то руки.
Это было лето, когда я очень хотела все рассказать.
И не смогла.
Дама Шин хмурится. Поджимаются тонкие губы. Появляется складка на лбу болезненная. Ее комната никогда не была большой, в отличие от остальных старших придворных дам. Ей не нужно было много пространства, чтобы засыпать и просыпаться. Ровные стопки книг на полу и непременный чайник и чашка – нет никого, кто заваривал бы чай лучше, нежели дама Шин.
Черён качнет головой, устало прикрывая глаза. Где-то в другой комнате оставила ее, накрыв одеялом \снова уснула за письменным столом, Ваше Величество, когда вы пытаетесь забыться, вы начинаете работать вдвое больше\ и погасив свечу, обросшую воском. Шин Черён думает. Размышляет бесконечно – что стоит предпринять, но сколько бы не искала ответов – находится лишь один, простой и сложный одновременно. А если этого не сделаешь, то к чему приведет?
Сама учила и поучала, что во дворце нельзя ни к кому привязываться. А сама что же?
Просто Вы, Ваше Величество без меня пока не справитесь сами, взваливая на себя крест, ношу которого можно и разделить.
Ваше Величество, вы меня простите я надеюсь за самоуправство, за нарушение всего, но смотреть на то, как снова погасаете медленно… не могу.
И когда войдет в покои, неслышно, бесшумно, доставая из дальнего ящика то самое письмо, которое когда-то напугало до полусмерти, оборачивается к Воль, к Королеве, все еще спящей удивительно крепко на этот раз.
— Так нужно, Ваше Величество. Так нужно… Воль.
Выверенными шагами, не отвечая на поклоны в свою сторону от служанок, которые при виде тебя до сих пор в разные стороны рассыпаются. Сначала сама хотела написать письмо, а потом поняла, что писать слишком долго, а отчего-то времени ждать больше нет, да и без подготовки отлично справишься – ты была свидетелем в с е г о, ты видела в с е \наверное многое предпочла бы, как и она забыть, да возможно ли?\.
Шире шаг. Быстрее и увереннее.
Времени все еще не так много, а разговор не из легких.
— Добрый вечер, Ваше Величество. Простите, что посмела побеспокоить, но мне нужно кое-что вам рассказать.
Когда позволяют подняться, когда в глаза посмотришь о т к р ы т о предательски узнавая в этом взгляде другого человека когда-то, человека которого н е т уже и которого должна была ненавидеть. Не смогла. Королем быть тоже трудно, верно? Но вы справитесь, а она не такая сильная, какой кажется.
Мне нужно кое-что вам рассказать. Историю длинною в восемь лет. Историю, герои которой вам известны, а финал пока еще скрыт – никто из нас не знает — каким он будет. Но у меня в руках письмо, которое пугает и заставляет даже мое сердце сжиматься от этого отчаянья. Письмо, которое обреченностью своей участи сквозило. Жаль, не сохранилось и н ы х. А их было множество. Множество писем, которые все как одно грустные. Она грустная Королева, Ваше Величество.
— Возможно, Вы слышали, что случилось не так давно на той встрече с женами министров, Ваше Величество. И возможно заметили, что многое изменилось, в особенности ваша жена. И то, что случилось вечером ранее… связано с этим. Но я буду говорить не совсем… об этом. Есть то, что вы должны узнать прежде, чем я посмею попросить у Вас об одолжении снова. Мне нужно рассказать это Вам, потому что она сама никогда не подумает, а может быть давно стоило попробовать пожаловаться. Но она всегда говорит: «неуместно». А переживать такое в одиночку… не каждый справится. Прежде чем случится что-то, чего я боюсь, я расскажу вам в с ё. О том, что такое жизнь во дворце, если ты… неугодная женщина.
Да-да, именно женщина. Когда она сама появилась во дворце, когда встала на королевском пути, то беззащитной оказалась, ловила скупые счастливые моменты, могла бы стать матерью, да не вышло. Могла бы быть любимой, но оказалась преданной. Заледенела. И не она одна. Женская судьба во дворце в основном незавидна, а нам ли с Вами верить в чудеса?
— Я начну с того момента, когда она только попала сюда. В семнадцать. Ваша жена была милой девушкой на самом деле и до нельзя любопытной. Постоянно задавала вопрос: «Почему нельзя?», а спорить не любила. Такая светлая искренняя девочка – таким, Ваше Величество нельзя во дворец. Здесь нужно выживать, кусаться и царапаться, а у нее когтей в то время не было. Вырастили. И способы, которым учит дворец своих обитателей… жестоки. Особенно, если встать на пути у вдовствующей императрицы. Ей ваша жена по многим причинам не нравилась и мешала. Мешает.
Это было осенью, спустя пару месяцев после вашей свадьбы. Ей дали выпить чай. Ваше Величество, что вы знаете о чешуйках карпов наших, которые выращиваются в пруду и считаются гордостью императоров? Когда-то, с помощью этих чешуек, если Вы загляните в хроники дворцовые, в гаремах наказывали непокорных. А в Японии так проводят обряд посвящения в древний воинский орден «молчаливых». Чешуйки карпа… с зазубринами. Выпьете такой чай с тремя лепестками – лишитесь голоса на неделю-другую. А если с пятью и больше, может быть… вообще разучитесь разговаривать.
Её Величество… нет, ваша жена, — голос становится чуть тише, будто бы чуть мягче. Да-да именно так. Не безликий ранг. А человек за ним. — выпила такой чай. По своей наивности она не знала, что в нем. По своей наивности она даже за него поблагодарила. Почему ей его дали? Она вступилась за меня. Ваша жена. А многим во дворце не нравится, когда мнение высказывают о т к р ы т о. А когда знают, что при этом человек беззащитен – набросятся, ощущая превосходство. Именно поэтому во дворце, как я ей говорила: «Ни к кому нельзя так просто проявлять свою доброту. Нужно следить за каждым своим шагом, будто по тонкому льду идёшь. Вот так и нужно жить». Сейчас она эти уроки хорошо запомнила, а тогда не могла. Вы, возможно не помните, это было так давно, но в то время она стала очень молчаливой не потому, что не хотела с вами поговорить. Она не могла. После такого чая кашляешь кровью еще какое-то время, а есть можешь только очень жидкую пищу. Дворец отлично встретил её. Ваше Величество. Теперь, если она простужается у нее прежде всего страдает горло.
Воль прикладывает руку к горлу и когда сглатывает болезненно морщится, потому что жжет невыносимо. Если ее что-то сильно рассмешит \обычно это Соль или же евнух Ман\ то потом все равно кровь сгустками вылетает, остается на ладонях, а ей жизненно-необходимо становится в такие моменты увидеть кого-нибудь близкого. Хочется к маме, которая наверняка что-нибудь придумала. От вида жидких куриных супов, в которые даже мясо не клали – лекари говорят нельзя, проглотить не сможете чего-недоброго. А так хочется чего-то по-настоящему вкусного, а еще лучше сладкого. Сушеной хурмы с сахарной пудрой, а может быть тток разноцветный или же хотя бы рис, но даже его из-за зернышек есть как-то затруднительно.
Воль смеяться может, но это мало на самом деле похоже на смех, скорее какой-то бессмысленный набор звуков. Говорить пока не выходит – только сипеть разве что, молчаливой с улыбкой принимая какую-то поддержку, с головой уходя в книги и прогуливаясь по дворцовым садам в каком-то гордом одиночестве, успев за это время дворец наизусть выучить. А еще она совершенно привязалась к оранжерее – ничего не поделаешь, как однажды почувствовала себя там с в о е й, так и не смогла от этого чувства отделаться. И если по началу проходила туда с какой-то опаской и нерешительностью \вдруг пошутили, а я восприняла предложения всерьез, вдруг передумали туда меня пускать, мне дама Шин сказала, что это место запретное и только для Вас, но вы же мне сами сказали, верно?...\, а потом все смелее и смелее, шмыгая за дверь и пропадая в цветах, травах и деревьях.
Здесь она могла читать стихи \правда про себя, вслух… голос не позволял\, могла пытаться зарисовать что-то \не умею, скверно получается\ и, разумеется, за цветами поухаживать выходит. И никто не гонит, не говорит «нельзя», здесь можно вздохнуть. Может быть даже счастливо вздохнуть. Воль обещает себе, что «все пройдет», когда чувствует снова жжение в груди. Лекари говорят, что промывание должно хотя бы немного помочь горлу ободранному, но гарантий никаких.
«На самом деле ничего страшного, если я не смогу говорить. Я все равно это не часто делала. Не страшно ведь?»
А оказалось – очень даже с т р а ш н о.
Сорняки оказались какими-то непослушными до ужаса, когда пытается вырвать вездесущие одуванчики, которые даже сюда умудрились проникнуть. Воль поджимает губы, прикусывает от старания, когда дверь скрипнет, откроется. Подскочишь от неожиданности, отряхивая руки. Отряхивая, взглядом встречаясь с другим.
«А знаете, когда мы вот так встречаемся взглядами я вспоминаю все еще тот день. Вот в эту первую секунду, когда они пересекаются, я понимать начинаю, что не ошиблась ни разу. И что тогда это Вы были. Я думала, мы все же поладить с м о ж е м. Сможем ли?»
Неловко руки заламываешь собственные, склоняя голову в поклоне уважительном. Силишься было поздороваться, но лишь хрип бессмысленный из груди вырвется, заставляя пожалеть обо всем на свете и замолчать неловко.
И тут ты понимаешь, что не сможешь ответить ни на один вопрос.
А у вас, тогда было действительно х о р о ш е е расположение духа.
А вы, наверное, решили, что я говорить с вами не хочу. Может быть я сама виновата в этом – отворачивалась постоянно. Но это не из-за этого.
А вы уходите? Но постойте. Я ведь ничего сказать не успела, я просто не могу. А вы остаться не можете, здесь иногда очень одиноко бывает, а вы уходите? Не уходите, я бы могла просто послушать, но я даже признаться не могу.
С тех пор, когда этот чай выпила – мы и не виделись с вами толком, у вас другие дела были, я все понимаю, я все помню, но мы могли бы быть людьми? А вы уходите. Я хочу задержать, но вымолвить и слова не могу. А вы уходите.
Дверь скрипнет.
Ушли.
А мне почему-то плакать хочется.
— Слава небесам, она поправилась, как видите. Её Величество любит птиц, вы знаете. На ее первый День Рождения во дворце ей подарили птичек певчих. Своих собственных, чтобы заботиться могла. И она заботилась, мне кажется, это тоже была для нее отдушина в то время. Они красиво пели по утрам и вечером, а еще на руках у нее свободно сидели или же на плечах – дивное зрелище. Наверное, она казалась слишком счастливой тогда, когда их кормила, Ваше Величество, иначе почему мы, однажды утром их мертвыми обнаружили. Гадать, кто это сделал бесполезно – оставалось только служанок ответственных наказать, но не думаю… что здесь их вина была. А ваша жена… больше на птичню не могла ходить. Привязалась. Живые же существа. Птицы – это такая малость. И это так много значило.
Проснешься, сонная и растрепанная с привычными после сна завитками на висках и около лба и волосах, что на шее тоже кудрявятся. Потягиваешься, откидывая одеяло в сторону и стараешься вести себя т и х о, чтобы никто не узнал, что проснуться успела. А когда узнают – сразу набегут, сразу и непременно начнут одевать, подсовывать еду. Слишком много шума, а так свободы хочется. Вроде бы привыкнуть должна, но не можешь никак, а еще украшения тяготят до сих пор и голова вниз клонится. На цыпочках почти, чувствуя ногами босыми холодок, сжимая и разжимая пальцы, подойдешь к клетке, что на ночь всегда накрывается полотном бордовым и мягким.
— Доброе утро, — а в ответ непривычная тишина. Они обычно по утру шумные, всегда слышно, как щебетать начинают и крыльями хлопают. Откидываешь покрывало, но не сразу понимаешь, почему на жердочке никого н е т. Ты даже не сразу понимаешь, где два твоих любимца, так Хвин напоминающие. — А что… — взгляд наивный, все еще слегка сонный опустится вниз, на днище клетки. Опустится и отскочишь назад, будто холодной водой окатили. И страх липкий к горлу подступает и невыносимо становится.
Две птички. С потускневшими перьями, застывшие в нелепых позах, в открытыми клювиками и остекленевшими глазками-бусинками, которые еще вчера вечером поблескивали ж и в ы м светом. А теперь мертвые, в каких-то позах нелепых, словно чучело.
Дрожать начинаешь, сама не понимаешь почему и о т ч е г о это все так важно становится. Сама не понимаешь, почему себя начинаешь с этими птицами ассоциировать. Вот и тебя также – посадили в клетку, а убить могу в любой момент. А их непременно убили.
Ты кричишь громко и отчаянно, заставляя всю ватагу слуг ворваться к тебе, а даму Шин, которая за тебя ответственна вроде нахмуриться, опуститься рядом с тобой, забившейся в угол. Не ребенок уже, а ведешь себя так, будто дьявола увидела.
А я может и увидела эти дьявольские глаза в утренней прохладе. А я может и увидела у л ы б к у. Спасите меня.
— Их убили, их убили, их убили… — шепчешь в каком-то безумии, вжимаясь спиной в стену еще сильнее, не позволяя к себе прикоснуться, раскачиваясь в разные стороны, а взгляд почти невидящий.
Дама Шин хмурится сильнее, подходит к клетке, отдает распоряжение з а б р а т ь, что действует и того хуже на тебя. Ты вдруг с места вскакиваешь, вдруг эту клетку к себе прижимаешь расталкивая слуг, некоторые из которых отворачиваются. Пахнуть начинает, а тебе безразлично.
Воль обхватывает эту клетку, обнимает отчаянно и машет головой. Шепчет. Кричит. Рвет горло в каком-то исступлении, будто хоронит близкого кого-то, будто себя хоронит.
«Не отдам. Они же были живы! Они еще живы были! Они пели красиво! Я выпускала их полетать! Не забирайте! Не забирайте… Прошу Вас…»
Птичка, что с красным пятнышком на головке напоминала мне меня саму отчего-то. Она пела не так громко, как ее соседка, но зато под вечер, если вытащить из клетки, если к окну поднести, если одну оставить – заливалась трелями не хуже соловьиных. Она была так похожа на нее… они еще теплы вчера были.
Так как же так.
Кто-то насильно практически руки отцепляет, впивается почти, а ты на грани очередной истерики.
— Дайте хотя бы похоронить!
Это глупо, да и на тебя смотрят как на умалишенную, с какой-то жалостью. Кто-то шепнет тихо, мол, «бедняжка, от горя обезумела».
Нет, я тогда не знала ч т о такое от горя обезуметь, но сердце разрывалось на самые мелкие частицы. А дама Шин кивнет евнухам. Разрешили. Забрать. А птички стали еще более крохотными будто на твоих дрожащих ладонях.Земля холодная, но нужно откопать побольше, чтобы никто не разорил. Рядом горка камней заранее заготовленная. Стараешься. Стараешься как можно лучше, стараясь на тельца в платок завернутые больше не смотреть. У тебя было два шелковых платка – в них и завернула бережно. Опускаешь. Засыпаешь. Камнями обкладываешь под этим деревом.
— Простите… из-за меня. Не уберегла. Если бы не мне подарили, то выжили бы. Простите хорошие мои.
А чувство странное, будто себя хоронишь.
Слышишь шаги за спиной, слезы непрошенные вытираешь и поспешно на ноги поднимаешься.
Ваше Высочество, а знаете мне действительно тогда нужен был кто-то, кто понял бы. С кем можно было бы поговорить, выплакаться наивно наконец. Но у нас с вами не такие отношения, у нас с вами… нет отношений. Я не могу себе этого позволить. Ничего рассказать. Да и что, право, рассказывать? Убитые птицы? Трагедия?
Что я здесь делаю? Похороны устраиваю.
Нет-нет, на самом деле просто прогуливаюсь.
А слезы на глазах из-за ветра. Холодный он. Ветер.
И голос полетит в удаляющуюся спину. Голос, впервые за это время такой… холодный.
— Хорошего… дня.
— Никогда не видела, чтобы кто-то так плакал из-за птиц. А меня больше пугало, что отраву так просто можно в ее покои принести. Поэтому и начала… понемногу присматривать. Сначала по долгу службы, потом… сама. Все в ней было хорошо, но наивность. Будто в теплице росла, а во дворце правила другие. Жизни. Постоянно всем доверяла. У нас был заброшенный амбар, по ту сторону от озера, если помните такой. Сейчас уже отстроили, а тогда все еще красовался. Среди наложниц слух ходил, что там призраки обитают, но наложницам только дай поговорить – не такое придумают. Призраков там не было, но крысы, помнится водились именно поэтому не пускали туда никого. Не дай боже укусят. Крысы твари грязные. Её Высочество тогда пропала на весь день, я едва догадалась, где она может быть. Не могла даже подумать, что ее там закроют. Вдовствующая императрица, когда особенно недовольна была…часто устраивала подобное. На самом деле не только вашей жене, но еще и наложницам вашего отца. Нашли на следующий день, когда паника поднялась. Ваша жена часто и по долгу могла далеко одна уходить, вот раньше и не спохватились в то время. Вытащили ее оттуда чудом не искусанную. Напуганную. Бледную. А потом… ей кошмары снились. С этого они начались, с этого момента она уже спать спокойно не могла в своих покоях. Вы должны были заметить, что спокойно она может спать только вне. Она засыпает где угодно и быстро, а так сон Её Величества слишком чуткий.
Дверь за тобой захлопывает с грохотом и протяжным треском. Наглухо. Наглухо тебя в этой ловушке закрывая. Воль дернется мгновенно к двери, оставаясь в пугающей темноте амбара. Сквозь доски еще пробиваются какие-то лучи света, но слабые. Из щелей несет холодом могильным. Где-то на балках, над головой прямо, паутина раскачивается. Стучишься кулаками в эти двери и не откроет никто. Молчание в ответ – сама ведь знаешь, что не откроют. Дернешь, дверь тяжелая и не поддается.
— Кто-нибудь! Выпустите, ну же!
Никого нет. Ни одного человека н е т. Бесполезно. Бессмысленно здесь к р и ч а т ь. И страшно предательски становится, потому что темнеет под вечер уже быстро, а в амбаре и подавно. Обернешься затравленно, обернешься пытаясь осмотреться. А наложницы рассказывали, перешептывались о том, что здесь когда-то придворную даму убили, а она по ночам здесь… появляется. Ты вообще-то не веришь в призраков, это глупо, но когда ветерок прохладный коснется плечей становится страшно будто кто-то рукой коснулся. А еще страшнее становится, когда слышишь неразборчивое пищание где-то по углам.
Оборачивается порывисто в но в ь и колотится в дверь.
— Я здесь! Кто-нибудь! Пожалуйста! Ну же!
Но никто не отвечает. Людей вокруг тебя не много, а солнце предательски быстро клонится к горизонту, по амбару поплывут пугающие черные тени, писк станет громче, язык к гортани прилипнет.
Ты колотилась громко и из последних сил, а они испарялись на глазах. Оседая на пол, обхватывая себя руками и прислоняясь головой к закрытым тяжелым дверям.
Скребешься, будто щенок, из дома выгнанный, загоняя занозы под пальцы, стукаясь головой об деревяшки едва-едва. Болит голова, жмешься, стараясь стать меньше. Будто кто-то шепчет за спиной, отчаянно закрываешь руками уши и вертишь головой.
— Пожалуйста…
Так несчастно, так умоляюще, будто ребенок, забытый всеми. Воль вздыхает, всхлипывает, превращаясь в этого самого ребенка, которому все отказывались помочь. И рядом с которым никого не осталось. Пищат крысы, сверкают в темноте глазками маленькими, шебуршат лапками и пододвигаются постепенно к тебе б л и ж е. А в какой-то момент становится все равно – пусть хоть разорвут. Здесь холодно, здесь неожиданно с о н н о.
Поглядишь на своих соседей по несчастью. Черные. Небольшие. Принюхиваются, поводят носиками. Шаришь руками по полу, обнаруживая пару крошек. Подтыкаешь юбку под колени. Бросишь крошки крысам.
— Вы лучше… чем люди. Лучше. Даже вы.
— Но и не только… после этого случая. Все стало хуже чуть позже. И вы, возможно помните… Ещё один Её День Рождения. И ее состояние. Возможно, некоторые детали вам уже известны, а я расскажу все полностью. Вдовствующая императрица… посреди ночи. Перед праздником, отлично зная, что такие меры наделают много шума решила проверку устроить. Вдаваться в подробности того, как проверки на девственность не стану, я думаю вы… в курсе. И все бы ничего – это можно вытерпеть, если бы это сделано было ради этого, а не ради огласки. Представляете, как еще молодой девушке… унизительно и больно проходить такие проверки при служанках, придворных дамах. А представляете… как унизительно жить с этим очень много времени, когда в гареме, где твой статус чуть ли не наивысший тебя… никто не уважает. Никто не считается с твоим мнением, а за глаза над тобой насмехаются более… опытные наложницы. С некоторыми из них, впрочем, вы были знакомы. После этого… Её Величество не могла спать какое-то время, ей постоянно казалось, что вот-вот придут и заберут. А случайный шорох ветра за шаги принимала. Иначе откуда вы думаете она так хорошо знает – какой чай при плохом сне стоит принимать? Кроме того… прикосновения не выносила к себе. Любых. Благо прошло.
Дама Шин сделает паузу, во рту сухо, воды бы, но если остановится – мысль боится потерять, упустить. А рассказывать еще много, рассказать необходимо главное и самое страшное. Рассказать и наконец попросить… именно попросить, потому что человеческим сердцем никто управлять не в состоянии. Набирает в грудь побольше воздуха. Продолжает.
— Про морозник, я думаю, вы слышали. Про тот отвар помните. Но это был не единственный случай, Ваше Величество. Первое время она терялась, не выходила из покоев, когда такое устраивали. А потом научилась отличать воду с ирисом от воду с морозником. Научилась распознавать гнилой финик еще не попробовав. Научившись отличать по запаху травы опасные, от плохих трав. Почему? Потому что в одно время некоторые из наложниц, подстрекаемые очевидно кем-то с и л ь н ы м, покоя не давали. Волей-неволей научишься. Платья резали. Мертвых птиц на порог кто-то однажды подбросил. Творились отвратительные вещи, ее в покое не оставляли. Только она привыкла через какое-то время. Это ни хорошо – ни плохо. Это… неизбежно, Ваше Величество.
«Это неизбежно, иначе не выжить. Вы знаете об этом, но простите, напомню. Что она не могла остаться невинной девочкой после в с е г о, что произошло. Не могла и не осталась, выбрав другую дорогу».
— Спросите – почему она не рассказала? Потому что отношения не позволяли ей особенно жаловаться. Потому что… что может неугодная принцесса без главного для женщины во дворце? Да и держалась она благодаря семье. Отцу, брату. Ответственность чувствовала. Когда… — к сути подбираясь постепенно. —… умер её брат, господин Сон, Её Величество не пережила это. Она до сих пор это пережить не может. А Королева, — усмехаешься уже открыто, уже горько. — запретила не только имя его произносить, но и… плакать. Представьте, когда теряешь кого-то, но не можешь устроить поминальный обед. Не можешь поплакать, когда хочется. Когда теряешь последнее… любой бы сломался, на ее месте. И тут, Ваше Величество я хочу показать вам одно письмо, — из рукавов широких достаешь письмо со слабым запахом лавандовых ветвей. Все еще сохранился. Поддерживаешь свою руку, склоняясь, соблюдая п р а в и л а, отдаешь письмо. Отходишь. — Я, разумеется, дам вам прочитать его в одиночестве, потому что это письмо Вам. Прощальное письмо. Тогда… два года назад. Она не хотела жить дальше. И никто бы не захотел. Она осталась одна, совершенно одна. И если бы я тогда не успела, то… подумайте, что бы было? Она не спасала бы вас тогда после того покушения, не была бы рядом. Подумайте… ее бы не было. Это непоправимо. Она бы… у м е р л а. Сами знаете, какие высокие стены во дворце.
Тяжелое молчание, а Шин Черён чувствует слабость в коленях \ломоту в последнее время чувствуешь, но стоишь\, но так лучше. Так легче. Так, конечно больнее, но разве не важно открыть глаза. На правду. На истину. Ты рассказала многое, ты рассказывала долго и тщательно. Ты помнишь в с ё. И тебе больно от всего, что помнишь.
— Ваше Величество, теперь, позвольте… попросить. После всего, что рассказала, — опускаешься медленно на колени, складывая на них руки. Не унизительно. Наоборот – почетно. — спасите ее. Я смогла снять со стены один раз. Но во второй – не получится. А то, что я вижу пугает. Один раз можно подняться, найти смысл жизни в мести, силе, но она все равно… не такая. То, что я наблюдаю сейчас… я боюсь, что она сломается, Ваше Величество. И когда это произойдет – я не смогу ей больше помочь. А вы – можете. Вы всегда были и остаетесь единственным человеком в этом месте, кто на это способен. Вы… сильнее, чем кажитесь и важнее для нее, чем думаете. Я не могу сказать вам — как именно вы можете это сделать. Но спасите. Я снова прошу Вас об этом.
Дрожит пламя свечи, пока ты читаешь книгу. Не вдумчиво. Никак. Строки мелькают мимо глаз, а брови хмурятся. Пытаешься вчитаться снова, но это бесполезно. Это же надо такому случиться. Это же надо было опозориться вот т а к, наговорить глупостей. Бездумно. Что ты наделала?
Стонешь тихонько, пряча лицо в ладонях. И дама Шин необычно молчаливая, осуждает наверное за все, что случилось. Простите, я говорила, что ненастоящая королева. Я говорила, что корона мне не подходит. Кто-то суетится за дверью, входит в твои покои поспешно. Евнух Чон.
— Добрый вечер, Ваше Величество. Его Величество просил передать, что ждет вас. В саду.
Обычно, так начинают, когда зовут в покои. Не в твоем случае. В твоем случае, придется правде в глаза посмотреть, кивнуть коротко: «Х о р о ш о», а мысленно взвыть от отчаянья, проклиная тот день, проклиная свою беспечность и слабость.
До этого удавалось игнорировать. До этого удавалось избегать несколько дней, стараясь не попадаться на глаза – из-за смущения, из-за неловкости. Как вспомню, что натворила… сквозь землю бы провалиться.
— Думаю, пришло время объясниться, верно? — с грустной обреченной улыбкой обращаешься к даме Шин. — Я знала, что когда-нибудь придется обсудить мое поведение… это будет нелегко.
— Да, Ваше Величество. Вам нужно поговорить обо всем, — отвечает неожиданно твердо, даже удивить успевает.
— А Вы жестоки. Должны же знать, что мне неловко до ужаса. Могли бы и поддержать. Знаю, что поведения моего не одобряете, но… ах, ладно. От судьбы не убежишь.
После изматывающей полуденной жары, солнце, наконец, клонится к горизонту, смягчая свой яркий свет и удлиняя тени. Лёгкий ветер шевелит зеленые листья, со всех сторон перекликаются птицы. Летний вечер теплый и уютный. Чем ближе солнце к своей колыбели, тем прохладнее воздух и тише вокруг. Звуки становятся громче, голоса слышны дальше. Ярче ощущаются запахи. Затихает ветер и смолкают птицы, готовясь ко сну. Лишь неумолимые сверчки хором продолжают свой концерт.
Сады темнеют постепенно, пряные запахи цветов, твоих любимых роз и камелий различаешь. Светлячки уже в воздух готовы поднять вот-вот, а вечер в права вступает окончательно. Воль по дорожке идет. Останавливается в какой-то нерешительности, делая шаг за шагом и снова останавливаясь.
— Мне очень стыдно за то, что случилось тем вечером, я прошу за него прощения… Нет, не так.
Еще один в нерешительности, прежде чем снова остановиться, снова решить, что сказать и как сказать это наиболее вежливо, спокойно и учтиво. Не выдавая предательского смущения.
— Давайте забудем об этом – обещаю, что такого больше себе не позволю.
«А я могу такое обещать?»
«А так уж страшно, что я это вообще сделала?». Ты уверена, что разговор заведут именно об этом, выясняя причины. А какие у тебя были причины? Будто бы ты не переживала это год за годом, научилась ведь вроде справляться, а тут вдруг… оступилась, сломалась и треснула. Ничего нового, но хотелось оставить это без свидетелей.
Разве тебе никогда не хотелось, чтобы тебя пожалели? Хотя бы пожалели, если не любили.
Не ври только.
Воль делает один глубокий вдох за другим, птицами сомнения разлетаются в разные стороны.
Его спина. Его затылок. Узнаешь. Дороги назад нет – нужно разобраться с этим побыстрее, вернуться назад и переждать. А может изобразить, что вовсе ничего не было, почему нет? Только все б ы л о. Отвратительно, Ваше Величество. Отвратительно Сон Воль. Она подойдет, юбки предательски шуршат – выдают ведь. Поклонишься, собирая в себе все остатки достоинства, которое умудрилась потерять той самой ночью. И взгляда избегать нельзя, а иначе все поймет. Посмотришь. Пропадешь. Очнешься, воскресая ж а л к о. Есть люди, у которых в глазах сверкают звезды вокруг темной оболочки радужки, в волосах волшебная пыль, а в венах течет кровь, наполненная магией.
Я как-то попросила отпустить меня. Так вот, отпустите. Отпустите – в трезвом состоянии это еще более невыносимо.
— Добрый вечер. Мне передали, что… вы хотите меня видеть. Уже довольно поздно, не находите?
А потом прикусываешь язык, а потом замолкаешь на некоторое время, потому что это как-то невежливо. Уже довольно поздно… звучит двусмысленно, если честно. Уже довольно поздно – сумерки землю накрыли. Уже довольно поздно – что-то менять, спрашивать и прочее. Оставим все как есть.
Сама-то этого… хочешь?
— Я… догадываюсь зачем вы хотели встретиться и… и прошу прощения. Моя вина. Забудьте, что я наговорила тогда. Мне действительно неловко.
Ничего ты не знала. Не догадывалась. Даже не предполагала.
в этом сердце звучит все та же струна,
струна самая затаенная,
самая чувствительная.
Я и не знала, что кто-то… дотронется.
Я хотела жалости. Я хотела любви. Я хотела найти человека с н о в а.
Поделиться42018-01-25 18:41:03
Ты бежишь, и ты поёшь. Мнёшь мягкую, изумрудную траву по которой ночью рассыпал волшебник сказочно сверкающую росу. Ты раскидываешь руки, поднимаешь голову к чистым небесам, раскрываешь свою ещё чистую душу. Ты не знал, что небеса остаются чистыми навеки, а человеческие души чернеют. На пальцах всегда остаётся ч у ж а я кровь. Одно лишь различие между людьми, когда у кого-то только пальцы в крови, а других руки по локоть. Ты ничего не знал, лишь оборачивался, улыбался во всю ширь круглого лица. Десятилетний, ещё ребёнок, ещё маленький принц с пухлыми щеками и большими, выразительными глазами, которые длинные ресница обрамляют. Небо попадает в эти глаза, разливает удивительной голубизной, а он рассыпается звонким хохотом. Следом по вытоптанной траве бегут двое мальчишек, а девчонка едва поспевает, подбирая длинные, пышные юбки. Взбираются всё выше, на холм высокий, заросший дикими кустами и полевыми цветами. Порхает бабочка, изящно и плавно в тёплом воздухе, жужжит как по нотам полосатая пчела, касается тонкими ножками оранжевого как солнце, цветка. Склоняешь голову к плечу, протягиваешь руку и срываешь, а потом протягиваешь ей. Очаровательные, розовые губки надувает, обиженная всерьёз что не дождались. Всё же примет цветок, перебирая пальчиками нежными лепестки.
— Как высоко вы забрались, детки, — тёплый-тёплый, необыкновенно мягкий, льющийся голос позади. Ладонью по шелковистым волосам и заплетённой косе, а взгляд, сияющий любовью и добротой устремлён на лицо мальчишеское.
— Тебе нравится? . . . — цветок или Су? — Красивый, но знаешь, сынок, цветы растут чтобы ими любовались. Давай, когда вернёмся, я научу тебя делать икебану, это очень красиво. Не подходите близкое к обрыву, ладно? — подталкивает осторожно девчушку к тебе ближе. Возьмёшь маленькую ладонь в свою, возьмёшь крепко. Мальчишки драку затеять удумали, отыскали длинные палки, представляя, что это мечи острые. Ты наблюдаешь недолго, а потом врываешься в этот хулиганский спор в действиях, отпустив её руку.
— И будущее нашей страны в этих руках? Стоит ли начать волноваться . . . — протягивает задумчиво, качает головой, опускает взгляд на вновь расстроенную Су.
— Они не играют со мной, потому что я девочка? Тогда . . . тогда стану мальчишкой!
— Нет, милая, вовсе нет . . .
Тщетно, ведь её не остановить. Не остановить девочку с характером мальчишки-сорванца. Она самостоятельно палку найдёт, займёт сторону друга, против Сона и Ёна. Взгляд забавный, дикий, обиженный всерьёз, словно тигрёнок малый. Бесстрашно рвётся в бой с криком тонким, на писк похожим больше. Бесстрашно.
Эти дети, ведающие беззаботную жизнь, бесстрашные, тогда н и ч е г о не знали. Эти дети, надёжно скреплённые верной дружбой и сильной любовью, тогда не знали, что ничто не вечно кроме чистых небес.
— Вы видели, матушка? Я защищался! Значит, я смогу защищать свой народ. Когда я стану как папа, я буду таким же бесстрашным.
— Да, родной, ты должен стать бесстрашным, — ведь иначе не выжить. — я буду наблюдать за тобой и радоваться тому, каким смелым становится мой сын.
— Время пришло? Смотрите, матушка, как в этом беспросветном лесу я буду бороться за луч света. Вы же обещали наблюдать за мной, — крутит в руке позолоченную заколку с изумрудными камнями, сверкающими как та самая, измятая трава на высоком холме. Они купались в закатных лучах, они были счастливы, они были детьми. А сейчас крепче сжимает украшение, единственное что осталось от неё, в похолодевшей ладони. Сжимает сильно, до красных следов на светлой коже. Время пришло. Время, когда ты стал как отец. Заколок у тебя целая коллекция.
— Ваше . . . — внезапно совершенно распахиваются двери и порывом ветра влетает молодой человек среднего роста. Запинается, глаза вдруг забегали по всем углам просторной комнаты. Опускает руки, откашливается, выпрямляет спину. — . . . величество. Я могу присесть? — не дожидаясь позволения, опускается на мягкую подушку, смотрит якобы с любопытством на раскрытую рукопись. Ваше Величество? До сих пор непривычно. Усмехается своим мыслям горько, смотря сквозь, смотря опустевшими глазами.
— Что читаете? Впрочем, вы можете читать что угодно, никто вам не указ. Послушай, Сон, ты не должен волноваться, ведь мы с тобой. Ты справишься, — голос будто твёрже, лицо серьёзнее, заставляя медленно перевести взгляд. Складки меж бровями пролегают и слышит он то, что желает услышать. Однако, можно ли верить? Можно довериться? Ведь урок из всей жизни своей вынес лишь один — никому не доверять. Даже если друг обязывается помочь, друг не сломается сам, но его могут с л о м а т ь. Друг, зачем мне помогать? Это слишком опасно.
— Не ходи на женскую половину без предупреждения, так свободно, этим ты очень поможешь. Знаешь ведь, за каждое самовольное действие — жестокое наказание.
— Ходить к своей женщине — это грех? — задумчиво, водит пальцем по гладкой поверхности красного дерева. Сон отрывает изумлённый взгляд от пожелтевшей бумаги.
— Что вы, Ваше Величество! Ваших женщин я не трогаю. Наложницы . . . наивные и слишком юные, один ветер в голове. Мне немаловажно что у женщины в душе, поверьте. А вы правда . . . уже несколько лет, ни с кем не . . . — прерывают вновь распахнувшиеся двери, дёргается назад, оглядывает недовольно Ёна, склонившего голову. Удивительно, но твои доверенные лица, твои надёжные люди не меняются. Они не ломаются.
— Явился! Заставляешь короля ждать, не страшно тебе? Что? Разве он не опоздал? — взмахивает расклешенными, широкими рукавами, принимает вид аристократично-гордый, усаживаясь ровно на подушке. Сун всегда был таким беззаботным болтуном, любителем шумных праздников и пёстрой одежды. На досаду его недоброжелателей, этот длинный и острый язык был надёжно защищён влиятельной семьёй и по каким-то причинам, никто, ничего сделать не мог. Правда, если всмотреться в эти чёрные, сияющие глаза, можно понять, что он умен и хитёр больно. Улыбка лисья. Сон имеет свои собственные причины на то, чтобы держать его рядом.
— Во дворце жалуются на шум поздней ночью. Кажется, я знаю кто главный нарушитель покоя, — тон ровный, голос невозмутимый, мягкий, а лицо, проникшееся вечным спокойствием, разглаженное. Ён опускается рядом, смотрит с каким-то добродушием на Суна.
— Я готов последовать в министерство наказаний, если конечно . . . Его Величество прикажет. Никто во дворце мне не указ . . . кроме Его Величества, безусловно. Сыграем партию?
— Вы хотели о чём-то поговорить, Ваше Величество?
— О переменах. Нас ждут . . . большие перемены.
* * *
Солнце щедро одаривает тёплым светом, а бескрайний небосвод — чистой голубизной. Ветер легко касается веток чайной розы, срывает слабые, норовящая опасть, лепестки. Едва слышные, мягкие шаги, руки за спиной сложены. Лепесток нежно-розовый цепляется за красную одежду, переливающую от тёмного к яркому на солнце.
— Хотите сказать, — удерживает подушечками пальцев дрожащий лепесточек, смотрит отчего-то весьма внимательно, вдумчиво. — ситуация безнадёжна? — отпускает, а тот порхает словно ожившая бабочка на ласковой волне ветра, разносящего сладкий запах сада повсюду.
— Что вы, я не посмею сомневаться в вас, потому что мне удалось воспитать вас должным образом, — голос наставника всегда тихий, умиротворённый, а лицо выражает какое-то смирение ко всему, всецело.
— Тогда в чём же дело? Почему с каждой нашей встречей, вы всё больше говорите о поражении? Вы говорите о моём поражении, — а его голос вздрагивает и поднимается на тон выше. Взволнованный и не скрывающий своего волнения. Ты ведь, не думал, что всё так просто? Ты ведь, не так уж м о л о д, чтобы смотреть таким наивным взглядом.
— Я скажу то, что вы слышали не раз. Вам нужен наследник. Тогда кто-то займёт вашу сторону, кто-то побоится строить заговор за вашей спиной. Поймите наконец, что это необходимость.
Необходимость. Сон останавливается, опускает зелёную ветвь раскидистого куста, присматривается. Господин У подкрадывается совсем тихо, поднимает голову, выглядывая из-за плеча. Господин У всегда видел то, что надёжно скрыто от посторонних глаз. Он видел н а с к в о з ь.
— Так что же вам мешает?
Сон молчит, удерживая ветку, грозящую хлестнуть по лицу. Сон молчит, потому что пребывает в сильном замешательстве. А она так солнечно улыбается ребёнку, она могла бы стать прекрасной матерью, которую полюбят дети.
— Вы можете сломить все преграды.
Себя сломить — это не так уж просто, не находите? Минута, вторая, третья, наставник бездействует позади, ожидая, когда Его Величество насмотрится. Смиренно. Это ему, в отличие от Сона, достаточно одного мгновения, одного взгляда, а не восемь долгих лет.
— Давайте закроем этот вопрос и не будем более его поднимать, — тонкая ветка выскальзывает из пальцев, выражение совершенно равнодушное, руки вновь за спиной, а внутри расползается чёрное пятно. И думается, ты не одинок в этом зверинце, а что-то душу чернит и сверлит. Быть может, чувствуешь себя виновным до сих пор? За всё что знаешь и не знаешь. Я невысокого мнения о себе? Даже если Вам есть за что уважать меня, в своих глазах я ещё не поднялся. «А это трагедия» — сказал бы наставник У тихим голосом.
— Мы будем пользоваться другими способами.
— Я посмею сказать в последний раз, Ваше Величество. Вы рискуете потерять всё. Подумайте, что станет с вами и с вашей супругой, если . . .
Сон поворачивается резко, брови сдвигаются, глаза в уголках багровеют. Сердце г л у п о е колотится неистово, разнося грудную клетку в щепки. Он р у ш и т с я после каждого, подобного удара. Возможно, ему необходимо сломаться и построить себя заново. Возможно, ему стоит задуматься, почему всё существо словно в стальных тисках лишь от одного если.
Если . . . вас просто у б ь ю т. Подумайте, что станет с вами?
— Позволите идти?
— Идите . . . — отрешённо, сухо, сипло, разбито.
Ты настоящий король? Или ты притворяешься?
Настоящий король отличается решительностью, не так ли?
Он продолжает идти неспешно и ноги видимо, сами несут в сторону, откуда женские голоса льются. Такие знакомые, такие родные. Обрывки фраз, обрывки собственных, глупых мыслей. Выражение лица неуклюже склеенное после того, как в очередной раз разбивается на мелкие осколки. С каждым разом всё мельче. С каждым разом всё больнее что-то осознавать. А ему недостаёт смелости и мужества переступить черту и построить всё заново. Он пытался, попытки летели в бездонную пропасть. Что теперь? Уважительный поклон. Что теперь? Перед ним не та девчушка Воль. Перед ним Королева Сон Воль. Другая.
Склоняет голову, пряча за серьёзным, веющим прохладой, взглядом, всё, что должно остаться и затаиться в н у т р и. Это пощечина ледяная, хлёсткая, это удар острой льдиной по груди. Одно лишь напоминание о том, что будет если. Смотрит на неё, а в голове крутится хрипловатое, тихое, ехидное е с л и. Молчит. Соль, тёплая, ласковая точно луч солнца, обнимает, он просыпается словно. Губы неловко дёргаются в улыбке, или в её жалком подобии? Обнимает. Обнимает, потому что объятья заполняют чёрное пятно, ставшее слишком огромным. Потому что капля человечности способна продлить жизнь. А взгляд тревожный невольно поднимается, невольно касается лица супруги. Почему ты постоянно смотришь на неё? Смотришь, а сделать ничего не можешь. Трусливый. Глядит на ребёнка, вслушивается в её голос, совершенно незаметно, но вслушивается очень чутко. Приноровились всё настоящее скрывать. Нарисовали собственные маски. Ваш голос разбавлен какой-то печалью. Ваш голос теперь совсем другой. Протягивает руки так же молча, принимает племянника с крайней осторожностью и опаской сделать что-то не так. Больно крохотный. Боязно. Но стоит ощутить тяжесть, стоит увидеть эти любопытные глаза и чистую улыбку — маски спадают, растворяются, лицо разглаживается и страх исчезает. Является уверенность. Быть может, стоит попытаться? Только один, один решительный шаг и придёт уверенность. Жизнь тоже пытается тебя научить, упёртый Сон. Неосознанно расплывается в тёплой улыбке, вглядывается в детское личико, замечая едва видные, плавные черты лица любимой сестры.
— Не думаю, что это так, на вас он смотрел сияющими глазами. Я подозреваю, в чём дело, — интерес полностью искренний, неподдельный, интерес с которым смотрит на ребёнка. Ощущает мимолётное тепло и нежность е ё руки, ощущает словно что-то тёплое коснулось прохладного сердца. Даже если ваши руки были холодными, они всегда удивительно согревали меня. Кивает едва заметно, следуя совету, продолжая улыбаться любопытным глазам. Сама невинность живёт в этой крохе, сама ч и с т о т а. Хочется остаться в этом мгновении навечно, хочется забыться, хочется знать, что рядом стоит она и поддержит советом как правильнее ребёнка держать, или как правильнее государством править. Ему необходимо время даже на то, чтобы осознать кто на его стороне. Поверите или нет, те жалкие секунды рассказали, что такое настоящая р а д о с т ь. А вам пора. Снова кивает, снова молча, снова смотря в спину со скрытой печалью. Сон останется, расспросит Соль обо всём, что семьи и супруга касается. Не обижает? Уважает? Любит? . . . Сон быть может, впервые поймёт какими очаровательными дети бывают, и лишь отчасти осознает, что значит быть о т ц о м.
— Знаете ведь, сегодня день особенный, — смирный голос д р у г а рядом звучит, смирный и непривычно сочувствующий. Небеса потемнели, затянулись тёмно-фиолетовыми цветами, а волна приятного, ласкового ветра подносит выше мягко сияющие, янтарные огни. Сон смотрит ввысь, смотрит на фонари, плавно подгоняемые в его сторону. Целое, огромное нашествие, неизбежное, таящее в себе тысячи просьб и желаний.
— Я не люблю этот день. Потому что, одного моего желания недостаточно. Я не должен запускать фонарь, верно? Я могу пойти помолиться, чтобы небеса помогли людям . . . и мне тоже. Ён, мы должны сделать всё возможное, чтобы помочь им.
— Короли для того и посланы небесами, чтобы помочь.
— Опрометчиво, не находишь? Люди не получают помощь, они всё больше страдают, — усмехается криво, разворачивается на выдохе шумном. Первый фонарь тихо-тихо и весьма благополучно касается земли. Счастливый фонарь. Больше половины пролетят мимо, опустятся на крыши, коснутся глади озера или в высоких деревьях останутся, среди множества переплетённых ветвей. Счастливых немного, верно? Совсем рядом опустилась чья-то мольба. Ён замечает взгляд, будто потерянный, встревоженный, испуганный? Делает четыре широких шага, поднимает, подносит очень услужливо.
— Услышьте нашу мольбу . . . что это? Нашу мольбу? — сипло и тихо, крутит в руках фонарь из тонкой бумаги, огонёк которого, спешно погас.
— Тут что-то есть. Письмо? Впервые вижу, чтобы вклеивали письма. Желаете прочесть?
— Он так удивительно прилетел ко мне, стоит прочесть. Если увидишь ещё, собирай их, мне любопытно, о чём думает народ.
— А кораблики тоже собирать? — неожиданно улыбается, весьма плутовато.
— К сожалению, меня на всех не хватит. Исполнять эти желания я не сам не желаю. Ты говорил, Её Величество направилась к пруду?
— Да, желание хотя бы одной женщины вы можете исполнить.
Друг довольно часто приводит в недоумение этим вечером, довольно часто изумляет прямотой. Сон смотрит чуть ошеломлённо, широко раскрытыми глазами.
— С чего ты взял, что она чего-то хочет от меня? У неё это на лице написано? Нет, не замечал! — вдруг тон голоса поднимает, звучит совершенно иначе, раздосадовано, но слишком забавно, достаточно забавно чтобы постоянно серьёзный Ён хохотнул.
— Женщин необходимо понимать, видеть их душу, разве Сун не объяснял вам? По крайней мере, я считаю, каждая женщина хочет родить хотя бы одного ребёнка за всю свою жизнь. Её Величество не исключение, она же . . . обычная женщина.
Молчание наступает, слышен где-то на приглушённом фоне, оркестр сверчков и кузнечиков, где-то девичий, звонкий смех и щебетание точно птичье. Очень изумленные глаза, поблёскивающие мягко, застывают на довольном лице.
— Конечно, — саркастически вырывается. — у неё ведь, нет выбора, я единственный, кто может . . . знаешь, что, достань письмо и оставь на моём столе, — порывисто впихивает ему в руки шуршащий фонарь, быстрым шагом отдаляется, руки за спину заводя. Когда утихомирившийся внутренний мир вновь перевёрнут. Когда встряхивают хорошенько, без какого-либо умысла. Ён всего лишь выразил свою мысль, ведь, в этот праздник позволено каждому выражать свои мысли. А я и не думал, что у вас столько сторонников, Сон Воль.
Обеспокоенный положением дел, не глядя куда идёт, просто делает размашистые шаги, размахивая невольно длинными, широкими рукавами. Лихорадочно, забываясь, а внутри круговерть образовывается, выворачивает, стягивается всё в тугой узел. Хочется покончить со всём наконец, но вырывается лишь шумный выдох, когда подходит к пруду, около которого лягушки квакают и лотосы на поверхности распускаются. Осматривается рассеяно, оглядывается, оборачивается точно в п о и с к е. Словно потеряно нечто драгоценное, нечто важное для него. Где же вы? Уже ушли? Он, пожалуй, обошёл здесь всё, заглянул за все деревья, не находя того, что важно. Или, кто важен? Останавливается, прислушивается к шороху, улавливает треск сверху, запрокидывает голову, охваченный очередной волной изумления. Застывает, поджимает губы, чуть было рот не раскрыв широко. Сдерживается всё же от красноречивого выражения своего огромного удивления. Королева не дереве. Несомненно, зрелище весьма удивительное.
— А что вы делаете? — вырывается громче и твёрже обычного. Стоит признать, сердце встрепенулось от нахлынувшего беспокойства. А вдруг ветка сорвётся? Сломается? Треснет пополам? Она плечами пожимает, он вглядывается ещё серьёзнее, даже суровее.
— Вы точно с ума сошли! — женщин необходимо понимать, видеть их душу. Ему почудилось на мгновение, что у в и д е л душу, обиженную чем-то, прекрасную и красивую душу женщины. Однако познание души обрывается следом за старой, дряхлой веткой. Обрывается что-то внутри, когда срывается с места, протягивает руки и л о в и т, удерживает, умудряясь самому не упасть. Он пораженный целиком, застывает снова, оцепенение схватывает, глаза всё ещё широко раскрытые, смотрят вперёд. Стеклянные глаза вдруг трескаются, вдруг о ж и в а ю т. Медленно опускает взгляд, оглядывает её, взлохмаченную, точно девчонку, точно не королеву. Волосы очаровательно вьются, мелкие кудряшки выбиваются на висках, изумрудные листья вместо дорогих украшений — она неожиданно ж и в а я. Однажды он испытывал то чувство полного поражения, когда всё исчезает, когда весь мир сосредотачивается в одних глазах. Однажды это случалось с в а м и. А может, даже не однажды, а много раз. Хмурится, невольно пытается удержать крепче, сильнее, надёжнее. Ему неожиданно нравится, когда её тонкие пальцы плечи сжимают. Она же . . . обычная женщина. Невозмутимый, ровный голос друга не вовремя звучит в голове, расплывается эхом. Не вовремя, потому что смотрите друг другу в глаза и пропадаете. Ещё мгновение и он готов согласиться. Он пытается что-то вычитать в её глазах, вычитать что ощущает сейчас и о чём думает. Нечто странное и непонятное вылавливает из прекрасных двух озёр, глядящих на него. Нечто удивительное, что будет верно ожидать тёплого времени года в сердце, дабы прорасти. Вы считаете, что имеет право так смотреть на меня? Так обезоруживающе. Я не посмею сомневаться в том, что вы обычная женщина. Только женщины могут т а к смотреть.
— А кто же . . . будет ловить вас, падающую с деревьев, если . . . мы разведёмся? — ты всерьёз воспринял те слова, вновь отдаваясь на растерзание догадкам. Откуда ты знаешь, Ён, что я ей не противен? Не стоит путать вежливость и манеры с чем-то . . . другим. Очнись. Отпускает поспешно, отворачивается, прочищает горло, стараясь успокоить внутренний круговорот ощущений и эмоций. Однако, однажды ты поднимешь её на руки и никогда не отпустишь. Однажды наступит. Поверь, Сон.
— Вы меня волнуете, знаете ли, или вы считаете до сих пор, что человеческие отношения невозможны? — на самом деле, это ты первый, кто поставил крест, это т ы.
Глядит на только что выпущенный из рук фонарь, отдаляющийся постепенно. И хорошо, что он был чист, потому что я ничего не желаю просить, Воль. Провожают задумчивыми взглядами, а он руки по привычке прячет за спиной, он успокаивается, впуская удивительное спокойствие в душу. Их фонарик светит мягко-розовым светом, выливает сияние в фиолетовые небеса. Их фонарик необыкновенно красивым чудится среди других. Мои желания всё равно не сбываются. Желание хотя бы одной женщины вы можете исполнить. Голоса смешиваются, гудят, возникает желание уши прикрыть, да не выйдет, внутренний голос не приглушить. Сон вновь молчит, Сон не ведает даже что сказать, просто руку поднимает и тянет салатный, нежный листочек из шелковистых волос. Второй, третий, разжимает пальцы, выпускает, а ветер подхватывает. Это всё, что ты мог сделать? Убрать листья из её волос? И то, не все убрал. Сон находится рядом до последней минуты, до предпоследней границы. Границы ещё не все пройдены, это лишь предстоит. Чувствует тяжесть на плече, наконец-то опускает голову и смотрит на неё, глаза прикрывающую.
— С чего вы взяли? Ваша голова вовсе не тяжёлая . . . — голос глохнет в стрекотании насекомых и кваканье лягушек, которые прыгают с кувшинки на кувшинку ловко. Голос глохнет в собственном замешательстве, в массе из догадок, мыслей и чувств. Приятно подставлять своё плечо, приятно ловить в свои руки. Приятно быть мужчиной для обычной женщины. Только осознание это доползает медленнее старой черепахи, медленнее казалось, ничего на свете нет. Аромат мёда и цветов окутывает, её аромат, который удалось з а п о м н и т ь. Любуется её улыбкой и сам отпускает вольность такую — улыбается украдкой. Тянет ещё один листочек, смахивает лепестки, касается невзначай кудряшек на виске, замирает. Красиво. Эта картина в спокойствии подкравшейся ночи, эти цветы в волосах и улыбка обычной женщины — красиво.
— Вы спите? Мне придётся сделать это снова? Тогда . . . не открывайте глаза.
Не открывайте глаза, потому что я подниму вас на руки.
Не открывайте глаза, потому что я снова отнесу вас в ваши покои.
Вы имеете право быть счастливой. А я что-нибудь придумаю.
В последнее время тебя не покидает ощущение, словно вскоре что-то произойдёт. Ты не можешь разобрать — хорошее или плохое. Ты ничего более не чувствуешь, кроме того, что сам находишься подле какого-то обрыва. Упадёшь — подловит ветер надёжными руками или разобьёшься о твёрдое дно? Ночи бессонные, всё кажется, будто горло в тисках, дышать тяжело. Мысли тяжёлые, камнями осыпаются, словно ты отчаянно ищешь решение проблемы, но решения нет, надёжно скрыто в тайнике вселенной. Обречённый на что-то, безнадёжный. Лекари говорят, неплохо бы принимать травяные настойки для успокоения и крепкого сна. А ты сегодня снова ищешь её, отправляешься куда направляют, весьма послушно. Правда, забываешь вовсе зачем искал, когда следующую картину наблюдаешь. Воль в озере барахтается. В трезвом уме она бы не стала, определённо не стала. Решительно идёшь к ней, решительно под руки берёшь, все силы прикладывая, дабы вытянуть на берег. Глядишь строго-сурово, осматриваешь неодобрительно, а на вырвавшийся хохот только брови хмуришь. Свои руки отдёргиваешь, своим сердцем прикосновение ощущаешь. Невыносимо. Настораживаешься выхватывая из пьяной речи меня закрывать любили, всматриваешься куда внимательнее в её лицо, делаешь шаг к ней, ещё б л и ж е становишься. Тебе любопытно, зачем она сделала это? Напилась вдруг. Ты себя в ней видишь? А теперь, уйти вздумал? Она не пропускает, не даёт к себе прикоснуться, только в глаза можешь смотреть. И смотришь, смотришь невыносимо, настолько невыносимо, насколько тебе самому т р у д н о. Твои глаза вновь леденеют, вновь покрываются равнодушием, когда внутри снова переворачивается всё. Такой взгляд вы терпеть не можете? Запрещаете? Лицо не дрогнет, застывшее, каменное. За плечи цепляется, а ты немного пошатываешься сам, не сводя взгляда с лица. Только руки удерживаешь, не позволяешь им тянуться к н е й. Самое время, Сон, самое время вспомнить всё, самое время услышать, что она надёжно скрывает изо дня в день. Ты ведь, хотел рассмотреть её душу изнутри. Рассматривай. Узнай, что такой взгляд она терпеть не может. Узнай, что друзей у неё нет и она помнит всё. Узнай, что она считает себя ненастоящей королевой. Только не признавайся снова, что сам сомневаешься в собственной подлинности. Вероятно, таким как вы не следует занимать т а к и е положения. Вероятно, вы слишком слабы. Вероятно, вы слишком молоды ещё и ничего не смыслите в этом. А казалось, взрослые люди. Ты снова хочешь уйти и просто идёшь, а она подхватывает, она самая настоящая, когда пьяная. Не имеешь права осуждать. Почему? Потому что тебя пьяного терпели намного дольше. Узнай теперь, что она д у м а е т. Лицо делаешь ещё более равнодушным и невозмутимым, пальцы сжимаешь в кулаки. Останавливаешься, когда руку берёт, по ладони линии проводит — смотришь внимательно и вдруг, проникновенно. Наблюдаешь за ней, постепенно позволяя ледяным корочкам потрескаться. Это безумие не остановить, увы. Это неистово колотящиеся сердце, отзывающееся на её ладонь. Это сердце благодарно помнит обо всём. Ты помнишь — она тебе жизнь спасла. Шрам, который видишь каждый вечер на груди — напоминание. Желание одной женщины вы можете исполнить. Почему ты снова думаешь об этом? Почему снова вспоминаешь те слова, показавшиеся вздором и нелепостью? Слишком много значения отдаёшь всему, особенно ладони на груди. Вы красиво танцевали. Вы очень привлекательная. Вы создана для кого-то, более благородного, чем я. Ты податливый этим вечером, ты послушно склоняешься, смотришь на её губы, ловишь почти родной запах рисового вина. Не вырываешься, не отворачиваешься, словно желаешь посмеяться над судьбой, отрицая свою жалость и доказывая её. Ведь, она не позволяет быть ближе. Она не позволит и сейчас этому случится. Твой взгляд говорит насмешливо: давай проверим, милая. Взгляд превращается в мягкий, непривычный для тебя, уголок губ тянется вверх, изображается кривая ухмылка. Давай проверим. Застываешь, опускаешь отяжелевшие веки, и только хочешь приблизиться, подбитый опасной близостью и лёгким касанием — она останавливает б е з у м и е. Усмехаешься открыть, усмехаешься не Воль, а судьбе жалкой. Ты жалкая девочка. Издеваешься над бессильными. Бесстыдная. Более ничего не держит? Проверили. Н е т. Тебя никто не отпускал. Смотришь чуть удивлённо, чуть восхищённо её смелостью и своевольству.
— Когда-нибудь . . . я позову вас снова, тогда узнаете, — спокойно, голову склоняя, наблюдаешь с удовольствием что будет д а л ь ш е. — Воль? Воль! — неожиданно твой голос сорвётся, когда она начнёт терять равновесие. Ожидаемо ты подхватываешь, подставляя свою грудь, носящую вечное напоминание, и руки, крепко обхватывающие. Снова отнесёшь, снова посмотришь невозмутимо на прислугу и даму Шин. Кажется, они привыкают, кажется, это вполне нормально. Кажется, вот-вот что-то произойдёт.
Ты знаешь, ломаться и разбиваться в осколки — больно.
Ты знаешь, Сон, тебя разбили и это было необходимостью.
Ты знаешь, кому-то было больнее.
Голова отяжелевшая, нити мыслей нещадно перепутаны. Вечереет, а летние вечера всегда особенные, всегда тихие, убаюкивающее вдали от дворца. Веки опускаются, брови сдвигаются, на складки меж ними ложатся мягкие тени. Он растворяется в прохладе и стрекотании сверчков, в ласковом порыве ветра, в запахе цветов — он позволяет рукам бесчувствия срывать эмоцию за эмоцией, ощущение за ощущением, оставляя голые ветви. Потому что он почувствовал достаточно за время т о г о рассказа. Опостылели чувства, размышления и колебания между догадками. Можно ли поставить точку в этом предложении? Рассказ будет продолжаться. Но я прошу вас, я умоляю вас, давайте покончим с этим. Если я расскажу, как мне было больно, вселенная не поверит, потому что вам было больнее. Постепенно вечер съедает тусклые просветы, оранжевый закат смывается тёмными красками. Постепенно приближается она и новая точка, после которой пойдёт новый отсчёт. Юбки шуршат — слышит, не оборачивается. Открывает глаза, выжидает с минуту и повернувшись, смотрит на неё. Любопытно, каким взглядом смотреть после всего, что услышал?
Прежде чем случится что-то, чего я боюсь, я расскажу вам в с ё.
О том, что такое жизнь во дворце, если ты… неугодная женщина.
Признай, задевает, признай, что у д а р получил, когда твою ж е н у назвали неугодной женщиной.
Это ещё не всё, это не всё, что тебе доведётся признать сегодня.
Он словно не слышит, он словно лишился с л у х а, мимо пропускает всё, только шаг вперёд делает. Шаг, значащий в с ё. Останавливается совсем близко, совсем рядом, всматривается в её глаза. Чешуйки карпа… с зазубринами. Выпьете такой чай с тремя лепестками — лишитесь голоса на неделю-другую. А если с пятью и больше, может быть… вообще разучитесь разговаривать. Рука тянется к изящной шее, прикрытой наполовину воротником, тянется в нерешительности, пальцы невесомо кожи касаются. Ничего объяснять он не в состоянии, ничего объяснять не будет, ничего из своих действий. Рука дрожит. По своей наивности она не знала, что в нем. По своей наивности она даже за него поблагодарила. Почему? Почему, Воль? Влага застилает глаза. Вы, возможно не помните, это было так давно, но в то время она стала очень молчаливой не потому, что не хотела с вами поговорить. Она не могла. Ты кашляла кровью, а я ничего не знал?
— Прости . . . — севшим голосом, невозможно тихим, от чего сомнения, услышит или нет. Долго не протянет, сорвётся. Решающий шаг, одно действие. Берётся за тонкое запястье и тянет на себя, обхватывает руками, сжимает пальцами гладкую ткань одежд. Он её обнимает. Обнимает впервые и отчаянно, отчаянно до крайности. Прижимает к себе крепко, пытаясь и з в и н и т ь с я объятьями. Он помнит зачем-то тот день, когда у ш ё л, когда посчитал что не достоин её внимания вовсе. Он помнит свои выходки, разбивающее чужое сердце. Стыдно? Нет, теперь не стыдно, теперь желание заплатить за в с ё. Стыдно — это слишком просто, слишком потешно для всего, что происходило. Наверное, она казалась слишком счастливой тогда, когда их кормила, Ваше Величество, иначе почему мы, однажды утром их мертвыми обнаружили. Обнимает ещё сильнее, рвётся и тянется к ней, когда расстояния без того не осталось. Одной рукой за талию удерживает, другая по спине скользит, сжимает плечо, и всё совершенно невольно. Однако, осознанно, он вполне осознанно обнимает её, вполне осознанно пытается рассказать о своём сожалении. Он хочет пожалеть, но так, чтобы не дать почувствовать себя жалкой. Жалость — это не про Воль. Для жалости она слишком крупная жертва. Для жалости она выросла. Живые же существа. Птицы — это такая малость. И это так много значило. Она, Воль, ж и в а я. Она должна быть в твоих объятьях, Сон. Обними крепче. Всё ещё молчит, всё ещё пытается обнять, обхватить посильнее. А меня больше пугало, что отраву так просто можно в ее покои принести. Они не посмеют, слышишь, Воль? Никто не посмеет сделать это, отнять у меня тебя, н е т. Щекой прижимается к мягким, аккуратно уложенным волосам, задевает острую шпильку, ладонью придерживает затылок. Вытащили ее оттуда чудом не искусанную. Напуганную. Бледную. А потом… ей кошмары снились. Сердце сжимается до нестерпимости болезненно, сжимается и раскалывается. В этих невероятно крепких объятьях жизнь останавливается в миге, молния словно бьёт в висок, глаза закрываются, слова чужим голосом повторяются в голове. Эхо гремит, расходится, тяжёлое эхо. Вдаваться в подробности того, как проверки на девственность не стану, я думаю, вы… в курсе. Чрезмерно, мучительно морщится, наклоняет голову норовя подбородком коснуться её плеча. Представляете, как еще молодой девушке… унизительно и больно проходить такие проверки при служанках, придворных дамах. Воль, почему я узнаю об этом так поздно? Я так отчаянно хочу защищать тебя. Я хочу потребовать ответ с к а ж д о г о, кто заставил тебя пережить всё это. Объятья превращаются в отчаянно-жадные, безумные, долгие. Он не желает отпускать. Он не будет отпускать. Не отпустит, даже если попросит, даже если попытается вырваться — не отпустит. Потому что… что может неугодная принцесса без главного для женщины во дворце? Прости, милая. По щекам слёзы катятся, совершенно бесшумно, казалось, сама душа рыдает внутри, разрывается в безнадёжной истерике. И теперь смолчать не в силах, теперь отстраняется, горячие капли падают с подбородка, глаза выдают в с ё.
— Вы никогда . . . не были моим ночным кошмаром. Я никогда не испытывал ненависти к кому-либо из-за вас, только если . . . кто-то пытался навредить вам. Вы собирались . . . меня оставить, — голос, который пытается держать ровным, не падающим вниз, всё же п а д а е т, падает со звоном и предательской дрожью. Вдохни глубже, Сон.
— Незаменимые есть, Воль. Если я говорю вам, что вы мне нужны, значит так и есть. Ты не права, ты не была права, когда писала те слова, и если до сих пор так думаешь, ты не права, — плевать мне было на в с ё, на манеры и правила, на положения и на осточертевшие В ы.
— Ты действительно считаешь, что . . . что . . . если сделаешь это, сделаешь свободными всех? Меня? Хорошо, за эти годы ничего не изменилось, я не смог стать мужем, не смог стать отцом, даже человеком . . . с огромным усилием. Но я привязан к тебе, и это бессмысленно, глупо отрицать. Привязанность — это сильное чувство, и побороть это чувство я не могу. Поэтому, совершив нечто ужасное, ты оставила бы меня, ты бы отказалась . . . да, именно так. Я эгоистично и самолюбиво заявляю об этом, — тише, громче, отчаяннее, безумнее, спокойнее — качает на волнах эмоций. Руками крепко сжимает её плечи, замолкает на мгновение, опускает взгляд. Пылкий больно, успокоиться не помешает.
— Ты всё ещё хочешь . . . чтобы я обнял тебя? Мне безразлично, что ты ответишь, — уголки губ дёргаются вверх, качает головой, на секунду смотря прямо в глаза. Безразлично, потому что я хочу обнять тебя. Один миг и снова объятья. Один миг и сжимает в объятьях проникаясь теплом и мелкой дрожью по всему телу. Прижаться до боли, прижаться до большей дрожи — этого хочется. Прижаться и не выпускать из своих рук, чтобы больше прикоснуться к ней никто не смог — этого х о ч е т с я. Эти объятия до нельзя чувственные, а их отношения по вине заблуждений и путаницы, безымянные до сих пор. Эти объятья не должны быть т а к и м и отчаянно-безумными, такими крепкими, такими порывистыми. Эти объять не должны коснуться её души, а коснулись, словно он сам этого хотел.
— Не оставляй меня, не уходи, я . . . прошу тебя, — немного тише, много умоляюще. — Я чувствую себя ужасно, потому что ничего не знал, ничего не сделал, когда тебе приходилось терпеть. Почему ты ничего не говорила? Не важно, какие отношения нас связывают, я хочу обо всём знать, чтобы . . . помочь тебе, — я хочу помочь тебе, слышишь, Воль? Я хочу стать тем, кто тебя спасает, слышишь?
— Я знаю, как невыносимо здесь жить, особенно в одиночестве, когда не приходится рассчитывать на чью-то помощь и ожидать поддержки. Знаю и не хочу, чтобы ты и дальше так жила. Я не могу тебя отпустить, поэтому, не отнимай у меня возможность помочь тебе. Позволь мне . . . делать это, — он желает сделать долгие объятья надёжными и сильными, он желает получить то доверие, недостающие им. Дабы в любой миг она смогла прийти и спрятаться в этих объятьях. Он может т а к защищать.
— Прости меня, Воль. Тебе пришлось всё это пережить . . . прости, — это я должен стать твоим ночным кошмаром, это я вынуждаю тебя страдать и являться той, кого обсуждают, осуждают и подсмеиваются. Невозможно отрицать мою вину. — Моих извинений недостаточно, чтобы всё поправить, знаю. Но теперь . . . — вновь отстраняется, прямо в глаза смотрит, решительно, не колеблясь. — теперь ты никогда не будешь одна. Я всегда буду рядом, — я бы хотел сделать всё, что в моих силах, чтобы ты забыла о тех годах, чтобы это стало всего лишь кошмарным сном и растворилось, исчезло бесследно. Я сделаю всё возможное, Воль.
— Я постоянно уходил от тебя, отворачивался, и хочу оставить это в прошлом. Я не буду уходить, не буду проходить мимо, не буду заставлять смотреть в спину. А тебя прошу лишь об одном. Прошу верить и доверять. Тогда я справлюсь, — тогда я смогу сделать то, быть может, чего не мог столько долгих, мучительных для тебя, лет. Снова рука тянется к лицу, большим пальцем бережно, с долей нежности, проводит по щеке.
— Ты можешь быть сильной, можешь носить самые разные маски, иначе здесь не выжить. Но когда никто не видит, не бойся быть слабой. Женщина . . . может себе это позволить. Не столь важно кто она . . . даже если она королева, даже если она решила закрыть свою душу и больше никогда не танцевать . . . ты можешь приходить ко мне. Мне всегда приятно твоё общество, не думай, что это неуместно, — берёт её руку в свою, проводит большим пальцем по её тонким, красивым и невероятно н е ж н ы м. И эти нежные руки не созданы для всех тех страданий. Улыбается украдкой, неловко, быть может потому, что разучился у л ы б а т ь с я. Обнимает вновь, теперь кутая в объятьях, теперь умиротворённо и мягко, так, словно в руках самая бесценная, самая хрупкая ваза. Потому что она — это всё то бесценное, что остаётся у него.
— Я хочу стать правителем, которому люди смогут доверять, который сможет облегчить их жизни хотя бы немного. Но без тебя мне не справиться. Никто не сможет занять твоё место, никто не сможет быть таким, как ты. Ты особенная, и тебя любят люди. Разве это не значит, что ты настоящая королева? — ладонь по спине плавно скользит, голос ниже, голос проникается удивительным спокойствием, и всё вокруг подыгрывает. Приглушённые звуки летней ночи, медленный вальс тёплого ветра, едва слышно колышущиеся кроны раскидистого дерева. Вот и случилось, вот и произошло то, чего он ж д а л. Он поставил точку в одном предложении и готов начать новое. Заглавной буквой станет наша дружба.
Вы просили спасти её, но я спасаю и самого себя. Вы говорили, что я важнее для неё, чем думаю, значит она поверит мне? Я хочу так много сделать и пытаюсь верить в свою силу. Вы говорили, что я сильнее, чем кажусь. Значит, смогу беречь её?
— Вы правы, — непозволительно обращаться на т ы постоянно, ведь так и понравиться может, так и привыкнуть можно. — уже довольно поздно, — отстраняясь, смотрит на серебряный месяц, согнувшийся в тёмно-синем небе серпом, а с других сторон кто-то неловко рассыпал несколько тускло сияющих звёзд. Прохладная ночь наступила, тянется запах свежий от озера, светлячки поразительно доверчивые, кружат совсем рядом.
— Вы подумайте обо всём, мы не торопимся. Я хочу провести вас, не откажете своему мужу? — подставляет руку, смотрит на неё выжидающе, даже с заметной просьбой в глазах. Ты хотел ещё минуты растянуть, хотел ночь растянуть, чтобы не у х о д и т ь снова.
— Сегодня я буду смотреть вам в спину, и только потом пойду к себе. Нас никто не увидит, по крайней мере из тех, кто не должен, — кивает уверенно, весьма серьёзно, руки подставленной не опуская. Он бывает настойчивым. Особенно в этот миг, совершенно неясный, но приятный.
Я смогу спасти тебя,
Если ты позволишь.
Я хочу спасти тебя.
Ты только позволь.
— Ён, слушай внимательно, подбери ребят из своего отряда и поставь их вместо стражи около дворца Её Величества. Ты же хочешь стать солдатом? Я обещал, поэтому, как только всё сделаешь — свободен. А ещё, сделай так, чтобы пара человек из особой охраны . . . — делает ударение на особой, глядит внимательно на друга, замирая. — следили за дворцом Её Величества. Кроме того, — он, кажется, останавливаться не думал, не давая тому слова вставить или просто согласиться. — выдели одного для личной охраны, но, чтобы без фокусов! Желательно того, кто имеет свою семью или того, кто имеет отношения с женщиной. Понял?
— Позвольте поинтересоваться, зачем такие меры?
— Как ты смеешь задавать мне такие вопросы?! Я тебе скажу, зачем, — подходит близко, заглядывает в лицо, губы поджимает. — Чтобы ни одна крыса, ни одна гадость не смогла пролезть туда. Понял? — сиплым шёпотом. — Они должны проверять всех, кто выходит и входит. Даже когда Её Величества внутри нет. Должно проверять всё, что вноситься и выносить, и желательно! . . . — голос подпрыгивает, руку поднимает. — чтобы она этого не заметила. Я знаю, ты можешь это устроить, и тебе ничего не остаётся, только подчиняться мне. Думаешь, злоупотребляю своей властью? Да, пора бы. И ещё, твои парни будут головой отвечать за всё, я молчу про неё, но есть кое-что, что должно охраняться очень тщательно.
А сумасшествия никто не отменял.
Тем же утром с золотистыми глазами и нежными руками, которые чувствуются в утренних порывах ветра, Сон отправляется на женскую половину снова без предупреждения. Впрочем, теперь он отделывается одним лишь я король, и н и к т о, ничего не смеет возразить или ответить кроме как да, Ваше Величество. От того ли улыбка чрезмерно довольная, или душевное состояние возвышенное, наполненное лёгкостью, не понять. Выражение пропитано удовлетворением глубоким, глаза сияют мягко на солнце. Проходит мимо склоняющихся слуг, мимо придворных дам, которые сначала переглядываются, а потом пытаются что-то вымолвить. Сон неодобрительным взглядом стреляет — молчат. Дама с громким, высоким голосом собирается сообщить о прибытии Его Величества, однако он успевает протянуть руку и закрыть рот ладонью, бесцеремонно. Оглядывается, осматривает евнуха Чона за своей спиной. Тот склонился, сжался комочком, только поглядывает опасливо, словно боится наказания какого. Впрочем, нельзя сказать, что Сон раскидывался угрозами, всего-то потребовал обеспечить свободный визит к своей супруге. И ещё кое-что.
Двери распахиваются, переступает порог, кивает в знак приветствия, встречаясь с её взглядом. Этой ночью он поразительно крепко и хорошо спал, прогуливаясь во снах по каким-то необъятным, пшеничным полям. Прекрасный был сон. А она утром не менее прекрасна.
— Оставьте нас. Все, — отрезает сурово-строгим, приказным тоном. Евнух Чон опускает нечто бесформенное, накрытое плотной тканью, кланяется низко и поспешно пятится назад. Сон терпеливо выжидает, когда в с е выйдут, оборачивается, внимательно на дверь глядя.
— Не понимают с первого раза, — усмехается, самостоятельно дверь отодвигает, кидая недовольные взгляды на подданных, решивших что подслушивать всё же допустимо. Нет, вовсе нет, недопустимо. Отходят, прячутся по своим уголкам, оставляя Его Величество вполне довольным.
— Я принёс для вас подарок, — заходит обратно в просторные покои, срывает ткань с к л е т к и. Увы, клетка — это необходимость. Они оба ненавидят клетки. Но щебетание звонкое разливается, щебетание вдыхает ж и з н ь. Глаза-бусинки сверкают, жёлтые, красные пёрышки переливаются. Коготки маленькие цепляются за ветки, а клювики подцепляют то зёрнышко, то зелёный, сочный листик. Открывает, протягивает руку — птица доверчиво прыгает на палец, удерживается вцепляясь несильно. Сон подходит ближе к Воль, руку протягивает.
— Вы любите птиц, а птицы любят вас. Это наши птицы. Я отдал приказ охранять их, это не шутка. Если захочу полюбоваться ими, придётся приходить к вам, — склоняет голову к плечу, наблюдая за борой, поворотливой птичкой. Она ловко перепрыгивает на её руку, а Сон позволяет выбраться из клетки ещё одной, опускает на своё плечо. Их две всего лишь. Две птицы. Птицы, казалось бы, мелочь, но не для нас, не для вас. Я знаю, те птицы значили больше, чем просто щебечущие, поющие красиво, создания.
— Не забывайте заботиться о них. Тогда я буду знать, что вы оценили мой подарок. Мне пора возвращаться, а вы подружитесь, не смею сомневаться, — щекотно пёрышками лица касается, улыбаться т я н е т, но слишком большая роскошь — остаться здесь, задержаться рядом, а уж тем более улыбаться. Тебя всё ещё ожидают дела государственной важности, но покинуть её ты наконец можешь со спокойной душей и толикой грусти. Побыть рядом хотелось?
Знаете, чего мне хочется?
Чтобы вы полюбили этих птиц и втайне ото всех, снова были счастливы.
Поделиться52018-01-27 21:55:09
Солнце одаривает своим ярким светом и душащим в объятьях, теплом. Летние дни мелькают один за другим, проносятся с пылом, всё нестерпимее с каждым новым порывом. Ярко-зелёная трава где-то выцветает, цветы увядают и всё живое клонится к земле, пустившей глубокие и не очень, трещины. Засуха — это то, что одолеть ещё никто не смог. А солнце беспощадное, солнце сжигает дотла. Природа усмехается, одарённая огромной, мощной силой, а Сон чуть опускает глубоко задумчивый взгляд, опираясь ладонью о колено. Среди раскидистых деревьев, в их надёжной, прохладной тени и под деревянной, рубленной крышей павильона где-то в глуби сада, остывает очень и очень медленно зелёный чай. Впервые он позвал свою супругу выпить чаю после обеда, в м е с т е. Однако взгляд больно отрешённый, выдающий полное поглощение мыслями, которые всё ворочаются, собираются комком в голове. Казалось, их бесконечное количество и вспоминаются слова учителя У, когда-то в далёком детстве, что удерживать в голове придётся много. Много д е л. Перед глазами порхает сапфировая бабочка, на тонких крылышках изящные, жёлтые узоры — вздрагивает, оживает, вспоминая что разговор шёл, а потом он сам куда-то вспорхнул.
— Как поживают наши птицы? Я не сомневаюсь в том, что вы хорошо о них заботитесь, — протягивает руку, выпускает из пальцев маленькую, фарфоровую чашечку, с который замер на пару минут. — На самом деле, у меня был к вам разговор. Соль мне рассказывала . . . да, она бессовестно выдала вас, но вы же знаете Соль, — чуть лукавая улыбка, поджимает губы, глаза снова прячет, рассматривает василькового цвета роспись на чашке.
— Дети . . . я знаю, что есть дела более важные, по крайней мере, так считают наши уважаемые министры. Однако это не отнимет слишком много времени, если вы поможете. Для начала, я бы хотел попросить вас найти наставников, мастеров, лекарей, ранее служивших при дворе. Заняться детьми мы с вами не сможем, но можем найти хороших учителей. Обычно эти люди разочаровываются во всех власть имущих, нам понадобится дар переубеждения, — замолкает на пол минуты, скользит сосредоточенным взглядом по её лицу.
— Вам достаточно сказать слово и улыбнуться, чтобы получить чьё-то сердце, — моё не будем брать в счёт, пусть вы его и получили, только не знаете об этом. — Подросших юношей, слоняющихся без дела, можно пристроить к людям Ёна, я думаю, им будет интересно обучаться кое-чему. Швейное ведомство заметно опустело, почему бы не научить шить молодых девушек? Я слышал, без домов и средств к существованию осталось немало несовершеннолетних, помимо маленьких детей, — прерывисто постукивает пальцами по гладкой столешнице, то опуская, то поднимая глубокомысленный взгляд. — Что касается маленьких детей, хочу показать вам кое-что. Завтра утром за вами придут. И, надеюсь, вы меня поймёте, если я попрошу держать всё в строгой тайне. Дворец полон существ с нетерпимостью к добродушию. Впрочем, вы сами это прекрасно знаете, — странное ощущение непривычности, неизведанности, находясь в состоянии умиротворения и покоя, в лёгкой, свободной беседе с ней. Стоило чаще приглашать на небольшие, тихие чаепития свою супругу? К сожалению, он торопится её покинуть, извиняется, чуть склоняет спину прежде чем у й т и. А внутри оседает приятное чувство какой-то надежды на тёплый свет в кромешной тьме. Быть может, получится.
Парам лениво бредёт позади, вытягивает шею, тянется мордой к земле, от которой прохладой веет. Под палящим солнцем трава иссушенная, сгоревшая, поэтому он радуется словно жеребёнок малый, улавливая носом сочные, зелёные кустики. Чавкает большими, земляничными ягодами довольно слышно, заставляя Сона обернуться и посмотреть неодобрительно.
— Мы договаривались при женщинах этого не делать, — будто говорит с ребёнком не иначе, хмурит брови вполне серьёзно с долей отцовской суровости.
— Очень плохо, очень. А вам пора бы научиться кататься верхом, — переводит всё тот же, серьёзный взгляд на Воль. — Вас не смущает то, что в такие моменты я нахожусь слишком близко? Очень близко, — шаг в её сторону, склоняется в глаза заглядывая. Да, Ён, тонкость женской натуры мне не подвластна. Женские лица я не умею ч и т а т ь. Но мне любопытно, насколько эта близость терпима. — Вам стоит ответить честно, это важно, — не пытаясь даже пошутить или набросить шутливую тень, выпрямляет спину, продолжает идти чуть быстрее. Дорога падает и поднимается с передышками, а повсюду бамбуковая роща, местами обильно освещённая жарким солнцем. Дорога сужается, вздымается снова, бамбук, тянущийся к небесам, остаётся позади, возникают деревья, тоже страдающие от жары, скорченные, иногда оголённые точно зимой. Недалеко от людных мест, однако спрятано надёжно, необходимо лишь знать в е р н ы й путь. Он останавливается, осматривая картину перед глазами.
Дом был больших размеров, окружённый изгородью из рассыпающихся уже деревянных палок, и сама изгородь разваливается спешно. Ветки, которые ветер срывает, застряли где-то на крыше, дорожки травой и бурьяном заросли, а ещё цветами полевыми. Краска трескается, крошится, рассыпается, узоры, когда умелой рукой и тонкой кистью нарисованные, сильными дождями смытые. М н о г о лет прошло. Всё стареет, всё становится дряхлым. Особенно люди. Лицо трогает печальная, тоскливая улыбка, шаг делает неосознанно, теряясь на жалкие секунды в прошлом. Перед взором мелькает платье в голубых и розовых оттенках, белоснежные, пушистые облака, кустики жёлтых цветов точно маленькие солнца, ладошки, перепачканные в сырой земле и длинные, чёрные волосы, всегда блестящие под лучами света. Он будто чувствует тот запах, любимый запах счастливого детства, и застывает посреди заброшенного двора. Посудины глиняные, разбитые, корзинки плетённые, растрёпанные. Но жизнью проникаются совершенно другие картины, когда всё здесь д ы ш а л о. Совершенно неожиданно ему хочется спросить одного человека, почему он до сих пор ж и в. Жив незаслуженно. Не самое подходящее время отдаваться липким объятьям ностальгии, правда, Сон? Ты пришёл воскресить здесь всё для одного благого дела.
— Этот дом принадлежал моей матери. Её родители покинули столицу, когда дедушку обвинил в преступлении, благо удалось избежать казни, отделался розгами. Дом опустел. Время от времени она приходила сюда, чтобы он не стал таким . . . каким вы видите его сейчас, — руки заводит за спину, не замечает, как собственный голос дрогнул.
— Прошло много лет с того момента . . . — когда её не стало? Отмахивается, качает головой резко, улыбаясь отчего-то безумно. Не посмеешь произнести вслух.
— Если здесь прибраться, починить крышу, получится дом, годный для жизни. Собирать детей во дворце — дело рискованное, очень опасное, а здесь в самый раз. Конечно, когда-нибудь что-то да всплывёт, узнается, но пока наше положение шаткое, стоит всё держать втайне. Выделенные средства для их содержания тоже придётся скрывать. Я знаю, чем оправдать эти расходы, — ухмыляется, вдыхает глубже, берётся за стебель бурьяна довольно высокий, а вырывается с усилием, когда сухая земля удерживает крепко.
— Думаю, самим не справиться, придётся в следующий раз взять слуг, но сегодня я хочу попасть внутрь, — откидывает сорняк, удивительно зелёный, смотрит на ладонь — позеленевшие полосы краснеют. Ни рубить дрова, ни рвать бурьян ты не умеешь. Досадно. Тихо прочищает горло, отводит взгляд, направляется к деревянному крыльцу, которое тоже сгнивает постепенно. Замок ржавый, цепь, обросшая янтарной ржавчиной, держится едва, не приходится стараться дабы сорвать всё. Распахивает двери, мгновенно ударяет запах пыли, грязи и невыносимой духоты, прогнившего дерева и прели. Отмахивается ладонью перед носом — бесполезно. Запах едкий, годами скапливающийся внутри. Сквозь забитые окна проскальзывают тонкие, солнечные лучи, просвечивая насквозь облака поднявшейся пыли. Какая-то мебель стоит посреди прохода, коридоры забиты старыми вещами, большие мешки, доски, одежда и белоснежная шаль, сплетённая распуганными пауками. Мало приятного внутри, совсем мало, лишь догадки о том, что некоторые вещицы могли сохраниться и напоминать о матери.
— Во дворе есть колодец, его нужно открыть и вымыть здесь всё. Все старания матушки зря. Её дом превратился в свалку мусора. Ужасный запах, да? — окинув шустрым взглядом ещё раз всё, представшее перед глазами, разворачивается резко, спускается, руками упирается в бока. Всё намного х у ж е, чем ты мог представлять.
— Вы не могли бы достать воду? Представим, что до вечера мы лишились своих титулов, — пожимает плечами так п р о с т о. Подле колодца трава невысокая, зелёная, одуванчики ярко-жёлтые, ведро, сколоченное из досок, но наверняка если поднять с земли, развалится. Сдвигает доску круглой формы, чуть больше в размерах чем сам проём, высматривает есть ли вода. К его огромной радости, вода есть, сверкающая, давно солнца не видавшая. Чистая. Устройство добывания воды, кажется, рабочее, крепкий канат уцелел и ведро одно не развалилось на части, когда поднял.
— Не набирайте слишком много, вы ведь, женщина, — вам ещё много предстоит, как женщине. Сам возвращается внутрь, запах всё ещё неприятный, несмотря на широко распахнутые двери. Он помнит где находится дровяник, где дедушка хранил инструменты и занимался своим любимым делом — резьбой. Вытаскивает ящик тяжёлый и ему непременно сегодня понадобилось сделать хотя бы что-то, прежде чем пойти на риск и впутать ещё кого-то. Но вечно скрываться не выйдет, Сон. Замахивается, бьёт изо всех сил тяжёлым молотом, выбивая наружу заколоченные досками, окна. Далеко не королевское занятие, но что сделаешь, когда п о д у м а т ь надобно. А мысли всё об одном. Желание единственной женщины. Обходит все комнаты, пропускает солнечный свет, заливающий милостиво и услужливо дом изнутри, пребывающий годами во тьме и сыром, холодном покое.
— Что скажите насчёт большого костра? Здесь многое восстановлению не подлежит, и вы мне поможете? Надо было взять с собой Ёна, но он уже не мой охранник, к сожалению, — выглядывает из окна отчего-то довольный, смотрит на неё, голову набок склоняя.
— Помогите вынести вещи, я сам не справлюсь.
Мебель всё из той же древесины, пустая, не очень тяжёлая — выносят на крыльцо, поддерживаемое бетонным фундаментом. Сон сталкивает на твёрдую землю и всё рассыпается, ломается, трещит, на щепки разлетаясь. Всё сгнившее испорченное и старое, залежалое сбрасывает в одну, шустро разрастающуюся гору. Гореть должно х о р о ш о. Комнаты пустеют, наполняются светом и жизнью, казалось. Остаются лишь некоторые предметы, уцелевшие, сделанные из хороших материалов и хорошими руками. Например, небольшой столик с ящиками, расписанными красными пионами, в котором матушка хранила свои украшения и женские принадлежности для создания красоты. Он опускается на колени, осторожно выдвигает ящик, поглядывает на Воль серьёзно.
— Надо же! Самые дорогие сердцу вещи она не забрала во дворец. Эта подвеска ей досталась в подарок от любимого человека. Да, все мы пережили эту любовную трагедию. Быть может, нас, людей и связывает несчастная судьба. Поглядите, коралловые бусины. Вы женщина, вы должны разбираться в этом. Мне больше некому доверить это наследство, — протягивает шкатулку, опускает ей на колени решительно.
— Кстати, шкатулку сделал мой дедушка. В его мастерской должно ещё что-то остаться, — растягивает вдруг задумчиво, окидывает Воль взглядом и поднимается с пыльного пола. Пора бы вымыть всё.
Наводить порядок, оказывается потешное занятие. Оказывается, внутри него ещё живёт беззаботный ребёнок. Поначалу Сон норовил поймать паука и напугать им, на плечо подсадив, но потом решил, что это может быть уж слишком и взялся влажной тканью смахивать тонкие, изящные творения мастера со множеством пушистых лапок. Подпрыгивает к потолку, вытягивает руку, размахивает в стороны, а серая ткань мгновенно чернеет. Вёдра тяжёлые сам выносит, отрицательно качая головой и смотря взглядом, запрещающим спорить, когда только подходит к полному воды, ведру. Набирает чистую воду, а комнат немало в доме, комнаты просторные, полы довольно грязные. Где-то дождь набил грязи сквозь щели, где-то помёт птичий, дерево, короедами изъеденное. Коленями становится не жалко, на коленях стоять и передвигаться не стыдно. Быть может, он хотел восстановить память о матери, а может, хотел помочь детям обездоленным, или всё вместе скапливается внутри, подталкивая на, глазами большинства, безумные действия. Но я же делаю что желаю, не так ли? Солнце наливается насыщенно-оранжевым, время, вероятно близится к раннему вечеру. Утро и полдень промелькнули незаметно в этом увлекательном занятии. Полы чудятся теперь бесконечными, а дом невероятно огромным, огромнее дворца. Спина немного ощутимо ноет, по плечам тяжесть расхаживает, пот на лбу и висках проступает. Устал?
— Сколько ещё? — тянет, занывает неожиданно, разваливается на вымытом до блеска полу, раскидывает руки и ноги в стороны.
— Вы будете мне припоминать всё это? Наверное, вы тоже устали, — наверное, она где-то недалеко и всё слышит. Когда поднимается, мужественно поднимает последние два ведра, выплёскивает воду уже из окна, не желая выходить наружу. Пожимает плечами, а воду чистую набрать всё равно придётся. Отмахивается от её взгляда, опускает руки, уходит. Остаётся протереть поверхности пыльные и высокие стопки книг. Тут нечто игривое накидывается на Сона, когда он размахивает чистой тканью [уцелевшую одежду разорвали], брызгается прохладной водой ей в лицо. Заливается смехом, уворачивается ловко, когда ответный 'огонь' получает в свою сторону. Совершенно беззаботно, забывая обо всём, даже о животе, который вздумал урчать, ведь обеда лишился. А у хозяина были серьёзные причины, между прочим. Болтает этим отрезком ткани, потом ладонями черпает воду, выплёскивает в лицо. А знаете, забываться с вами приятно. Вы ведь, никогда не упрекнёте меня. Вы ведь, всегда понимаете. Даже этого недостаточно, под самое завершение битвы остатки воды фонтаном на двоих расплёскиваются, под звонкий, рассыпающийся по всему дому, смех.
— Вы были очень серьёзной! Вот я и решил . . . — шмыгает носом, лицо рукой прикрывая, а хохот всё ещё вырывается, он не в силах остановиться. Что за истерика такая? Да просто, вы оба промокшие теперь, просто вы оба немного д е т и. Появись здесь матушка, подзатыльника дала бы, одарила ласковой улыбкой. Но матушка здесь не появится, а запах неприятный выветривается, вечереет постепенно. Сон делает шаг к ней, ещё один, вплотную п о ч т и. Глядит темнеющим, проникновенным взглядом прямо в её глаза. Минута, вторая. Шутник.
— Вы . . . голодны? Я слышу возмущения вашего живота. У нас есть кое-что, а здесь, полагаю на сегодня достаточно. Осталось обустроить кое-как, чтобы детям было немного уютнее. Наверное, это лучше, чем жить на улице, — оглядывается, отражая искреннее, внутреннее довольство проделанной работой. Благодаря детям у него была возможность п о д у м а т ь. О некоторых вещах предпочитает думать, занимаясь чем-то непривычным, монотонным, и в одиночестве. Однако, общество супруги приятно, ведь так? Всегда приятно.
Пока вечер светлый, солнце янтарно-яркое, освещает щедро, Сон находит пристройку небольшую, правда, попасть внутрь оказалось сложнее. Дёргает дверь, да впустую все усилия. Выбивает боком, морщится от боли, плечо усердно трёт ладонью, осматриваясь по сторонам. Длинные полки вдоль стен, а в центре продолговатый, деревянный, ровный стол. Инструменты для резьбы прикрыты плотной тканью, приспособления различные, в чём он ничего совершено не смыслит. Открывает окна и солнечные лучи падают на самые разные изделия и фигурки, которыми полки заставлены. Восхищённый взгляд скользит по деревяшкам, словно оживающим. Некоторые пёстро раскрашены, расписаны узорами, другие вероятно, мастер не успел или желания не имел доделывать. Сон всматривается в изделие, утка наполовину, а другая половина — дерево бесформенное.
— Матушка рассказывала, что он любил надолго запираться здесь. Его единственная мечта — посвятить жизнь мастерству и семье, но король решил иначе. Это лицо . . . точно её лицо, — круглое, из светло-бежевого, присохшего дерева. Линии плавные, черты лица точные, удивительно красивые. Но ничто не вечно, всё губится какой-то зловещей, печальной судьбой. Она смотрит и нежно улыбается. Она согревает сердце, а он бывает сентиментальным до нельзя, бывает, поджимает губы и беззвучно плачет. Отворачивается. Откидывает ткань жёсткую, скользит взглядом по ряду инструментов, немного ржавчиной покрытых. А потом, шмыгая носом слышно [что за привычка], рассматривает полки с противоположной стороны.
— Хотите что-то взять себе? Я деда очень плохо помню, но чувство у меня, будто он был добрым стариком, иначе, плохой человек не может вдохнуть жизнь в бездушное дерево. Вы бы понравились моей семье, не сомневаюсь, — мельком улыбается, заводит руки за спину и выходит наружу, покидая чей-то, когда-то храм, когда-то убежище и место, в котором кто-то думал. Воспоминания порой, нещадно хватают за шею и крепко д у ш а т, до горячих слёз. А я бы, пожалуй, всё отдал чтобы снова встретиться со своей семьёй. Оборачивается, смотрит на Воль мягко сияющими глазами. Забавно, Сон, единственный родной и близкий человек — это твоя супруга. Сестра далеко. А больше нет н и к о г о. Забавно, Сон.
Живые, огненные взоры вспыхивают в наступающих сумерках. Пламя, словно раскрыв огромную пасть, заглатывает всю гору завали одним разом. Хохочущие, озорные язычки подпрыгивают, норовят вовсе выпрыгнуть к небу, залитому тёмно-оранжевым и светло-фиолетовым. Тоненькие ветки трескаются, сухая трава мигом испепеляется, а толстые, деревянные предметы потрескивают, распадаясь на части. Огонь оранжево-жёлтый с красными, багряными всполохами красивый, завораживает, взгляд приковывает. То, что красиво бывает очень опасно. Он голову склоняет к плечу, сам наклоняется в её сторону, обнимая колени, поджатые под себя. Всё равно никто не видит, всё равно, сегодня точно всё равно. Трескается слышно, обдаёт лицо жаром, выпускает столп дыма к небу, окрашенному закатом. Пребывать в молчании столь долгое время не смущает, неловкости не вызывает, просто глядя на пылающее сильно пламя, каждый, вероятно, думает о своём.
— Дело останется за малым, — заговорит наконец, а в голосе плывет усталость, истома по телу разливается, когда выдыхает облегчённо, руки отводит назад, упирается ладонями в траву мягкую. — или я ошибаюсь? Найти учителей, уговорить помочь, собрать детей, да так, чтобы у прохожих лишних вопросов не возникло. Уборка в доме покажется сущим пустяком? А как отреагируют дети? Испугаются? Учиться они не сразу захотят, — рассуждения вырываются из головы, из уст, когда жизненно необходимо получить чей-то совет, услышать кого-то и понять, насколько верное направление выбрано. А вам я доверяю.
— Мы сделаем всё возможное . . . поглядите, вы мне помогаете, значит моя задумка может иметь успех. Это хороший знак, что вы здесь, — вдруг ещё ближе, вдруг глаза в глаза, пылающие как это буйное пламя, как это нежно-оранжевое, багряно-фиолетовое небо. Б л и ж е. Всматривается, будто бы сосредоточенно, высматривает что-то.
— Я бы не простил небеса, если бы они послали вас как проклятье, что за вздор. Вы же мой друг, вы не можете быть проклятьем, иначе почему вы единственная, кто знает, чем я занимаюсь? Я вам доверяю, и даже если придётся перестать доверять себе . . . я буду доверять вам. Живите теперь с этой ответственностью, — мягкий отблеск пламени ложится на мимолётную улыбку, глаза огоньками зажигается, а он совершенно довольный, снова берётся наблюдать за огненным зрелищем.
Хорошо с вами, хорошо просто так.
Внимательный взгляд спрыгивает с иероглифа на иероглиф, по именам в алфавитном порядке. Закрыв лицо широким списком на белоснежной бумаге, иногда поглядывает на Воль. Чаепития чаще проводиться стали, на сей раз в его покоях. Ён рядом стоит, обеспокоенный прошлым разом, ведь сообщить Его Величество не удосужились, а вернулся пропахнувший дымом, и одежда не высохла полностью. Поздно тогда было. Глаза евнуха и дамы Шин, испуганные, пожалуй, стоило видеть и стоило это дорого. А Ён хмурится, Сон не решается лишнего движения сделать под серьёзным, строгим взглядом. Нервничает. Сминает края списка.
— Ты ущемляешь мои королевские права, — заявляет важно, стреляя недовольством из вспыхнувших ярко, глаз. — Не стой над душой, умоляю! Мы собираемся навестить первого в списке. Ли Сэдоль, гляди-ка. Насколько я помню, он был хорош в математике. Был наставником молодых чиновников . . . род деятельности богатый, пока не оказался в немилости. Заняв должность, которой добивался пол жизни, о которой грезил днями и ночами . . . — не замечает, как рассказ начинает пёстро окрашиваться эмоциями и усердными жестами. Театр плачет, но Сон серьёзен как никогда, чужой судьбой проникаясь. — представьте, у него женщин никогда не было. Не законной, не . . . — замолкает, локтем опирается о стол, а кисть руки виснет в воздухе. Друг, стоящий рядом, склонивший голову, никак не желает посмотреть благосклоннее. — впрочем, какое нам до этого дело, он женился после того, главный министр, приняв взятку, отдал должность другому человеку. Сэдоль был на грани самоубийства, но . . . что-то его остановило. Несомненно, он разочарован во всех, кто имеет власть, но такие люди нам нужны. Я хочу вернуть во дворец таких людей и для начала, — опускает список, лицо полностью открывая. — пусть займутся детьми. Нам необходимо образованное, молодое поколение. Ён, мы сами справимся, без твоей помощи.
Небольшое, тесное и шумное селение, словно маленький рой бесконечно трудящихся пчёлок. Сон оглядывается, на мгновение даже теряется в снующих туда-сюда трудягах, полностью поглощённых своими делами. Солнце припекает, точно поджаривает словно на печи раскалённой, а время после обеда где-то. Проходя мимо домов, заглядывая во дворы, пытается зацепиться за лицо знакомое. Да только, возможно ли это? Годы прошли. Годы людей меняют до неузнаваемости. Потирает затылок, смотрит на Воль, хлопая глазами и пожимая плечами. Продолжает упрямо отрицать то, что нехитрый замысел почти что безнадёжен. Твёрдая уверенность в том, что главное не лишиться в е р ы. А ещё как никогда хотел скрыть свою персону королевской крови, одежду самую неприметную, местами потёртую раздобыл и носом шмыгает нарочно. Со стороны, пожалуй, забавно наблюдать за этим несчастным актёром. Только если однажды тебя видали в одеждах Его Высочества, после Его Величества, молчать об этом не станут. Народ боится гнева небес не иначе.
— Ваше Величество! — голосок тонкий, мягкий, девчушки с длинными косами. Сон останавливается посреди маленькой площади, ушам своим определённо не веря. Оборачивается неспешно, замечая, как люди застыли по сторонам, как пристально, недоуменно присматриваются. Быть может, ошиблась?
— Ваше Величество, вы, наверное, не помните меня . . . — робко, боязно, подбегает ближе, но в шаге замирает, сминает грязноватую юбку ханбока. Всем, видимо любопытно узнать, что дальше будет, все настораживаются, как и он сам, охваченный волнением и напряжением.
— Разве это наш король? Ха! Вы думаете, наш король по таким местам расхаживает? Слишком низко для него! — другой, басовитый, сильный голос врывается, взгляд подпрыгивает. Мужчина, сгорбившийся, на спине мешок тяжёлый, подбородок бородой зарос, а глаза выдают. Глаза больно умные, глаза, которые ещё подростком запомнил. Необыкновенно светлые глаза.
— Люди! Наш король ещё наследным принцем будучи, стал пьяницей! Да он хуже своего отца! Сидит у себя во дворце и ему плевать, что мы тут с голоду помираем!
— Но . . . Ваше Величество . . . во дворце . . . вы спасли меня, когда чашки разбила, меня выпороть собирались . . . вы не помните? — умоляюще вдруг, глазки заблестели слезами, собравшимися в уголках, люди насторожились ещё больше, глядя скорее недоверчиво на мужчину в простой одежде, немного изодранной. Гнев небес страшнее, чем правда, да?
— Вы правы, я увлекался вином, шумными праздниками и . . . домами кисэн. Мне захотелось прогуляться, поэтому я здесь. Печать оставил во дворце правда. Но . . . Сэдоль . . . — шаг вперёд, шаг подобный раскату грома. Минута затишья, молчания, скользящих догадок в глазах. Лицо смуглое, на которое пыль осела, кривится, колени подкашиваются, мужчина падает с криком истошным, кланяясь низко. Вот что стыдно, это стыдно, а не на коленях стоять. Люди склоняются, кто умоляет о пощаде, кто о смерти, надеясь на великое милосердие Его Величества. Он откашливается тихонько в кулак, подходит ещё ближе, потому что явился с определённой целью, и эта цель просит о прощении на коленях, лбом земли касаясь. Так быстро узнал?
— Ли Сэдоль, глубоко обиженный на главного министра . . . поднимите голову, — совсем близко, опускается на корточки, склоняет голову к его уху. — Я получил ваше желание, удивительно, ваш фонарик сняли с крыши моего дворца. Вы писали о том, что хотите сына, но ваша жена . . . как мужчина мужчине, скажите, почему она не позволяет? — шёпотом, оглядываясь иногда, а потом смотрит серьёзно на мужчину, поднявшего голову. Подрагивает. Узнал удивительно быстро.
— Ваше Величество . . .
— Я никому не скажу.
— Вы понимаете . . . я лишился службы, лишился всего, я едва ли могу прокормить семью, вот она и не желает . . . а мне сын нужен, вы понимаете, как важно для любого мужчины родить сына. Понимаете? — глаза лихорадочно блестят, голос дрожит.
— Тогда, я могу дать вам работу, вы должны только согласиться и отвести нас с Её Величеством к вашей жене. Мы скажем ей, что теперь у вас есть работа. Вы сначала подпишите кое-что, а потом . . .
— Ваше Величество! Ваша доброта безгранична! У меня будет сын! У меня наконец-то родиться сын! Я должен поклониться вашей жене . . . я должен . . . пожелать ей долгих лет и много красивых детишек. Ваше Величество!
А много ли человеку надо для счастья? Сон, иглой сердце кольнули? Сон, ты тоже хотел стать счастливым? Для каждого мужчины в а ж н о родить сына. Ты тоже хотел радостно вопить на всю столицу, что у тебя родится сын? Признайся, Сон, и быть может, счастье само подкрадётся к тебе.
Поделиться62018-01-30 17:18:49
Я болею тобой. Я дышу тобой.
Жаль, но я тебя люблю.
Он делает несколько шагов к ней, а Воль отступает мгновенно назад, руки сжимают подол юбки, от неловкости губу прикусывает [что за ужасная привычка]. В глазах мелькнет удивление, а выражение его лица разгадать не получается. Мысль – птица, ускользает из пальцев сразу же, как только она с его взглядом встречается. У нее тысяча и одна идея – почему он ее позвал, почему так смотрит, что хочет сказать и все сводится к одному: «почему?» и «что это такое?».
Знаете, Ваше Величество, я готова была выслушать упреки, практически с ними соглашаясь – для Королевы такое поведение недопустимо, тем более для Королевы, которая во дворце без малого восемь лет.
Знаете, Ваше Величество, я готова была увидеть осуждение в ваших глазах, бесконечные вопросы, на которые не смогла бы дать ответа – все как один приводили бы к тому, что ребенок необходим, а иначе на меня продолжат смотреть сквозь пальцы, а иначе как бы не старалась и какой бы сильной внешне не была – моя брешь в репутации все сломает. И ваша мачеха о ней хорошо осведомлена. Но знаете, в чем штука? Штука в том, что для меня схема ребенок-необходимость все еще… неприемлема.
У меня… были мечты. В этих мечтах в домике на высоких сваях где-то у моря я воспитывала своих детей, н а ш и х детей и каждый ребенок был счастьем, подарком небес. Каждого ребенка любили. И даже в самых страшных кошмарах ребенок не был пешкой в политической игре престолов. Проблема в том, что мечты были. Но пора опуститься на землю. И смириться. Ребенок – не необходимость и не обязанность. Ребенок – это чудо. И я никогда, наверное, не смогу поднять эту тему. Потому что как только подниму… в общем, я не смогла бы ответить на ваши вопросы, Ваше Величество.
«Почему вы были в таком состоянии?»
«Потому что я несчастная королева»
«Почему вы несчастная королева?»
«Потому что я делаю шаг вперед и два назад»
«Почему?...»
«Потому что вы меня не любите».
Вот на такие вопросы я не готова была ответить.
Я была готова \нет я вру, я не вынесу этого\ к презрению, потому что для женщины это опять же неприемлемо. Может быть вы разочарованы, злитесь, прогоните? Я уже готова ко всему, но даже близко не была готова к с л е д у ю щ е м у шагу.
Его рука тянется к шее, прикрытой высоким вышитым воротником королевской одежды. Воль смотрит почти непонимающе, удивляясь постепенно все больше и больше, взгляд отводит, потому что б л и з к о, а когда близко можно рассказать больше, чем следует.
А знаете, Ваше Величество, почему боюсь, что узнаете? Потому что чувства тоже бывают обузой. Так вот, я не хочу увидеть \если вы о них узнаете\ в ваших глазах… тяжесть, непринятие, сострадание к этим чувствам и слов: «Мне жаль» тоже, пожалуй, не хочу. Не хочу, чтобы извинялись за то, чего не может быть. Чувства – не обязанность. Оставайтесь свободным хотя бы здесь. А я… буду продолжать прятать взгляд, отворачиваться и сжимать незаметно кулаки. Шептать, как молитву и мантру: «Не выдать бы». Ничем не выдать.
Мы с вами… очень непонятливые, пожалуй.
— Что… — хрипловато вырывается с губ, взгляд рассеянно скользит по кустам боярышника и пушным кустам пионов и розариев. И никуда не спрятаться, а ситуация все более неловкая, все более странная.
Прикосновение, прикосновение которого почти и н е т, но оно есть и она его чувствует. Невесомое, едва-едва, на пределах каких-то непонятных чувств, затрагивая что-то. Брови невольно хмурятся. Останешься здесь дольше, боишься, что не выдержишь, надломишься и… и что-то произойдет. Сжимает ткань шелковую, тяжелую еще сильнее так, что трещит. Кольцо на пальце нефритовое пробороздит линию, пальцы побелеют. В руки себя возьми, выясни все – невыносимо. Ваше Величество, неужели по моим глазам ничего не понятно? Неужели мой взгляд молчаливо не рассказывает слишком многого? Разве не видите? Разве не чувствуете? Что… невыносимо. Вот такой взгляд, любой взгляд – терпеть не могу. Это правда, не могу, потому что трескаюсь, а я себе не могу этого позволить. Сломаюсь я… и сломается все. За кого хвататься? Мой брат умер, а отец в родном городе далеко-далеко \говорят, переболел лихорадкой, а я не знаю, я не могу к нему поехать\.
В руки себя взять.
С толку сбиваете. Снова.
Он подходит ближе слишком неожиданно так, что Воль шуршит туфлями по мелкому песку и гальке, отодвигаясь назад на полшага, уверенность тона и осанка куда-то теряются, теряется и воль, собирая остатки былого равнодушия \да какое там…\
— Вы так злитесь? — решив, что раз близко подходит, то что-то определенно совсем уж не так. — Я могу…
…все объяснить.
На одну секунду Воль успеет заглянуть в глаза поймать взгляд, который еще не удавалось, но так и не договорит, не успеет понять что случилось, в неразборчивом шепоте севшего голоса слыша вроде бы «п р о с т и», не успевая даже удивиться сильнее, не успевая переспросить.
Шаг. Близко. Рука на запястье. Движение. Рывок. Объятия.
Вечер. Лето. Вы меня обнимаете. Бред. Сплю. Пьяна. Не может быть.
Отрицание. Задервенение. Стук сердца бешеный \или остановился я не могу понять\. Дыхание судорожное из груди, прежде чем дышать перестать. Объятия. Головокружение. Не понимаю.
Воль стоит не двигаясь, Воль стоит молчаливо, смаргивая, будто сон, но не просыпается отчего-то, оставаясь в богатых королевских одеждах стоять посреди цветущего душно-сладкого летнего сада.
Выдох ртом, а объятия п е р в ы е кажутся такими отчаянными, что сдавливают грудную клетку неожиданным грузом, что неожиданно задыхаешься, а мыслей нет никаких вовсе. Одна лишь глупая. Одно лишь глупое воспоминание, похороненное с той девочкой, в лунном свете танцующей.
«Я бы хотела, чтобы вы меня обняли. Хотя бы раз».
Глаза сощурятся, нахмурятся болезненно. Воль силится что-то произнести и что-то спросить, пытаясь достучаться до голоса рассудка и здравого смысла, но все это порядком бесполезно – разум молчит, а сердце разрывается на части, собирается снова. Всего лишь объятие. Но к а к о е.
Долгожданное? Да, в этом дворце меня никто не обнимал т а к, возможно я ждала.
Настоящее? Да, я забыла, когда чувствовала искренность, я забыла, чтобы кто-то хотел подарить мне ее, я забыла, когда было достаточно тепло.
Сердце трепещет? Оно просто глупое, но я сейчас, кажется лишусь чувств. Не обнимайте меня так. Не надо, я не выдержу. Задохнусь здесь сейчас. Это не просто близко – это вплотную.
А он прижимает еще ближе к себе, а ее руки повисли вдоль тела неподвижно, на две плети похожие. Она моргает, взгляд останавливается. Еще раз выдохнет куда-то в плечо, чувствуя прикосновение, уже настоящее, уже вполне ощутимое, далеко не невесомое по спине, как теплая ладонь плечо сжимает. Ее же руки леденеют такое чувство.
И совершенно неожиданно, в этих объятиях вспоминает снова и все. И нет, Ваше Величество я вспомнила не только плохое, не только страшное, не только отвратительное и разрывающее душу на части.
Родительский дом и дерево магнолии, Хвин перескакивает с ветки на ветку. Матушка раздает указания, выдергивая из рук книги. Отцовские объятия, Вон где-то за спиной. А потом пересматривание карт звездного неба, которые рисовали астрономы и показывали отцу. Рука тяжелая, но такая мягкая и родная на плече, когда засыпала над ними и смущалась, когда называли: «И во сне красавица». Ён Хва, которая рассказывала услышанные в городе байки, укладывала волосы и сетовала на то, что подорожала рыба, а купцы всех «облапошивают».
Поле, земляничные поляны, солнце, ласкающее темную макушку и розовато-сиреневое платье. Ветерок, приносящий из леса запахи деревьев, мокрой коры, дикой поросли, кустов орешника. Воль любила гулять, уходить далеко, быть наедине с собой и чувствовать, что крылья за спиной вырастают каждый раз. Бег по узким дорожкам мимо высокой, в твой рост, травы луговой и слышать стрекотание кузнечиков. Божьих коровок с ладоней отпускать. Знать, что если споткнешься – ничего страшного, всегда можно подняться и побежать с н о в а.
Лунные дорожки во дворе, по которым можно было танцевать совершенно босой, но совершенно счастливой. Моменты, которые никогда не вспоминала и не собиралась. Моменты счастливые, стертые из памяти тяжелыми дождями и лисьими улыбками. Моменты, которые никогда не вернуть казалось бы, а значит незачем о них вспоминать.
Как матушка гладила рукой по щеке, как захватывал в неловкие медвежьи объятия брат. Даже Гон, образ которого за эти годы размылся, стал не резким и каким-то далеким.
Это счастливые воспоминание – как первая вспышка в сознании, которое постепенно пытается очнуться от сна. Молнией яркой прорезается, солнечным светом – родные лица, родные голоса, люди, которые любили ее. Это должно радовать, но ей вместо этого не радостно, а снова невыносимо. Не вырваться \а я не хочу вырываться, ваши объятия не клетка – ваши объятия небо\. А что-то безнадежно р у ш и т с я, уступая место опасной сердечной мягкости. Какой-то замок с грохотом на землю падает, взгляд остановившийся бегает лихорадочно по саду, чувствуя, как что-то предательски подступает к горлу, не давая снова вздохнуть. Слишком опасно, если начинают падать замки – душа начинает о т к р ы в а т ь с я, а я так старательно ее захлопнула. В открытую душу так легко плюнуть. Я пытаюсь держаться, но вы же обнимаете еще крепче, становясь еще ближе, хотя ближе казалось бы некуда. Есть куда – всегда есть шанс дотронуться до души. У виска дыхание, дыхание скользит по волосам и тепло так, что хочется плакать. Да, мне хочется плакать, а… сколько я не плакала? Год? Два? Последний раз я плакала из-за вас, Ваше Величество. Когда вы очнулись. И снова хочу заплакать из-за вас, потому что вы… просто меня обнимаете.
Обнимаете впервые за восемь лет. Обнимаете впервые с того момента, как познакомились. А я так безумно иногда этого хотела. Я так иногда безумно… вас ждала.
Он не видит ее глаз, в которых, вместо уже привычного печального стекла разливается янтарное солнце, а стекло разбивается. И пусть лицо бледнеет, пусть руки все еще не может поднять, чтобы… обнять в ответ, потому что так иногда безумно этого хотелось. Это банальное желание тепла. И именно от вас, от человека, который казалось сможет понять.
Воль понимает, что рушится и в голове последний страх воскресает. Никому не показывать слабостей, никому не говорить о чувствах, не чувствовать ничего \а влюбиться умудрилась\. Закрыться, затаиться, а потом, когда все останется позади – убежать, оставить, раствориться в утренних сумерках и не напоминать о себе. А теперь… а теперь, когда чувствуешь, ощущаешь, как плечо сжимает, как удерживает за талию и вырваться не получается, даже если бы пыталась \а она пока не пытается – нет сил и, разумеется, нет такого желания даже близко\ начинаешь понимать, что не можешь никуда уйти, оставить тоже не можешь.
Я не хочу уходить. Когда вы так обнимаете.
А если это только мираж, если сейчас сердце распахнешь а там – темнота, а пускать ее в раскрытые двери – страшно и больно. Так не поддаваться может. Это порыв, это пройдет, мы просто одиноки каждый по своему.
Воль пошатнется будто, собирая крупицы здравого смысла в кулак, пытаясь отстраниться каким-то хриплым шепотом произносит:
— Ваше Величество…
А что ты хотела сказать? Увидят? Да это, кажется, безразлично. Отпустите? Нет, не отпускайте меня, так сердце говорит, а я постоянно слушаю сердце. Не отпускает, впрочем и без ее просьб молчаливый, только прижимает крепче, безумнее и отчаяннее. Дыхание захватывает, что-то снова трескается и разбивается с отчаянным звуком. Осколки врезаются в старые раны в коже, бередят воспоминания хорошие и плохие.
Одинокая девочка, свернувшаяся калачиком в неприлично больших покоях – а когда ты одинок, то большие комнаты на тебя давят. Одинокая девочка, сжимающая край мягкого одеяла и плачущая о своей судьбе – никто все равно ее не слышал.
Болезненное горло, дающее о себе знать каждую зиму жжением и царапаньем, будто бы когтистыми кошачьими лапами проводят по гортани.
Мертвые птицы, перешептывания за спиной, которые сохраняются до сих пор.
Одна.
Одинока.
Заменима.
А когда так обнимаете, кажется, что замены быть не может. Я просто не могу поверить эгоистичным женским существом, что вы обнимали т а к кого-то до меня. Нет, дело не в том, что я хочу чувствовать себя особенной для вас, просто дело в том, что вы обнимаете совершенно по-особенному. А может быть все дело в том, что я люблю вас. Я бы могла сказать вам об этом, но сейчас не могу и слова произнести. Я может быть очень хочу быть незаменимой фигурой на шахматной доске. Фигурой, которую не так-то легко сдвинуть и которая приведет к победе в итоге.
Всхлип, совершенно некстати, как только подбородком плеча касается. Это настолько беспредельно близко, настолько душераздирающе тепло, что хочется попросить еще, но вместо этого… что это? Слеза одинокая скатится по щеке, как предвестник – будет буря. Потоп, шторм. Когда таят льды – реки наполняются водой. Когда рушатся ледники вековые – слышится треск. Воль расходилась по швам. Затопляет. Как уж тут… сдержаться.
Если бы ты только знал, да-да, я хочу бесконечно хочу сказать т ы, просто ты сближает, а позволить себе не могу и хочется разрыдаться сильнее. Так вот, если бы ты только знал. Что чувствует мое сердце. Если бы только знал — как я благодарна, что чувствую твое плечо. И сейчас моя слеза со щеки скатывается одинокая \и не последняя\ - не могу понять от внутреннего горя или от счастья, что ты з д е с ь. Оттого, что я с тобой, надежно мне и хорошо. Наши пути неисповедимы, увы. Если бы ты только знал, что чувствует мое сердце, о, если бы!... Ты бы… все равно меня обнимал? Руку мою не отпускай. Даже если иссякнут силы.
От мыслей, что объятиям предает больше значения, чем следовало бы, что объятия, которые еще пока не объяснил никто превращаются в что-то слишком для нее многозначащее заставляют сердце сжиматься еще сильнее, хочется закричать. А он все еще близко, а он кажется… разбитым.
А ты даже спросить толком не можешь – почему обнял. Почему вдруг решил… приблизиться. Я, если честно, даже как-то забыла.
Воль отстраняется, только когда он отстраняется сам, но все еще недалеко, все еще близко и все еще за плечи держит – будто она куда-то сможет уйти. Слезы – хочется отчего-то стереть, хочется утешить, но ты ведь сама… У нее самой взгляд настолько разбитым стал всего лишь от необъяснимых объятий, но ей говорящих одно постоянное и простое: «Я с тобой». И от этого хочется рыдать. Увы.
Знаете, я бы еще могла сдержаться. Я бы еще могла не задавать лишних вопросов, я бы еще могла смириться, пережить ваше: «Простите – ошибка», а потом жить этой теплотой всю свою жизнь. Если бы вы…
Раз. Боль.
Два. Знакомые строчки. Точнее ответ на них.
Три. Взгляд неверящий.
— Откуда Вы… — голос сорванный, голос глухой, а в глазах оживших боль перемешанная с надрывными голосами прошлого. Глаза сияют, в глазах слезы обжигающие и неверящие. — Как Вы…
Он на «ты», которое сближает.
А ты все еще на «Вы».
Я называла вас по имени, но вы не помните – а я не напомню.
«Незаменимые есть, Воль».
«Вы собирались . . . меня оставить».
И снова собиралась это сделать, но только после того, как все решится и встанет на свои места. Незаменимые, нужные. Не говорите этого.
Не говорите – я хочу верить.
Не говорите – рвете душу.
За первой слезой беззвучно скатывается вторая, дрожит подбородок. А знаете, у меня всегда дрожал подбородок, когда плакала, когда обижали.
— Это письмо, все же… прочитали, — горько как-то и отчаянно, прикусывая до боли нижнюю губу, выдыхая судорожно и пытаясь отвернуться, поднять к небу глаза. Небо молчит. — Я… так и не отправила ни одно из писем, которые писала… Вам… — срываясь на шепот безжизненный, потому что сил реагировать неожиданно нет. И сил претворяться тоже н е т.
Он взгляд опускает, а она на него наоборот переводит.
Я не слышала от вас таких слов наверное, никогда. Привязанность? Так может быть… так может быть я все же вам нужна, хотя бы как человек. Значит нужна. О, о боже мой, я так хотела услышать эти слова. Так они это значат?
— Когда-то я… так хотела услышать что-нибудь подобное от Вас, — предательски дрогнет голос, но взгляд, чистый, в котором страдание слишком легко разобрать, не отводит все равно. Слезы застывают, душат. Шторму быть. — Я не хотела оставлять вас. Но… я так устала. Я так… устала, — повторяя это слово раз за разом, потухая и воспламеняясь, задыхаясь от нахлынувших чувств, задыхаясь от желания снова и напрямик – обнять и спрятаться. — Если бы я только тогда услышала э т и слова. Я бы не подумала прыгать. Мне только два слова нужно было и я бы не захотела!...
Я сильная? Нет, проблема в том, что я претворяюсь.
Вы сомневаетесь в том, что я обычная женщина? А я сама обычная, которой нужно было тепло человека. Я обычная, но замерзшая, а когда лед падает, стены рушатся и замки открываются – становится страшно и неуютно. Еще одна брешь в броне – это Вы. Я знала, что позволять себе чувствовать роскошь. Чувства с ума сводят. И я схожу.
— Обнимите, — не скрывая, прямо, откровенно, открыто, потому что душа открыта.
Как просто открыть душу всего лишь… обняв. Бесцветный голос – фейерверк в душе тушится. Но только соглашаясь, чтобы стать ближе снова, соглашаясь прятаться вновь ты… ломаешься окончательно.
Чувственно, проникновенно, чувствуя ладонь на пояснице и лопатках, чувствуя замирающее сердце. Я чувствую, что сердце бьется. Но почему это так больно? Но почему прикосновение человека – так жгет? Но почему задыхаюсь?
Последний аккорд. Последнее слово. Последний затопленный корабль. Последнее умоляющее.
«Не оставляй меня, не уходи, я . . . прошу тебя».
Не оставляй меня. А значит нужна.
Не уходи. А значит хотя бы немного, но в твоем существовании есть смысл.
Ресницы затрепещут, а ее руки, которые до этого по бокам свисали теперь поднимутся неожиданно, а ее руки в плечи вцепятся в плечи б е з у м н о.
Я здесь, слышишь?
Я здесь, но не отпускай. На один вечер. Я ведь чувствую себя живой. Вы в этом месте заставляли время от времени чувствовать себя живой. Спасибо.
Мне безразлично, что стук сердца, слышен. Мне безразлично, на что я имею право, а на что нет. Мне безразлично, что я может быть саму себя обманываю, желая объятий и умирая в них.
Вы его прочитали. Вы прочитали, как я прощалась с вами и Вы… не хотите, чтобы я уходила. Я все же что-то значу. Я не бессмысленна. Я так долго хотела услышать словосочетание: «Не уходи». И поэтому я дрожу. И я задрожу сильнее после вашего вопроса: «Почему не рассказала?».
Мне больше скрывать нечего. И держаться сил нет. Все еще в объятиях, глаза прикрывая и голос дрогнет еще раз, сильнее. Голос, в котором боль. Голос в котором любовь \но боль сильнее и неожиданность\. Голос в котором в с е.
— Потому что… вы не спрашивали, — слезы по щекам стекают одна за другой, а ты чувствуешь себя беззащитной как никогда до этого. Будто снова девочка семнадцатилетняя, которая хотела увидеть маму и ничего в дворцовых интригах не понимала. Так просто, дрожа всем телом. Так просто. Просто не спрашивали. Представляете – как все просто. — Для того… чтобы рассказывать об этом… чтобы получить ответ нужен вопрос! — отчаянно, губы кусая до крови, до болезненности. Карты вскрывая, раны обнажая. Больно. Счастливо. Разве это совместимо. Но просто… он только что спросил. Человек человека. — Я… не могла рассказать. Я… не могла быть вашей женой. Не могла быть вашим другом. Я была незнакомцем, так как незнакомец может подойти и рассказать о том, что ему больно? Одиноко? На каких основаниях я могла такое рассказать?! Вы уходили от меня… Я не хотела, чтобы вы… чувствовали обязанность. Я хотела… чтобы вы сами решили… я… «Как ты себя чувствуешь?», «Что-то случилось?», «Тебе грустно?». Когда-то, если бы вы спросили так я бы ответила. Но такие вопросы… незнакомцы тоже не задают! Я так хотела, чтобы Вы спросили. Но наши отношения!... — голос срывается, голос отчаяннее, но она лишь цепляется пальцами крепче, лишь пытается стать ближе, слезы бегут быстрее, дыхание спирает. Всхлип. Боль. — Когда я пыталась стать ближе, когда пыталась помочь, когда мы смогли себе это позволить – я же все и испортила, я подставила вас, а потом вы ведь сами сказали что… нам лучше оставаться… я запуталась, я решила, что вы правы, что вместо дружбы, я становлюсь обузой, я… так хотела поговорить еще тогда, в оранжерее, но я не могла, вы уходили. Вы уходили от меня, так как я могла рассказать? Как?! — это крик или хрип? Не разобрать, не понять.
Истерика? Когда ты так плакала в последний раз? А когда хотелось? А почему с вами хочется? Но ответ разве не очевиден? А вы обнимаете. Вы не уходите, вы меня обнимаете. Это самый жестокий из снов, похожий на реальность. В котором мы ближе. В котором мы. Это мы.
Воль передергивает плечами, Воль плачет, словно ребенок плачет уже, утыкаясь носом в шелковую ткань, пропитывая солеными горячими отчего-то слезами, не в силах не разжать руки, зацепившие одежды, ни что-то другое. Цепляется, плачет, снова цепляется, прижимается сама крепче, вроде бы обвиняет в чем-то, а отпускать не хочет. Вроде бы говорит болезненные вещи, а сама не выдержит теперь без объятий, не выживет теперь без_него.
«Прости».
Не извиняйтесь, но небеса мне в свидетели, может быть это «прости» мне тоже хотелось услышать и оно было чем-то важным.
«Прости меня, Воль».
По имени называет, а внутри от этого что-то теплеет, но она все равно плачет, чуть тише, чуть менее надрывно, но все равно оставаясь той самой д е в о ч к о й, которую смогли пожалеть. Тыкаешься носом, шмыгаешь совершенно уже по-девичьи, всхлипывая и снова плача, тихонько, грустно, обнимая в ответ.
Вы не любите меня, знаю. Но чем меньше любите, в таком случае…
Сильнее тогда жалейте. Крепче обнимайте. Я не приму сострадание за любовь, но я смогу жить э т и м и мне достаточно. Как мне кажется.
Подрагивает – сломанная и вновь возрожденная, тихая, робкая, с какой-то неожиданной проявившейся нежностью в смягчившихся чертах. Шмыгнет носом еще раз. Ах да, еще до нельзя забавная.
В глаза посмотреть сил – нет и как-то неловко, потому что снова хочется плакать, снова хочется спрятаться в объятиях – совершенный ребенок, совершенная одинокая д е в у ш к а, птичка в клетке которой только что показали небо кусочек. Только не забирайте его обратно. Она чувствует его взгляд и как-то робко поднимает свой собственный. Глаза покрасневшие, какое-то распухшее лицо. Слезы по подбородку стекают. В миг от королевы с этой железной выдержкой и безразличием до девочки со шмыгающим носом, несуразной и неловкой – один шаг.
— Не обещайте, — тихонько, как-то грустно, отчего-то обидчиво, снова по-детски. — Мне будет тяжелее… оставаться одной, вдруг вы снова… — упрямая уверенность собственной жертвенности и несчастности. Последние крупицы это уверенности, которые рассеиваются после того как… ладонью к щеке прикасается к лицу.
И все внутри отзывается и вместо того, чтобы успокоиться, новый поток слез и всхлипывания после. Вы просто подумайте... как долго я этого не чувствовала. Человеческого отношения кого-то близкого. Не доброжелательности учителя Нама, ни тихого уважения и поддержки дамы Шин. Это другое, это конечно помогает держаться, но это другое. Вы просто подумайте как долго я ждала вот этого движения. И всего несколько слов.
Я бы хотела быть обычной женщиной, может быть больше всего на свете хотела бы. Но я не могла себе этого позволить. «…ты можешь приходить ко мне». Воль тянет руки, с а м а в каком-то флере собственных слез, эмоций и нахлынувших чувств – всего вместе. К любви примешивается тепло, благодарность, облегчение, участие.
Я не безразлична. Знаете иногда, как важны такие вот слова? Как мне было важно стать… нужной?
— Я передумала, обещайте, — вскидывается внезапно, губы надувается смешно, почти забавно, вытирает слезы, а они опять льются нестройным потоком. Рука в руке, пробегает импульсами тепло по костяшкам пальцев. Хо-ро-шо. — Обещайте, что не будете уходить. Не уходите, пожалуйста… Не при мне, я боюсь…
Я говорила так же, когда в вас выстрелили.
Я умоляла о том, чтобы вы выжили, а теперь вас умоляю, чтобы остались со мной. Как король, как человек, как друг, как… как Сон.
Воль тянется в объятия сама, словно пригревшийся неожиданно котенок, словно та самая птичка, которую поманила чья-то раскрытая ладонь с крупицами зерна. Она сама тянется и замирает в этих объятиях долгих, более осторожных, нежных и будто бы убаюкивающих. Теплота разливается по телу, всхлипы то затихают, то ей снова нужно поплакать. Покачивается. К такому опасно привыкать, Воль. Это первый раз, а тебе нужно еще. Опасно привыкать к спокойствию, опасно привыкать к теплу – на мороз выкинут. Но он просил доверять. И она будет. И она попробует.
Его ладонь проскользит по спине, через шелковую ткань гладкую все равно почувствуешь тепло. Утихающий плач, голова тяжелая и глаза болят. Слишком много плакала.
— У вас теплые руки и вы хороший человек, — тихо, куда-то в плечо. Щеку на плечо кладет, елозит. Ты еще совсем ребенок, Воль. Пригревшийся ребенок, который строил из себя Королеву. Проблема в том, что тебе и дальше так нужно будет делать, пока королеву в себе не почувствуешь. Дама Шин права. — А танцевать… я разучилась. Не хочу, не буду, постойте так… еще, — моя последняя искренность, моя последняя ребячливость, просьба глупая, но такая отчаянно-нужная сердцу побитому.
Я старательно веду себя с вами так спокойно и размеренно обычно – пускай. Но именно с вами на самом деле я всегда в этом и проигрываю, я вечно кажусь себе девочкой, обыкновенной и наивной, попадающей в неловкие ситуации и наблюдающей за вашей реакцией. Поймите, с вами я всегда остаюсь… Воль. И спасибо, что называете по имени.
— А у вас и правда хорошая память, запомнили, что я говорила в том… состоянии, вот же.
«Ты особенная».
Никто не сможет занять твое место.
А вы никогда не сможете меня…
Но обнимете еще, в таком случае.
— Спасибо… «Сон» — на каком-то выдохе, глаза прикрывая, опуская плечи и не двигаясь до тех пор, пока объятия действительно не завершатся.
Спасибо, я кажется могу дышать. Спасибо, я кажется могу жить.
Воль усмехается слабо, продолжая осторожно промокать глаза краем широкого рукава ханбока. Безнадежно растрепанная, покрасневшая, с распухшим наверняка носом. Возвращается определенная неловкость, но руку свою подает, осторожно и нерешительно под руку берет. А дышать все равно легче.
— Разве я могу отказать королю?...
— Знаете… я никогда не умела д р у ж и т ь. Не знала – что это такое, — пока идут медленно мимо кустов сирени и деревьев персиковых. А ночь окончательно в свои права вступает, серебристый свет касается волос. Так спокойно, еще никогда не было так спокойно. Может потому, что ночь очень тихая, а может потому, что держит его под руку. И так чувствуешь себя, наконец-то, даже в клетке с дикими зверями, спокойно и в безопасности. Чувство д о м а. Иногда оно появляется даже в таких местах. — У меня была только моя семья, Вон и… — осекается, вспоминая про Гона. Секундное размышление. Дальше. — …и его друг. Они были старше меня, а со сверстниками мы не ладили. Точнее… я для них была слишком странной. Скучной. Поэтому, не удивляйтесь, если мое представление о дружбе будет отличаться от вашего. Кроме того… иногда мне кажется, если мы приблизимся, то обязательно потом случится что-то плохое. Так было всегда, но… — остановится, все еще удерживая под локоть, теперь чуть крепче сжимая, еще чуть доверчивее. — … я говорила, что никогда не поздно пробовать. И мы можем попробовать снова, — в глаза посмотришь мельком. — Вам стоит разрешить мне заботиться о вас, потому что для меня дружба всегда это предполагала, а еще… о, нет, там Королева, кажется, — глаза делаются испуганными, а уголки губ взметнутся вверх осторожно. — … подшучивать над вами. Разве друзья так не делают? Мне кажется нашим отношениям нужна определенность.
А этой определенности не будет, она так просто на самом деле не появится, а мы будем называть их как хотим, жить на границе, потому что иначе нельзя.
Это очень непривычно чувствовать на спине его взгляд, а не наоборот. Виднеется крыша ее дворца, раскидистого дерева рядом. Пора возвращаться и отчего-то все внутри жалостливо как-то сжимается, становится холоднее. А ты ведь всего лишь отходишь… от него.
Просто иногда мне кажется, что если я уйду, то… проснусь.
Воль обернется, подойдет к нему снова, посмотрит в глаза. Лицо постепенно возвращает слегка бледный оттенок, кожа отдает лунным светом, в обрамлении темных волос, гладко убранных \а теперь снова решили выбиваться, снова растрепалась\ выглядит еще более белоснежной. Но лицо все еще сохраняет оттенок розоватого.
— Я буду на вашей стороне, Ваше Величество. Вы же мне верите? — протягивает свою руку, чувствуя, как осторожно сжимает пальцы в ответ. Пробегает разрядом молнии по позвонкам. Кое что, я все же не смогу вам рассказать. — Мы сможем доверять друг другу, а значит… мы сможем одержать победу. Я надеюсь, так и будет, — всмотришься в глаза, спокойно, почти сдержанно.
Только улыбнешься иначе. Будто бы нежнее.
Как-то невольно получается.
На ее узкие плечи закатом легло небо. Сонно мурлыкнуло, потянулось… И уснуло на этих плечах, пахнущих горьким миндалем. Не буди его. Смотри в ее глаза, в которых отражается начало времен и падение империй, нежность матерей и первобытный огонь. Женщина… Выгнувшаяся взглядом навстречу чему-то невидимому нам, простершаяся тревожным запахом любви. Женщина - хрупкий цветок, закаленный в сталь бытием, с такой ранимой душой, но способной зажигать звезды. Женщина спящая, совсем не Королева, улыбающаяся сонно этому тихому утру, улыбающаяся своим неожиданно хорошим сновидениям. Женщина – просто посмотри на нее. По утрам она зачастую самая настоящая женщина.
Воль касается лица прохладной водой двумя ладонями, зажмуривается, потягиваясь лениво и разморенно. Невольно по плечам проводишь, вспоминая иные прикосновения, которые снова не забываются. Хохотнешь, качнешь головой, прикрывая рот ладонью.
— А вы в хорошем настроении, Ваше Величество, — замечает между делом дама Шин, закончившая читать список дел на сегодня, проворно опережающая ее желания и действия, подает нужную заколку. Ту самую заколку, которую когда-то подарил ей м у ж. А Воль мгновенно серьезнеет, смеривает внимательным взглядом как обычно спокойное гладкое лицо.
— Что бы Вы знали – я не одобряю того, что вы сделали. Я думала, что могу вам доверять, — пытается сделать голос как можно более холодным, но получается так себе. Слишком дорожишь.
Придворная дама склоняет голову, а взгляд остается каким-то необычно теплым, непривычным для дамы Шин совершенно.
— Так вы все еще грустны, Ваше Величество? В таком случае, я соглашусь с тем, что совершала непростительный поступок.
— Оставьте, вы невыносимы, — усмехаешься, выпрямляя спину, распуская волосы, на ночь вечно завязываемые в толстую, крепкую косу. А по утрам волосы снова на свободу выпускаешь, позволяя шелковистой темной волне струиться по спине. Солнце играет, черным золотом отскакивает от них.
Нет, теперь мне не грустно, вы правы дама Шин. И я не знаю, что я делала бы без Вас, ведь сама я бы никогда наверное… не рассказала. Я продолжала бы страдать, в итоге я бы не смогла ничего с этим поделать, в итоге я оказалась бы слишком слабой. Я благодарна вам за столько вещей в своей жизни и окончательно к вам привязываюсь.
«Мне всегда приятно твоё общество, не думай, что это неуместно».
Воль улыбается, улыбается впервые за все это время так часто, так открыто и так искренне. И улыбку впервые попросту невозможно сдержать, она сама собой появляется на губах, а пять услужливо предоставляет фрагменты прошлой ночи, объятия все еще согревают. Вот видите, Ваше Величество – как мало мне нужно для счастья и как долго после я могу наслаждаться этим всепоглощающем кусочком этого счастья.
Ее общество… приятно? Приятно.
Значит, я могу приходить и разговаривать с вами, могу брать под руку. Мы можем решать какие-то проблемы в месте и я буду жить этим, хотя бы этим. Вы главное… не передумайте, не отбирайте у меня то, что подарили в ч е р а и не говорите об этом забыть, потому что не смогу, но притворюсь. Не смогу как раньше, не смогу снова играть в незнакомцев и общаться х о л о д н о. Да-да, я останусь королевой на людях, но с Вами… с Вами я могла бы быть Воль. Сон Воль, как меня и зовут. Я хочу быть такой.
— Приятно… — будто пробуя на вкус, не замечая, что произносит вслух, вызывая мимолетную улыбку уже у придворной дамы, которую та поспешно спрячет, но переспросит:
— Что приятно, Ваше Величество?
Воль замолкает, нарочно игнорируя заданный ей вопрос, поводит плечами, присаживаясь за столик, на котором шустрые служанки успели расположить бесконечные чашки с закусками и едой.
Институт королевской кухни всегда старался на славу, а еда выходила очень вкусной, а доходила до особ королевской семьи всегда теплой. Завтраки обычно не были такими плотными и обильными \порой не знаешь за какую еду хвататься, а ты все равно умудрилась не потолстеть\. Теплая рисовая каша, сушеная хурма, щедро посыпанная сахарной пудрой еще пара сладких закусок к теплому чаю, который подавался позже. Это обеды и ужины отличалась изобилием блюд, которое не повторяло одно другое \и это одно из законов королевской кухни\. Салат из трав, свежие овощи, охлажденное жареное мясо или рыба, тушеное блюдо, маринованные овощи, высушенное мясо или рыба. Подавалась соленая рыба, жареные овощи, тонко нарезанная вареная говядина и три специальных гарнира, вроде блюда из пареных яиц, нарезанная сырая рыба и горячее жареное мясо. Именно благодаря такому, многие считали дворец райским местом, а некоторые девушки не слишком привлекательной наружности мечтали работать именно, как ни странно на кухне \на крайний случай в швейном ведомстве\, где могли питаться вроде бы и остатками, но такими роскошными, что забывали о голоде и совершенно некстати полнели.
В зависимости от времени года подавали фрукты, а летом во время сбора диких ягод на плетеных подносах обязательно давали землянику или же малину, растущую в королевских и не только угодьях.
Воль никогда не ест много, недоедает, все говорят, что так она быстрее заболеет и нужно питаться лучше, особенно женщине. Честно говоря, я слишком часто плюю на женские условности. Нужно себя беречь. Для кого…
«Я всегда буду рядом».
Губы снова тянутся улыбнуться, ямочки совершенно очаровательные заиграются на щеках, как только в голове прозвучит бархатисто-мягкое, искреннее и в каком-то смысле умоляющее: «Не оставляй меня, не уходи, я . . . прошу тебя». Подпирая подбородок двумя руками с какой-то немой мечтательностью глядя в окно и забывая о том, что чай безбожно остывает.
Я веду себя, словно маленькая девочка, которой признались в любви. Боже, мне и правда не нужно слишком много. Прикрывая глаза на секунду, по кусочкам все восстанавливая вновь и вновь. Кажется даже дышится как-то легче теперь, а небо летнее за окном кажется особенно радостным и ярким.
Какое-то движение за дверью слышит, но никто не заходит, а дама Шин нахмурится было слегка, уже собираясь проверить все самостоятельно, только Воль изящно поднимая руку останавливает, внимательно вглядываясь в тенистые очертания силуэтов по ту сторону двери, которые просвечивают сквозь прослойку тонкой рисовой бумаги. Дверь распахивается, секундное замешательство с ее стороны, прежде чем подскочить, прежде чем склонить голову в привычном уже легком поклоне, которыми п р и н я т о обмениваться во дворце между собой. И если служанки, дама Шин покорно и мгновенно склоняют спины на все девяносто градусов, то ей, как особе королевской крови, как ж е н е Его Величества \мои отличительные признаки забавляют\ позволено склонять лишь голову. Если честно, такие ваши визиты все еще непривычны.
Как только все уходят, исчезают совсем, испуганно шарахаясь от двери, отказываясь от идеи подслушивать, \а дама Шин, все же несносна – пропускает еле заметную улыбку, когда выходит, чем-то очень довольная, ей богу\ Воль, наконец, заговаривает, поглядывая искоса на высокий предмет, покрытый черной бархатной тяжеловатой тканью. Что под ней разглядеть сложно, да и понять не просто, внутри какое-то женское любопытство разыгрывается.
— Доброе утро, Ваше Величество, — приветливо, ощущая отчего-то легкий момент неловкости \наверное все дело в привычке, вот и все\. — Что-то случилось? Или с чаем что-то не так? — улыбается, вроде бы шутит, пусть не слишком удачно.
В последний раз вы приходили в мои покои очень давно, когда спасли, а я была вам так благодарна за это, что собиралась отплатить. Потом Вы спасли меня снова и я влюбилась совершенно окончательно. По крайней мере теперь мне опасаться нечего – что случилось то случилось.
Вы мой муж. Странно спрашивать у Вас о причинах визита, учитывая, что вы единственный, кому не нужны никакие объяснения своих поступков.
Воль, ты может быть не знаешь, но в твоих покоях он не в первый раз. Воль, ты постоянно засыпала \ведь ты так легко засыпаешь где угодно, но не в собственном дворце\, а он постоянно заносил тебя в распахнутые двери твоих покоев. Он постоянно носил тебя на руках, а ты это очень смутно помнишь или же не помнишь вообще. Сколько же секретов между нами на самом деле?
— Подарок? Мне? — переспрашиваешь, а потом ахнешь тихонько, а потом сердце уже растревоженное сожмется то ли от трепета, то ли от еле различимой грусти. — Птицы…
Последних птиц, которые были у тебя кто-то отравил от желания досадить, проучить и просто вытравить из дворца, словно она была какой-то заразой, не меньше. А этих тоже две. Подойдет медленно к клетке, через прутья всматриваясь в живые и любопытные черные глазки. Птичка чирикнет весело и беззаботно, склоняя быстро маленькую головку набок, склевывая ячменное зернышко из кормушки, вспархивая с ветки на ветку. Ее сосед молчаливее, чуть важнее, но посматривает также с таким же интересом в глазенках.
У Воль сияющие глаза. Может быть потому, что растрогана. Может быть потому, что он запомнил ту короткую историю, которую дама Шин рассказала тоже. Шмыгнешь носом совершенно забавно, чувствуя на пальце легкую тяжесть. Лапками птичка зацепляется за ее указательный палец, пару раз взмахивает желтыми крылышками, но не улетает. Воль осторожно погладит малышку по головке, пальцем по оперению, а та все еще доверчиво сидит и поглядывает на окружающий мир. Ручные.
— Дама Шин и об этом вам рассказала да? Она не только письмо принесла? — стараясь говорить как можно спокойнее, но слезы все равно предательски сверкают в уголках глаз прозрачными каплями. — Спасибо они… прелестные, — просто, открыто и растроганно до невозможности.
Наши птицы. Как же я могу их не любить, если это ваш подарок? Как я могу за ними не присматривать, если вы попросили? Птицы – это мы. Но птицы долго не живут, особенно певчие. А это пара, в отличие от предыдущих – самец и самка. Самец покрупнее, оперение намного ярче и если запоет, то куда заливистей, только поет не часто – все еще ни звука не проронил. Как так получается, что наши птицы и впрямь очень похожи на н а с? Воль улыбается и тянется рукой к птице уже на его плече. По крайней мере не улетает.
И вы уже не улетаете, если приближусь. И это согревает душу, пережившую заморозки этим летом и получившую долгожданную оттепель. Начинается весна моей жизни.
— Разумеется, Ваше Величество, я непременно сделаю так, чтобы с ними все было хорошо. Возвращайтесь, мы будем ждать Вас, когда захотите прийти, — пересаживая к себе на плечо е г о птицу, и провожая до дверей, вплоть до выхода из покоев.
«Возвращайтесь».
Мы будем вас ждать.
Я и понятия не имела, что когда-нибудь буду говорить эту фразу не с птицами умными и певчими на плечах, а с ребенком на руках. Но очень хотелось.
— Ваше Величество… — дама Шин все пытается напомнить о своем присутствии, но ты будто не замечаешь, игнорируешь, поглаживая золотистую грудку канарейки, подсыпая зернышек в клетку. Птичьи перья мягкие, лоснящиеся, играющие золотом в закатных лучах. Придворная дама повторяет снова терпеливо, сдержанно, но настойчиво. — Ваше Величество.
Вздрагиваешь, отрываясь от своих новых подопечных, вопросительно посматривая на придворную даму, держащую в руках бумажное полотно с четко прописанными на нем иероглифами. О событиях непосредственно во внутреннем дворе Воль просила докладывать ей. Отлично знаешь, что Её Величество, Вдовствующая Императрица, тоже осведомлена обо всем происходящем, сохраняя свой контроль надо всем \такое чувство, что мы живем под каким-то черным полотном, через которое просвечивает злобный змеиный взгляд\. Сохраняла за собой и печать, заверяющую определенную силу и являющейся ее подписью непосредственной. Воль хорошо знает п о ч е м у печать не у нее \не сказать, чтобы я стремилась, просто так будет лучше\ и знает, что это очередной жест двора, чтобы указать на место. Безразлично, потому что так будет не всегда – никто из нас не вечен. Ветру не бесчинствовать все время.
— Простите, я прослушала.
«Простите, я увлеклась очередным подарком, простите я задумалась, простите, я просто раз за разом возвращаюсь в одном и то же мгновение и с удовольствием прокручиваю его в голове».
— Я говорила о воровстве в гареме, Ваше Величество.
— И кто жаловался? Украденное нашли?
— Наложница Хэ. Нет, не нашли, Ваше Величество и она обвиняет одну из наложниц в этом, говорит, что это точно она. Перепродала все евнуху.
— Значит, она обвиняет двоих?..
Воль нахмурится, вспоминая о красивой \такой и остается все еще, хотя по меркам гарема уже не с в е ж а\ и высокой «несостоявшейся Королеве», как ее прозвали наложницы, откровенно потешаясь теперь над ней. Гнев обиженной женщины зачастую опасен – женщины мстительны по своей природе, Ваше Величество. Впрочем, ее обида и «разбитое сердце» восполнялось определенным положением, пусть и не самым высоким, а также подарками, которые приходили из небезызвестного дворца Королевы. За какие заслуги – не ясно. Наследника так и не родилось, хвасталась она зря, а Воль ловила на себе пристальный взгляд. Еще одна.
— Я догадываюсь, что дело либо замнут, либо наложница Хэ наговаривает. Все знают, что она слишком мстительна. Еще какие-то новости есть?
— В швейной мастерской не хватает атласа, необходимо заказать.
— Разве не выделялось на это средств? Мне стоит перечитать бухгалтерские книги.
— Они утверждают, что ничего не получали и поэтому не имели возможности ничего сделать, Ваше Величество.
Книги учета это то, что хранится в гаремной библиотеке. Стоит сходить к Главному Евнуху напрямую. Он выдает зарплату наложницам ежемесячно, знает о счетах все. Этим тоже, впрочем, заведует не Воль и средства раздает и получает все один и тот же человек. Но стоит хотя бы попытаться и как обычно без лишнего шума.
«Я устала скрывать каждое свое действие, но что поделаешь?».
Воль возвращается взглядом к птицам, которых пообещали охранять, как и ее саму. Успокаивается немного, снова позволяя себе улыбнуться и не потонут в бесконечных делах, проблемах, обязанностях и даже ночных кошмарах, которые возвращались время от времени в виде расплывчатых и непонятных образов. С этими птицами даже спиться как-то легче, этим птицам снова желаешь свое тихое и ласковое: «Спокойной ночи», прежде чем забыться удивительно крепким сном.
Проблемы подождут, верно?
Поделиться72018-01-30 17:19:21
Это платье не нравится – слишком яркий красный оттенок, напоминающий кровь. Это тоже – зеленый слишком бледный какой-то, напоминающий болотце отчего-то. С таким цветом кожа покажется совсем белой и болезненной, а этого совсем не хочется. Твои неожиданные капризы терпят, предлагая другое, а ты все не можешь успокоиться и все тебе кажется не так. Дама Шин смотрит как-то понимающе, а Воль не может определиться в каком смотрится лучше. Просто обычный день – один из череды ярких и солнечных, через чур засушливых, летних дней. Просто, прислали весточку, чтобы «выпить чай». Просто ты сходишь с ума, как только тебе разрешили приблизиться, распахнули двери, ты заходишь слишком быстро.
«Понравится?»
«Не понравится?»
Гадая на цветке простенькой ромашке, отрывая лепесток за лепестком, словно ребенок, шелестя юбками по садовым дорожкам и приближаясь к скрытой от посторонних глаз \одной из многих, пожалуй, \ беседке. Где-то сзади шаги тенью следует твой недавний новый знакомый, который в первую встречу назвал имя, а больше ничего и не говорил, как бы осторожно Воль не пыталась из него вытянуть эти сведения. Сухо – телохранитель, твой личный охранник. Достаточно молод и до нельзя молчалив, зато просто так не пропустит и не подпустит даже случайно забежавшую во дворец мышь. Соль долго возмущалась, когда даже ее не сразу пустил, по какой-то оплошности. И до сих пор это немного непривычным кажется, но терпишь. Быть может, так все же лучше. Пахнет ароматным зеленым чаем, отдающем запахом мяты – в жару такой чай отлично освежает. Суетятся призраками незаметными служанки и придворные дамы, замечаешь на ходу спину, облаченную в зеленый шелковый мужской ханбок – бессменный евнух Чон. Миниатюрные чашки из фарфора, в которых чай обычно никогда не остывает, но в летнее время года его специально стараются не делать слишком горячим, чтобы у королевских особ не выступили капли пота на лбу и висках. Даже у чая во дворце есть свои правила неизменные.
Воль переступит через пару ступенек под сень деревянной беседку, Мун Сухо остается снаружи, вперед не проход. Оторванная на несколько метров от земли беседка, надежно спрятанная от палящего солнца – идеальное место для летних посиделок.
— Как вы, Ваше Величество?
Эти титулы необходимы, потому что таковы правила, а меня всегда вводили в какой-то транс – уж очень холодно они для меня звучали. Будто разговариваешь с чужим человеком, но называть вас так – это своеобразная привычка, которой нужно было следовать. Воль садится рядом, изящным движением руки берет чашечку двумя руками к губам подносит. Пряно-ореховый запах этого зеленоватого настоя с травянисто-персиковыми нотками касается языка, мятный вкус остается во рту, охлаждая слегка. Все же… жарко.
— Снова началась засуха, я слышала. Надеюсь, того произвола с колодцами как когда-то не будет… Я подумала, что дворцом тоже стоит заняться. Как ни крути, а это наш дом, в котором мы живем. Некоторые постройки такие старые, я слышала о нашествии крыс. А крысы – это всегда болезни. «А с крысами у меня тоже воспоминания имеются». Так что лишних проблем нам не требуется.
Говорить о делах – это пожалуй совсем не то, чем следует заниматься, пока пьете чай. Быть может следует дать расслабиться, следует поговорить о погоде или стихотворениях. Но погода – слишком холодная и безразличная, безликая тема. А стихотворения… вот это штука, я даже не знаю – любите ли Вы поэзию, хотя за это время смогла узнать о вас много. Много, но недостаточно.
Видит, что серьезнеет, перестает на вопросы отвечать. Воль в какой-то момент и сама замолкает понимая, что в такие минуты стоит просто помолчать и дать человеку п о д у м а т ь. А сама украдкой, незаметно наблюдает, уголки губ нежно скользнут вверх просто от того, что может смотреть спокойно и не отворачиваться. Может наблюдать за тем, как опускаются в задумчивости уголки его губ \вы должны знать, что у вас красивая форма губ, наверное все принцы красивые по определению, но говорить за всех не могу – я встречала только в а с\. Может наблюдать за тем, как дернется бровь, как взгляд темных глаз, которые всегда будут напоминать ониксы, лежащие на дне твоей шкатулки с драгоценностями, затуманится то ли нелегкими думами, то ли воспоминаниями, приобретая этот неповторимый оттенок мягкой задумчивости. Может наблюдать за тем, как пальцы обхватывают всю ту же миниатюрную чашку для чая. Сама забывается.
Знаете, мне все же кажется, что с тех пор, как мы стали Королем и Королевой что-то изменилось мимолетно. Разве жизнь не стала чуть увереннее? По крайней мере у Вас? Все стало сложнее, но по крайней мере честней.
— Что? — встрепенется сама, забывая о чем вели разговор и застигнутая врасплох, поспешно отводя взгляд, поспешно возвращая лицу дружелюбно-вежливый вид. «Не дай небеса, вы поймете, что глазею на вас так бессовестно». — Ах, птицы. Вы должны прийти и проверить сами. Мы так договаривались. Вы сами должны прийти ко мне, Ваше Величество, — улыбнется легко, будто играючи, грациозно отставляет чашку на столик, стараясь при этом ставить ее как можно тише. Привычки, выработанные дворцом. Быть аккуратной во всем, а неуклюжесть свою пришлось оставить. Теперь только так. — Разговор?...
Воль чуть было не прикусывает нижнюю губу, стараясь сохранить заинтересованное выражение лица, а внутри все испуганно сжимается. Она говорила Соль… многое и что она могла рассказать… много чего могла. Например, твои слова про собственных детей, про то, что их не будет.
«Стоит порадоваться, что я не откровенничала с ней о своих чувствах. Да я никому о них не говорила, даже даме Шин. Или же они настолько очевидны, что и говорить не следует? Но вы же не поняли, значит все не так уж и прозрачно». Впрочем, Её Высочества не распространялась обо всем разговоре и, услышав первые строчки, Воль облегченно выдыхает.
— Её Высочеству не следовало этого делать, но обижаться на нее невозможно, вы правы. Потому что это Соль, — качая головой, глядя заинтересованно. — Министры редко находят увлекательными такие вещи, когда у них перед глазами проблемы государственной важности. Но, если проблема бездомных детей и необразованного народа не государственная, тогда мой слабый женский умишка вряд ли что-то понимает в политике, Ваше Величество. Кстати, я тоже думала о швейном ведомстве. Они жаловались на нехватку рук. Не знаю, правда, смогу ли я убедить их, что девочки бедняков не хуже дочек обедневших дворян…
«Вам достаточно сказать слово и улыбнуться, чтобы получить чьё-то сердце».
Ресницы махаоном взметнутся вверх, а лицо на миг приобретет снова выражение удивления. Не может привыкнуть к к о м п л и м е н т а м, тем более с вашей стороны.
— Мне кажется, Вы преувеличиваете мои способности к убеждению…
К тому же от Вас я не смогла в свое время добиться даже улыбки, а тут такая уверенность. А тут такие слова. Не говорите со мной так – сердце снова тревожно затрепещет, но я не могу понять. Я вроде бы стараюсь сдержаться, а с другой стороны… приятно. Я живу на границе наших странных отношений, которую я никогда не смогу перешагнуть. Но я бы хотела… себя понять.
— Я приду, Ваше Величество. И о молчании вам не стоит напоминать – я вообще не привыкла делиться с кем-то своими мыслями и планами уже с давних времен. Но мне стоит переодеться, прежде чем прийти? — лукаво улыбнется, пряча волнующееся сердца за дружеские шутки. — Как вы спите, Ваше Величество? Все хорошо?...
Чай мягкий и приятный, отдающий персиком и мятой, зеленый и душистый, но не пряный – то что нужно для лета. Из сада доносится аромат цветов. Еще несколько мгновений, прежде чем расставаться, но теперь расставание не представляется таким грустным, ведь… вы вернетесь. Теперь, совсем не грустно. Но вдвоем, все же, приятнее.
Теплое дыхание Парама, опаляет щеку, погладит по морде, конь весело фыркнет, а потом захрустит ягодами, которые бессовестно съедает, шевеля теплыми губами и иногда подталкивая в спину – сущий ребенок, хотя не маленький уже. Ржание заливистое, а идет нехотя, притормаживая иногда. Жарко, травы мало, Парам-обжорка недоволен – недостаточно.
Воль хватает одуванчики, успевает насобирать букет, ветер такой же теплый, как и прогретый воздух, шевелит волосы, собранные в самый что ни на есть простой пучок. Переплетает стебельки, собирая их в венок с толикой задумчивости. Куда мы идем – точно не знаю, но не все ли равно. Если удается выйти из дворца, если удается остаться вдвоем, а это значит… я могу попробовать перестать быть королевой? Вновь?
Он разговаривает с конем, словно с ребенком – вы вместе выросли, он рос на ваших глазах и остался этаким… непосредственным. Воль спрячет улыбку, качнет головой, слышит упрек в сторону Парама без манер.
Если честно, я потерялась где-то на моменте: «А вам следует..,» уж слишком серьезно вы звучали и уж слишком серьезный у вас был взгляд. Воль сглатывает, улыбка собственная с лица сползает, выражение глаз становится особенным. Один раз можно ответить и… честно.
— Нет, не смущает. Мне нравится, — пожимая плечами, глядя прямо, не отводя взгляда.
Мне нравится – потому что когда еще мы вообще можем быть так близки, как не в моменты верховой езды? Мне нравится и это правда, даже отрицать не стоит, но может не нужно было быть такой прямолинейной. Но вы просили отвечать честно. — И потом, разве друзей должно такое смущать? — улыбаясь \позволяя себе улыбнуться\ и вешая веночек. Параму за ухо.
Тот взбрыкнет, мотнет мощной шеей. И правда, ему не пойдет.
Я думаю, что мой дом походил бы на нечто такое, не продай его кому-то другому. Я думаю, по нашему двору тоже валялась разбитая глиняная посуда, продырявленные корзины. Я думаю крыльцо заросло бы высокой и жесткой травой, а деревья стали бы сухими. О цветах не могло быть и речи, прямо как здесь, а доски под ногами скрипели бы нещадно кое-где прогнившие. Наверное, Ваше Величество, вы помните это место совсем не таким, я же его вижу впервые. Иногда… лучше не менять воспоминаний, но выбора нет. Воль застывает в полу шаге, не торопя с делами, рассказами и объяснениями. Сердце сжимается только, как представишь на его месте себя.
Я… могу вас понять снова.
Когда его голос дрогнет рука как-то по инерции протянется, но на этот раз все же позволишь себе осторожно сжать плечо. Не столько сочувствующе, сколько успокаивающе. Выслушаешь внимательно, кивая серьезно, осматривая двор и дом и прикидывая мысленно, как можно будет здесь разместить всю детвору. Как можно все обустроить. Дом большой и кухню организовать будет просто – только порядок навести бы.
— Нам, наверное стоило взять еще кого-то с собой. Здесь действительно много работы, но… нам нужно очень постараться, Ваше Величество, — задумчиво, касаясь взглядом сорняков многочисленных там, где наверное когда-то росли цветы.
«Было бы хорошо их снова здесь вырастить…»
«А вы уверены, что мы справимся вдвоем?»
Мне бы вашу уверенность. Воль закатает рукава, бессовестно обнажая локти \во дворце для женщины это неприлично, практически непростительно, но мы не во дворце\. Вы сами сказали, что мы лишились своих титулов на один день. Воль тряхнет головой – признайся честно, девочка, ты ведь тоже тяжелой работой не занималась даже дома. Готовка воспринималась как само собой разумеющиеся, но все же от работы твои нежные руки ограждали до нельзя усиленно и рьяно. Как и всех дворянских детей. Главное – чтобы руки оставались чистыми и белоснежными, а остальное как-то неважно.
— Лишились титулов… мы будем как Король и Королева в изгнании, — шутит, рассматривая воду на дне колодца, рассматривая тяжелое ведро, сколоченное из грубых досок с веревкой прогнившей в некоторых местах, но все равно на вид прочной \надеюсь, веревка выдержит\. Спусковой механизм вроде бы работает. — Потому что женщина не сможет поднять такую тяжесть? — поддевает по-дружески, берется за канат, пока он исчезает внутри.
Да, Ваше Величество, как по мне мы оба недогадливы. А я просто не хочу видеть за вашими словами и н о й подтекст. Женщинам нужно себя беречь – это правда. Женщина должна родить ребенка – истина. Но я не та женщина, я совершенно особенная. Может поэтому, заболеть не боялась, может поэтому рисковать тоже не боялась. Когда терять нечего – страх исчезает и это опасное состояние. Мне кажется, я обретаю вас. Мне кажется, все становится запутанней. Едва ли не теряет ведро в глубине колодца, когда руки, держащие канат ослабевают. Вздрогнешь, в последний момент ухватишься, слышишь глухой «бульк» от соприкосновения с водой. Вытягиваешь.
Плечи напрягаются, когда приходиться окончательно наружу вытянуть и поднять. Действительно тяжело, а ты кажется с водой переборщила все же. «А он ведь просил..,»
Воль вскинется, когда попросит помочь снова. Помогать вам мне нравится, но мне кажется к концу дня кому-то из нас придется либо взять другого на спину, либо заночевать прямо здесь. Ни вы, не я, не подготовлены к такой работе. А ведь это только начало.
Зато вместе, Воль. Зато вместе.
А вы выглядите необычайно довольным, Ваше Величество.
Я так хотела, чтобы вы попросили моей помощи.
— А теперь вы не будете говорить, что «если вам заняться нечем – помогите»? Что? — усмехаешься, неожиданно легко вспархивая в дом, наполненный затхлыми лежалыми ароматами. — Я говорила вам, что злопамятна. Если вы помните.
Мебели много и добрая часть из нее не подлежит восстановлению. Ухватишься за один край бывшего когда-то очевидно очень красивым деревянным столом, за которым ели. Вспоминается, как когда-то также таскали мешки с рисом, вспоминается, как было неловко, потому что в то время впервые вели себя как л ю д и, а не как чужие. А потом все повторялось, потом снова отдалялись друг от друга и так до бесконечности, будто играя в только им понятные догонялки. Воль задумывается, отпуская собственный край, выпуская из цепкой хватки пальцев и понимая, что таким образом нарушила баланс.
— Вы ударились? — мгновенно вскидываясь, оставляя столик, неожиданно напуганная, смущенная.
Нет, обычная царапина это конечно не стрела в груди. От одной мысли кровь стынет в жилах. И все же, Воль, помощник из тебя так себе. И это твоя вина. Она смотрит обеспокоенно, бесцеремонно вырывая руку и разглядывая. Заноза ведь, ты посмотри. А вы только начали можно сказать. Получить занозу здесь на самом деле ничего не стоит – все вещи старые, местами прогнившие до безобразия, местами уже порядком расщепленные на доски и щепки. Воль хмурит брови, разглядывая руку, качнет головой, цокая языком. — Нет, все же я проклятие, Ваше Величество. Вечно, когда я пытаюсь вам помочь получается что-то такое. Потерпите немного, я вытащу у вас занозу из руки, а с царапиной придется разбираться дома.
Я назвала дворец домом. Быть может впервые. Быть может, из-за вас.
Воль проводит пальцами по поверхности ладони. Маленькая щепочка застряла и ты можешь ее разглядеть даже. Надавишь ногтем с определенной силой, чтобы выскочила, снова извиняешься, если больно, хмурясь уже сосредоточенно и прикусывая губу от стараний. Было бы проще, если бы была иголка, но из старых швейных принадлежностей, которые удалось разглядеть, лучше ничего не трогать. Ржавые и тупые иглы вряд ли сослужат ладони хорошую службу, а еще чего недоброго нарвут, расцарапают и занесут новую заразу.
Воль будто извиняется, дует на ранку, забавно надувая губы. Приговаривает как-то автоматически, вспоминая фразы матушки: «Все пройдет, все пройдет», каким-то шепотом, будто с ребенком, ей богу.
Когда я хочу помочь, я забываю о рамках, границах, вежливости и неловкости. Я просто хочу помочь. Именно вам. Тем более это я натворила.
— Достала! — с какой-то детской радостью собственного успеха, разглядывая маленькую и тонкую щепку в пальцах. Выбрасываешь. — Давайте осторожнее на этот раз.
Мебели много и кажется, конца и края ей нет. Смахиваешь со лба прилипшие волосы, чувствуешь, как по шее вниз за воротник капельки пота стекают. Не привыкла. Трудно привыкнуть к такой работе, когда всю жизнь занималась письмом, танцами и философией. Когда восемь лет провела в закрытом мирке, где тебе не разрешали лишний раз д ы ш а т ь. Но как бы тяжело не было – зато ты ощущаешь себя полезной, живой. Это в конце концов твоя идея, Сон Воль.
Особенно крупные и тяжелые на вид комоды вытащить сквозь дверной проем не выходит, вы еще и спорить начинаете, потому что не можете понять – как лучше развернуться. Ты стоишь лицом, а он пятится.
— Чуть левее, тогда пройдем, — бессовестно командуешь, действительно забывая, что перед тобой твой муж, да еще и Король. — Это право, а не лево, Ваше Величество! — звучит как-то возмущенно. — Да, давайте пройдем чуть вперед и тогда получится… развернуться нужно, я попробую с этого края… Это тяжело, Ваше Величество, давайте вы все же развернетесь!
Ловишь удивленный взгляд на себе, пожимая плечами, кивая в сторону прохода. Если честно деревянные предметы вовсе не воздушные, а вполне увесистые. И плечи чуть подрагивают, когда вы наконец договариваетесь, начинаете чувствовать движения друг друга и выбрасываете последний тяжелый старый предмет в общую кучу, которая выросла неимоверно. Мгновенно раскалывается на щепки. Все старое так… трескается со временем. И ничего не остается. Правда особенное ценное не имеет свойства исчезать.
— Это же вещи вашей матушки, Ваше Величество, вы уверены?.. — когда на колени опускает красивая резная деревянная шкатулка.
А он уверен.
Ваше Величество, может вы не замечали, но памятные вещи вы отдавали мне. Заколку Су, шкатулку своей матери, в которой множество чуть пыльных украшений, которые тебе самой нравятся. Без лишнего изыска, простые, но красивые. Как у тебя.
— Хорошо, что Ваша матушка не забрала их во дворец. Так, они хотя бы сохранились. Ценности от дворца стоит держать подальше.
Такой уж у нас с вами д о м.
Воль разглядывает шкатулку с неподдельным интересом, проводя пальцами по украшениям, которые сохранили память о его матери, сохранили чьи-то воспоминания. Повертишь шкатулку в руках, подмечая что-то странное, что-то едва заметное, будто выдвигается что-то. Двойное дно у шкатулки, на ладонь выпадает маленькая фигурка лошадки, деревянная, отлично сохранившаяся. Поглядишь на подножку, на которой лошадь стоит. Иероглифы маленькие различить невозможно. За пазуху спрячешь. Ваше Величество, я думаю, это следует отдать вам. Как и письмо, которое нашлось здесь же, стоило только выдвинуть ящичек шкатулки с секретом.
Выжимаешь тяжелую, намокшую тряпку, бывшую когда-то то ли частью покрывала то ли еще чего. Руки пахнут пылью и водой – хочется отмыть, все еще не привыкла, но вполне мужественно, проводишь по полу – помощь ждать особенно неоткуда. Чихает от пыли, которая поднимается, утирает нос рукой. Глаза от этой пыли слезятся, но даже сквозь слезы можешь уловить движение в свою сторону. Паутины здесь очень много \ты запуталась несколько раз даже\. Искоса поглядываешь на мужа, догадываешься о коварных замыслах.
— Даже не думайте об этом… — начинает она сдвигая брови, вполне серьезно. — Мой брат так подшучивал в детстве, я все вижу Ваше Величество и… — тут, другой паук, которого очевидно сместили с его пыльного трона и паутины, в которой успел поймать мух, упал на плечо. Небольшой черный паучок, но заметный. Воль не договорит своей поучительной тирады, вскрикивает, подпрыгивает, скакнет к нему, цепляясь за руки и зачем-то прячется за спину его. Жмурит глаза испуганно, по-детски совсем. — Снимите, снимите, снимите, я их боюсь, ужасно боюсь!
Ты Королева государства Чосон – маленького, но гордого. Ты мать для народа, жена Короля. Ты сохраняешь достоинство, когда многие давно упали бы, потеряли бы самообладание. Тебя в сарае с крысами закрывали, брата убили, подкладывали морозник в воду для умывания, а ты со страхом настоящим смотришь на… маленького паучка, которого уже и след простыл – смахнула видимо куда-то на пол. Воль забывается, прячет лицо у него на плече, совершенно не до неловкости – главное монстра с мохнатыми лапками нигде нет и ладно.
Вот поэтому, меня пугает министр Хван, который тоже похож на волосатого паука, который в свою паутину ловит всех и вся. Я… боюсь пауков.
Выдыхаешь рвано, отскакиваешь поспешно в сторону, неловко шмыгая носом.
— Забудьте об этом, — пытаясь вести себя как можно более непринужденно, поправляя волосы, вновь берется за тряпку.
Я так часто прошу вас з а б ы т ь.
Бесконечные клубы пыли, сменившиеся запахом мокрой древесины. Постепенно дышать легче, а спина заболит сильнее, плечи заноют, когда ухватится за ведра было, но они уползают из рук, а губы трогает усталая улыбка благодарности.
Я воспринимаю это как заботу, можно? Я так хочу, чтобы обо мне заботились. Спорить сил не остается, но хочешь было спросить: «Вы не устали, может быть следует отдохнуть?». Отдыхать совершенно некогда.
— Не знаю сколько, Ваше Величество, — прозвучит весело и звонко, когда она услышит его голос из соседней комнаты, вытирая пыльные оконные остовы. — Но у меня хорошая память и вам не поздоровится!
«Впрочем, это моя идея. И вы мне помогаете. А я помогаю Вам. Большего не нужно. К тому же я снова занята чем-то полезным. Таким как я заниматься чем-то полезным… необходимо».
В библиотеке пыли оказывается особенно много на книгах, которые бы с удовольствием порассматривала бы, но сейчас не о том разговор.
— Ёна мне будет не хватать… — задумчиво, с серьезным выражением лица, напоминая себе, что люди уходят и приходят, а ты в своей жизни остаешься сама с собой. Привязываться к людям опасно, а вы друг к другу привязались. Увы. Не успевает заметить, как в ладони набирает воду и как только обернется, чтобы поделиться своими мыслями, но в итоге получает целый фонтан брызг в лицо. Смаргивает холодные капли с глаз, жмурится, ошарашенная почти таким нападением на свою персону.
— Это… не справедливо, Ваше Величество, — фыркая, оттирая тканью рукава влагу с лица, зачерпывая из ведра воду в свою очередь, но промахивается, а он и не думает ей поддаваться. — Стойте на месте! Или это объявление войны? — неожиданное лукавство в голосе промелькнет – новая порция зачерпывается, а он опережает. — Вы действительно не любите проигрывать!
Ты смеешься, Воль. Когда ты смеялась в последний раз? А ты вообще… смеялась? Смеешься счастливо, хохочешь, вся мокрая, вымокшая и уставшая, но определенно счастливая. И остановиться в этой уже совершенно детской забаве не в силах, хотя платье давно вымокло, а волосы покрылись прозрачными каплями. Безбожно проигрываешь в этой битве, но не злишься.
Я чувствую себя победителем.
Грудная клетка будет рвано подниматься и опадать. Сквозь собственный серебристый смех, сквозь собственное счастье и не заметишь, как подойдет к тебе близко и не сразу поймешь, почему перестаешь дышать. Просто посмотришь открыто в глаза несколько секунд, улыбаясь, а потом наконец снова… падение.
— А мне кажется, что это ваш живот дает о себе знать, — качнет головой, улыбаясь чуть с д е р ж а н н е е. Да, когда вы близко – мне это нравится. И да, когда вы близко мне невыносимо. Способна ли я любить? Отнюдь. Во мне разливается боль вперемешку с отчаянным желанием жить и влюбляться. Я бы отдала тебе свое желание, я бы отдала тебе всю свою любовь и без сожаления осталась бы без сердца, абсолютно пустая и беспомощная, ненужная целому свету. Если все это поможет вернуть улыбку на твоем лице, мне не жаль себя, мне не жаль ничего. Мне кажется сегодня я видела отголоски этой улыбки и мне безумно понравилось. — Мы хорошо постарались, Ваше Величество. Я бы потом занялась двором, посадили бы цветы, убрала бы сорняки… но все это позже. Чуть позже… а пока я нами горжусь.
Одежда пропахла костром, едким дымом и воспоминаниями об этом дне. Одежда пропахла мокрым деревом с запахом кедра, пылью, а в волосы безнадежно испачканы. Перед глазами пламя костра, поедающее гнилые доски с жадностью, все трещит, а снопы искр отлетают в темнеющее постепенно небо, отражаются в глазах. Побаливают запястья и жжет ладони \готова поспорить у меня тоже есть занозы или нарывы\, но в сердце разливается такая радость, что на усталость внимания не обращаешь. Из мастерской Воль смогла забрать для себя еще пару резных игрушек, остальное оставляя для детей.
«У вас была очень красивая мать. И вы ее очень любили».
Воль обхватывает руками колени, чувствуя, как щеки розовеют окончательно, то ли от жара кострового, то ли от активной работы и постоянного нахождения в движении и свежего летнего воздуха. Молчание, нарушаемое все тем же треском дерева в огне тлеющем.
— Сначала детям нужно будет просто привыкнуть к тому, что не нужно выживать, а можно просто жить. Они привыкнут доверять тем людям, которые будут рядом с ними. Доверие - это самое главное, Ваше Величество. Без него не получится. А потом можно будет говорить об учебе. Дети восприимчивы, я думаю. Я верю, что мы поступаем правильно, Ваше Величество. - ответишь просто, а он ближе пододвигается, а она замирает на месте.
Вы просто хотите ближе, но не в том смысле, которого хочу я. Понимаете? Это тоже грустно, но, как я уже говорила, дело в том, что я отчаянно разрываюсь. Я не могу и не хочу лишать себя тепла, но это же тепло зачастую становится каленым железом. Просто вы мне нравитесь, вы мне не безразличны. Что я могу поделать? Я хочу сказать это, но не могу - трусиха. Я хочу сказать это и не могу - потому что не хочу слышать отказ. Эгоистично. Лицо близко-близко в отсветах пламени. Ближе. Он смотрит так пристально, что ты беспокоишься о том, что душу разглядит, а душа ведь нараспашку, так почему не замечаете? Может быть было бы проще, если бы вы сами догадались?
"Вы же мой друг".
Да, я ваш друг. Я ваш друг и мне стоит напоминать себе об этом периодически. Я ваш друг, я рада что я ваш друг. Я убеждаю себя. Это все, что я могу. Вы сами меня другом называете. Вы сами. И это прекрасно.
Воль не показывает н и ч е г о, раковина схлопывается, дверной проем прикрывается, а улыбка теплая и вроде бы дружеская трогает губы.
- Я рада быть вашим другом, Ваше Величество. И что же... значит мне придется жить с этой ответственностью дальше. Ведь я всегда доверяла вам. Давайте и дальше... останемся друзьями, Ваше Величество.
Только не говори мне, что мы даем такое вечное обещание, Сон.
На самом деле этот летний день был прекрасным и даже палящее солнце будто бы жарило не так сильно. С самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пылает пожаром: она разливается кротким румянцем. Солнце — не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно лучезарное — мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый ее туман. Верхний, тонкий край растянутого облачка засверкает змейками; блеск их подобен блеску кованого серебра... Но вот опять хлынули играющие лучи, — и весело и величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило.
В последнее время Соль слишком часто уходит из дворца, в последнее время ты слишком часто дышишь этим хмельным духом свободы, умудряешься, правда, не забываться и точно знаешь, что дворец непременно позовет обратно. На этот раз удалось достать еще более скромную одежду, на этот раз. Ли Сэдоль забрался через чур далеко, пожалуй, а для лучшей маскировки вы даже без лошади. Ваше Величество слишком странно было бы, если бы двое людей, одетые как те же бедные крестьяне, что поля рисовые возделывают взяли с собой великолепного черного скакуна, согласитесь.
Деревенька встречает гулом, старенькими домишками. Пыль дороги, песок, дома. Старушка с соседнего крыльца улыбается солнечно и красиво. Ничем не выделяетесь вроде бы. Жарко, все еще жарко.
— А вы точно знаете, где его искать? Хотя бы как он выглядит? - понижая голос, когда заглядывают в очередной дворик и не находят нужного им учителя математики.
Воль его не знала, что удивительно - всех ученых она знала хорошо. А вы очень хорошо притворяетесь, только вот вас все равно, увы, узнают. Узнают и осуждают?
Для начала люди не поверили, недоверчиво в лица их вглядываясь, Воль хмурится невольно, придумывая оправдания, чей-то голос прерывает ропот и: "Да с ума ты что ли милая сошла, откуда здесь Королю-то?". Голос насмешливый, хрипловатый.
Хмуришься сильнее.
— "Осуждая друга, посмотри за собою", говорят? Чего судить человека по прошлому? — хмуро спрашивает у мужчины, лицо которого заросло густой темной бородой. Воль нарочно народными поговорками спрашивает, чтобы себя не выдавать, но, кажется уже все равно поздно прятаться. Уже и без того все узнали. А мужчина оказывается тем самым Ли Сэдолем, имя которого, как и остальных вводила в список \у меня ушло достаточно времени, чтобы подходящие кандидатуры подобрать, не без вашей помощи, конечно же\.
Обиженный еще Главным министром, который ныне ушел в отставку по старости, лишившийся всего и оказавшийся з д е с ь. С небес в самые пучины земли. Люди не верят все еще, но видя на коленях одного - падают на колени сами.
Посмотришь на мужа вопросительно.
Ухватишься за рукав, прошепчешь негромко все еще:
— Ваше Величество, вы мне сейчас предлагаете дар убеждения применять? И что мне сказать?...
Что сказать женщине, которая не хочет детей? Что может сказать ей женщина, у которой их нет?...
Жена Ли Сэдоля оказалась хрупкой на вид женщиной, аристократично-бледной, с хрупкими запястьями и поведением, сродни девушкам из знатных семей. Смеривает внимательным взглядом, худенькое лицо осунулось, глаза кажутся до нельзя большими на этом лице.
- Ваше Величество, мне так неловко, мы живем совсем скромно, - неловко заламывая руки, оставаясь в комнате с Воль наедине.
"Импровизировать так предлагаете? Ваше Величество, вы сказали моей улыбки может быть достаточно, так?". И пары слов, Воль и пары слов.
- Глупости. Не стоит стыдиться, своего положения, да и скоро, я думаю, все встанет на свои места. Об этом я и хочу с вами говорить. Не стойте, присядьте, мне как-то неловко, - прозвучит мягко, к себе располагает. Она сядет рядом с тобой, трогательная в своем трепете. - Давайте забудем о том, кто я и вспомним кто мы. А мы обычные женщины. И я хочу поговорить с вами как с женщиной. Я знаю, что ваш муж очень хочет ребенка.
Опустим, что сына. Просто ребенка.
Воль говорит прямо, честно, почти прямолинейно, глядя в глаза без стеснения.
Женщина поведет плечами, сверкнет взглядом предупредительным в сторону двери, где находится ее муж.
- Ах, Ваше Величество понимаете... как я могу родить ребенка, если мы сами себя едва-едва можем прокормить. Да и не уверена ни в чем, ребенок... это очень тяжело, Ваше Величество.
— Я хочу рассказать вам историю в таком случае. Об одной женщине. Это грустная история. Но послушайте. Одна женщина всю жизнь будет смотреть на чужих детей. Она знает, что может родить своего ребенка и она хочет этого, но судьба сложилась так, что это невозможно. Она здорова, кто-то говорит, что красива, кто-то напоминает ей, что она стала бы отличной матерью.
Она улыбается чужим детям, она понимает, что ее ребенок стал бы смыслом ее существования и что ее ребенок был бы тем существом, которое любило бы ее. Но у нее нет ребенка. И никогда не будет. Красота зачахнет под гнетом времени и тяжелых жизненных обстоятельств. О ней забудут однажды, потому что она не оставит после себя следа... - голос глохнет, а я очень рада, что вы где-то за дверью. И не слышите, что пришло мне в голову сказать. А мне пришло в голову рассказать правду. Мне вдруг жизненно необходимо выговориться.
Взгляд груснеет, Воль улыбнется печально.
- Иногда она представляет себя вокруг детишек или хотя бы одного-единственного ребенка. Знаете, этой женщине жизненно-необходимо родить ребенка, а она не родила. Жить, зная, что можешь подарить жизнь, но не делать этого. Жить, желая тепло дарить, а в итоге колючки выпуская. Когда у тебя ничего нет - это неизменно. Забвение - вот что будет в итоге. Так.. какая жизнь тяжелее? Ваша... или моя?
Я поднимаю белый флаг. Я признаю, что эта история обо мне, а голос становится тверже. В глазах снова появятся искры королевские, плечи распрямляются. За руку возьмешь, загрубевшую, исколотую иголками затупившимися. Его жена работала белошвейкой.
— О работе Вам беспокоиться не стоит более. Это вопрос улаженный и мы постараемся с моим... мужем, чтобы больше не было совершено такой несправедливости. Я надеюсь, он покажет себя хорошим наставником для других ребятишек. Пока что. Вы... Не лишайте себя возможности быть счастливой. Ваш муж вас любит, а вы любите его, раз до сих пор вместе, несмотря на все трудности, верно? Я завидую вам. Вы сможете родить прелестного мальчика или девчушку. А я с удовольствием приду на церемонию выбора имени, - погладишь по руке, похлопаешь, а она затрясется вся, словно осиновый листочек. То ли от того, что согласна с твоими словами. То ли просто от какой-то немой благодарности.
Ты тоже отчего-то хочешь заплакать.
Я просто, пока рассказывала эту историю вдруг кое-что поняла. Я действительно хочу родить ребенка, мне действительно плохо жить так. Но я поняла, что как только перешагну порог этого домишки - я закрою эту тему. Пора отпустить.
Воль слышит как сквозь толщу воды радостный голос бывшего ученого, который, после разговора с женой выбегает радостный, снова в ноги бросается, а голос механически скажет, будто не твой: "Поднимитесь, пустяки".
"пожелать ей долгих лет и много красивых детишек"
Готова поспорить, что буду жить долго.
Воль держит голову опущенной, прикусывая губу, прикрывая глаза.
Один. Два. Три.
Очнись. Не задыхайся. Хватит.
Головой тряхни.
Со взглядом Сона встречается.
— Не хотите узнать, что я ей сказала? - улыбаясь, непринужденно, беспечно. Будто нарочно, будто себе назло ближе подойдешь на ухо прошепчешь: — Пригрозила, что в министерство наказаний отправлю, если не родит двойню. - отойдешь мгновенно и снова усмехнешься.
мы даже не просим счастья, только немного меньше боли
Поделиться82018-01-30 19:06:54
Дорожки посыпанные песком щедро, нагретые дневным солнечным светом. Хрупкие соломенные крыши домиков и лачужек, налепленные друг на друга и узкие улочки и проемы, в которые шмыгают дети и из которых выглядывают любопытные носы детей, прибежавших на шум. Дети всегда по натуре своей бесстрашны и не особенно разбирают – кто перед ними – Король или человек. Им просто любопытно, хочется узнать что за новые л ю д и, вот и все именно поэтому смотрят всегда в глаза, в отличие от взрослых, которые или падают навзничь, ударяясь и без того изрядно побитыми коленями о сухую, изъеденную солнцем землю. Взрослые боятся поднять голову лишний раз и прячут глаза. Детям прятать нечего – у них душа нараспашку, солнечные зайчики на лице и чуть беззубая улыбка на чумазых мордашках. Не у всех, если выцепишь глазами можешь увидеть и озлобленные взгляды, будто у волчат. Одиноких сразу заметно. Держатся особняком, худые, почти костлявые, с запутанными \как и многих здесь ребятишек, впрочем\ волосами. Чешут головы и смотрят исподлобья. Маленькие взрослые, которых по тем или иным причинам не пожалела ни жизнь, ни судьба. Остальные же детишки, за исключением простеньких, местами порванных рубашонок вполне улыбчивые, особенно те, кто помладше.
Воль замечает, что следят, улыбается уголками губ, продолжая рассматривать, выставленные сушиться корни дикого женьшеня, собираемого с огромным трудом, а еще свежую ягоду. В одной из корзин заметит землянику, лицо приобретет оттенок задумчивости. Перестань, Воль. А дети, тем временем, кто порезвее и посмелее подойдут поближе, с интересом неподдельным почти заглядывая в лицо. У детей сквозь глаза можно рассмотреть душу, пока еще чистую и светлую. Она не различает в детях – кто богат и знатен, а кто прост, беден и безроден. Все мы рождаемся одинаковыми. Просто одни одеты чуть лучше и выглядят опрятнее, а другим приходится носить одежду из грубого сукна и носиться по лесам и лугам, помогая родителям в сборе урожая или нянченье младших братьев и сестер – ведь у этих людей нет средств, чтобы иметь кормилицу \хотя у матерей также может не хватать молока\ или нянюшек. У них нет средств, чтобы покупать лекарства и вызывать лекарей зачастую, хотя их дети болеют тоже \но может именно поэтому у крестьянских ребятишек здоровье куда более крепкое?\.
— Вы живете в большом-большом дворце? — с неподдельным интересом, смешно насупливаясь, обступая, как только присядешь перед ними на корточки, чтобы смотреть в глаза не сверху вниз, а прямо. А дети липнут шумной нестройной гурьбой, кто-то очевидно из родителей попытается оттащить, дрожа всем телом – остановишь. Все хорошо. Все хорошо, пока находишься в этом перезвоне детских голосов и бесконечных забавных вопросов.
— Да, дворец большой-большой.
"Одинокий-одинокий"
Спросишь о детских желаниях и получишь ответ, который вряд ли услышишь от детей чиновников и министров \да я сама в этом возрасте просила о новых игрушках, платьях и прочем\. «Много-много воды», «Много-много риса», «Чтобы папа не так много работал, а играл с нами». Один малыш еще, сбитый, уже коренастый. Какая-то детская пухлость еще и близко не прошла, вполне упитанный и забавный серьезным тоном и чуть нахмуренно скажет: «Чтобы младший брат меньше плакал». Поглядишь на эту жизнь, начнешь задумываться совершенно невольно – можно ли помочь. Но помочь всем невозможно. Это как загадывать слишком много желаний ни одно не сбудется. Увы, мы не боги. А люди смотрят как на богов, а это, порой невыносимо.
Воль не успевает отвечать на эту гору вопросов, на вопросы: «А почему вы так оделись? Вы прячетесь?», кивнет головой, прикладывая палец к губам. С детьми можешь вести себя спокойно, не сдерживать себя, можно собой быть, можно легкой быть, можно забыть, позволить себе снова забыть кто ты. В этом есть своя опасность. И может именно поэтому, хочу им помочь. Так я могу быть с детьми. О том, что они чужие даже думать не хочешь. Для тебя все дети родными должны быть и не только дети.
Заметит одну девочку, которая постоянно где-то у коленей прячется постоянно и с доверием в глаза заглядывает своими большими, утирая ладошкой курносый милый носик. Волосы в полном беспорядке, проведешь по голове, а потом спросишь неожиданно: «Хочешь, заплету?».
Это была моя мечта. Сидеть вот так в комнате или быть может где-нибудь на крыльце дома и заплетать дочерям косички, гладить их по щекам и расправлять руками складки на симпатичных юбочках. Мои мечты были слишком примитивны, как вы считаете? И исполняются они слишком интересно, но если я могу делать это так… тоже хорошо. Руки путаются в курчавящихся волосах, жестких. Сущий вороненок и неудивительно – у простых людей нет всех этих бесконечных примочек, они не прячут своих сыновей и дочерей от солнца под крыши домов, а наоборот выгоняют их прочь, прямо под солнце. Эти дети умеют, словно цветы дикие пускать корни глубокие, куда приспособленнеее к жизни. Воль, ты ведь и сама была тепличным цветком, которого, правда растили в терпении к тем, кто ниже, чумазее и может быть даже глупее. Но все способности ведь можно развить. Все упирается в деньги и положение. Несправедливо. Дети ведь такие… симпатичные.
Девчушка замирает, будто бы дышать перестает, предавая огромное значение той прически, которая появляется стараниями необыкновенно ловких пальцев Воль в простую косичку, из которой продолжают прядки курчавые выбиваться. Этакая волосатая косичка – не шедевр, могло и лучше получиться, но Воль неудобно, а люди все поглядывают, качают головами, причмокивая губами и цокая языками – будто не верят. Кто-то даже глаза протирает. Наверное вот это еще более удивительное зрелище, чем Королева на дереве, не правда ли? Вспоминаешь, как люди прикоснуться норовили, когда вышла к испуганной и разгневанной толпе о д н а. Люди все еще сомневаются в том, что мы не божества жестокие, так может просто оказаться ближе к этим людям? Чтобы дать понять, что мы с Вами такие же обычные.
— Готово, красота ведь? — посмотришь, улыбнешься солнечно, получишь беззубую детскую улыбку в ответ. Да, Ваше Величество, я, пожалуй, не разучилась улыбаться до сих пор, если только души коснуться, если только действительно искренне ее коснуться. Но не думайте, что я забыла о своем желании, которое вы так и не исполнили. А это было главным условием, так что вы все еще мне должны. Просто мне остается терпеливо ждать подходящего момента, вот и все. Мой удел… ждать.
И на этой «красоте» все не закончилось, потому что сразу же понадобилось всем остальным особам женского пола \пару мальчишек, впрочем, отчего-то тоже захотели, толком не понимая, что это, но не желая отставать от девчонок\. Все хотят косы заплести непременно, а кому-то в них удается одуванчики желтые вплести так, что преображаются мгновенно и доказывают лишний раз, что красота к богатству совершенно не относится. Слышится со всех сторон колокольчиками переливчатыми: «И мне!», «Я хочу!». По крайней мере эту просьбу совершенно наверняка можешь исполнить. И длинная вереница, родители и просто зеваки качают удивленно голова, снова слышишь в свой адрес: «Ангел», но лишь грустно улыбнешься, вспоминая ту девушку, которой мечом по горлу прошлись после допроса. И сухожилия… никакой не ангел. Человек. Я обычный человек. Я так хочу быть обычным человеком. А вы, Ваше Величество, что же? Не подойдете?
Кто-то подаст застенчиво почти венок ромашковый, а сердце готово от благодарности к искренности разорваться. Сердце нежность заливает, а тебе хорошо и свободно, пусть и знаешь, что возвращаться во дворец снова придется. Но это осознание пугает и расстраивает уже не так, как когда-то. Может потому, что теперь не нужно опасаться всепоглощающего одиночества. Может потому, что за это время пришло смирение – кроме дворца… куда еще, собственно возвращаться?
Ухватишь за рукав мальчугана того самого забавно-серьезного, которому успела \а я всегда беру с собой деньги, Ваше Величество, так, на всякий случай\ купить каких-то простых совершенно сладостей. Бросишь взгляд в сторону Короля, за ручки обе возьмешь ребенка, вглядываясь в сообразительные глаза.
— Приведи его сюда, хорошо? Я уверена, что с тобой он обязательно пойдет, — улыбаясь тепло, а улыбка для ребенка очень много значит.
Дети не боятся, видят, что бить и обижать их никто не собирается, вот и смелеют, а взрослые пытаются внимания не обращать, но все равно повсюду глаза, разговоры. Кто-то и вовсе до сих пор не верит, в голове не укладывается.
Короли и Королевы ходят в шелковых богатых одеждах, едят с золотых тарелок вкусности, спят на каких-то безумно мягких перинах \на лебяжьем пуху, очевидно\. Короли и Королевы не ходят по земле, а парят изящно над ней. Они со своих небес никогда не спускаются.
А мы, наверное, неправильные совсем с вами, правда что. И по ошибке сделались вдруг Королем и Королевой. Ходим в каких-то потрепанных одеждах, можем заговорить с первым встречным или оттереть грязь с лица ребенка крестьянского. Таких, наверное, не бывает. Вот поэтому и сомневаются в нашей подлинности. Небеса никогда не спустятся к Земле, вот и мы спускаться не можем. А мы вот… спускаемся. Пусть и из собственных целей. Пускай даже так.
Малыш подбегает, ноги в смешных не по размеру больших лаптях соломенных, заплетаются \может от брата остались старшего или как же это\, почти падает, Воль встрепенется было, потому что еще немного и непременно упадет. Нет, разумеется, если упадет быть может даже не расплачется, но нос себе расквасить может, да и жалко. Маленький еще. Но подхватите. И Воль остается на месте, улыбаясь кончиками губ. Тепло.
Может вы не знали, но наблюдать за вами и детьми… тоже радостно, тоже необыкновенное зрелище. Мальчуган подумает немного, прежде чем совершенно безбоязненно, совершенно просто, как и просили за руку ухватить своей, маленькой ладошкой, протянет свое печенье медовое \а помните, как я когда-то тоже вам его протягивала, только вы мало мне тогда, наверное, доверяли, верно?\. У него немного есть, совсем ничего, а желание поделиться есть.
— Сладости - лучшее лекарство от огорчения и дети хорошо об этом знают, верно? — дождешься пока подойдет, разгибая колени, отряхивая серовато-синюю юбку из грубой ткани от песка и пыли. — Попробуйте, он поделился наверняка последней. Ведь… людскую искренность нельзя отталкивать.
Как я всегда говорила, как я всегда пыталась делать по отношению к вам. Между нами еще слишком много неразрешенного, но все это как-то отходит на второй план. Я злопамятна, но не гордая – вот уж точно. И мне кажется, я всегда могла вас понять.
Малыш серьезно посмотрит, надувая губы.
— А на Вас жениться нельзя?
Воль лукаво почти посмотрит на м у ж а, на Короля \дай бог мне сил назвать вас по имени\.
Качнет головой, лицо сделается печальным.
— Нет, к сожалению, кто-то уже успел это сделать.
— А бы женился. А я не могу с вами жить?
Погладишь по волосам неожиданно мягким. Интересный малыш.
Не стоит, милый. Во дворце… лучше оставайся таким же здесь. Не давай себя испортить. Во дворце… не так уж и здорово.
— Король не Солнце, сияющее само по себе, он подобен Луне, что светит, когда окружена людьми. Луна очерченная облаками. Так говорил мой отец. Не думаете, что он был прав? Я думаю, Вы бы поладили, — кивнешь в сторону ребятишек, все еще толпящихся.
Вы бы поладили, если бы вы не видели в нем навязанного отцом и правилами сторонника власти. Если бы все это было не насильственно. Тогда да, быть может. Вы бы смогли поладить, как и с… Воном.
Утянут, утянут то ли в хоровод то ли просто в свои догонялки по этим песочным узким улочкам, а мне кажется иногда очень важно вот так… быть простыми. Чтобы легче дышалось, чтобы хотелось улыбнуться широко и счастливо.
Если Вы спросите о моем желании, Ваше Величество.
Если Вы спросите о том, чего я хочу когда-нибудь.
То оно останется неизменным. Чтобы вы начали улыбаться снова. Я хочу посмотреть на то, как это выглядит. Как Ваш друг. Как женщина, которой вы нравитесь.
Женщина не была высокой, а вот худой и бледной да. Дети ее будто пугались, прячась поспешно кто к родителям, кто исчезал за домиками и лавчонками, кто-то за спины уходил. Балахон белый и волосы уже седые и распущенные. Для старого человека порядком необычно. Жесткие волосы, а взгляд внимательный \пожалуй даже через чур\ взгляд… слепого человека? По этой пленке белесой, застилающей весь глаз, делающей взгляд отталкивающим вроде бы, но Воль кажется пристальным больно. Брякнут на груди тяжелые деревянные бусы, а женщина цепко хватается за твою руку, вырастая будто из под земли \иначе как никто из нас ее еще не заметил?\. Люди звали ее предсказательницей, кто-то говорил, что она в лесу в какой-то хижине жила, шаманка бывшая. И ослепла вроде как не случайно – небылиц вокруг нее было много, как и того, что никто ее имени настоящего не знал, поэтому звали просто — Предсказательница. Уважали возраст, считая, разумеется немного не от мира сего, а кто-то и вовсе блаженной, но побаивались. Воль не боялась, впрочем. Не испугалась даже тогда, когда она, не отпуская руку повела за собой. Странная женщина, согнутая слегка, сгорбившаяся то ли от гнета времени, то ли от какого-то недуга. Глянешь через плечо – не уходить же о д н о й. А вы обещали быть р я д о м.
Жила она не в хижине и вовсе не в лесу \по крайней мере в этот день\, но ее дом явственно напомнил лавку мастера Има – тот же полумрак, будто света боится лишнего, который попадет на тонкую, полупрозрачную кожу, которая обтягивала костлявое старческое тело. Запах палочек благовоний, что-то определенно тяжелое, но точного аромата впервые разобрать не можешь какой-то незнакомый. Тут очень мало мебели, а женщина передвигается удивительно ловко, видимо к своей слепоте привыкнув уже за столько лет. Значит ослепла давно. Усядется за низкий столик, а скрипящий голос прошелестит сухо и тихо:
— Сядьте, — предсказателям во все времена было все равно не титулы, они считали себя посланниками небес, а значит неприкосновенными и правыми.
Небеса защитят.
А в тебе какое-то детское любопытство играет, проснувшаяся неожиданная девушка, желающая узнать, почему позвала, что хочет сказать. Всегда интересно… будущее, которое хочется видеть светлым и радостным.
— Меня послали к Вам, — жестко, категорично почти прозвучит, без объяснения кто именно послал. Таинственность. Воль верить не спешит, а любопытно. — У вас совершенно необычная судьба.
Воль хмыкнет, пожмет плечами, его плечей своими касаясь едва-едва. Да, наша судьба совершенно необычная – в ней слишком много страданий. Слепая, тем временем проведет по сухим, изможденным будто губам языком.
— Ваша судьба очень длинная. Долгая судьба. Нить вьется и не прерывается во времени. Вы, — обратится к нему, каким-то образом понимает кто где сидит, пусть и слепая. — встретите человека. Во всех своих следующих жизнях вы будете встречать этого человека, но чтобы встретиться с ним придется… – прокашляет хрипловато. Засуха не щадит никого, верно? А почему небеса не сотворят чуда? —… постараться. В этом человеке заключается ваше спасение – это очень важный человек, но судьба устроила так, что пострадать за него в следующих жизнях придется. Все возвращается, все возвращается, возвращается, — повторяет это зачем-то. Повторяет и не объясняет, а Воль нахмурится слегка.
Очень важный человек вашей жизни. Он еще только появится? Прекрасно, что же. Я хотела, чтобы бы в Вашей жизни кто-нибудь появился. Обо мне ни слова. Это к лучшему? Конечно же, пусть будет так, пусть появится такой человек. А это женщина или мужчина? Не интересно. «Очень даже интересно». Так и настроение испортить можно себе всего лишь одним словом. Или она специально что-то не договаривает и знает этого самого человека? Пусть появляется, я все равно перестала на что-то надеяться в своей жизни.
Нет.
Пусть.
Не.
Появляется.
Эгоистично внутренний голос шепчет подобное. Воль тряхнет головой – глупости все это. Никогда не верила Предсказателям.
— Вы сказали, матушка, что у нас долгая судьба. Мы встретимся в следующих жизнях тоже? — хмыкаешь вопросительно, напоминая о своем существовании.
Мы не знали. Но быть может все, что нам рассказывали это об одном и о том же человеке. И может быть про нас. Но я такой вариант даже не рассматривала.
— Встретитесь, — звучит так уверенно, будто она уже там побывала. — А вы… а вы остерегайтесь. Надевать кольца железные. И пить чай из зеленых чашек.
Звучит как-то зловеще, совсем не так радостно, как предыдущее, от чего по спине холодок пробежит. Кольцо, чашка – звучит как бред сумасшедшего. А фраза, которая последует за ней заставит закашляться, заставит потерять равнодушный вид хмурый и просто оставит в каком-то недоумении.
—…не полезны такие чашки вашему сыну. А вот гроза ему сопутствовать будет.
Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. Подобно островам, разбросанным по бесконечно разлившейся реке, обтекающей их глубоко прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не трогаются с места; далее, к небосклону, они сдвигаются, теснятся, синевы между ними уже не видать; но сами они так же лазурны, как небо: они все насквозь проникнуты светом и теплотой. Цвет небосклона, легкий, бледно-лиловый, не изменяется во весь день и кругом одинаков; нигде не темнеет, не густеет гроза, дождя вновь ничего не предвещает. Да, день по-летнему хорош, но сейчас изголодавшейся земле вновь нужна в о д а. Ветерок только дует какой-то неожиданно прохладный с запада. Предвестник чего-то будто.
В такие дни жар бывает иногда весьма силен, иногда даже «парит» по скатам полей; но ветер разгоняет, раздвигает накопившийся зной, и вихри-круговороты — несомненный признак непостоянной погоды.
В сухом и чистом воздухе пахнет полынью, гречихой и календулой. Разнотравье луговое невообразимо. А вы возвращаетесь.
— Ну, по крайней мере, мы не зря затеяли все это. Мы смогли уговорить Ли Сэдоля, точнее его жену, — Воль руками бьет по бокам ханбока, теряется как-то, а в голове настойчивым перезвоном на разные лады: «Сыну, сыну, сыну». Клянусь, никаких предсказателей в моей жизни, никаких людей, которые дают пустые надежды. — Эта предсказательница, возможно немного не в своем уме. Хотя она пообещала, что мы и в следующих жизнях будем пересекаться. Интересно, — перегоняет его, идет спиной вперед, жмурится от солнца.
Воздух будто тяжелый, будто перед г р о з о й.
— Интересно, кем мы с вами будем? Друзьями? Мы сможем стать друзьями, как считаете? Надеюсь, наша следующая жизнь будет счастливей, — через знакомую рощицу \да-да, я же говорила – все это мои родные места\. Наклонится, земляники горсть в ладонь наберет, цепко вычисляя маленькие душистые красные ягодки. Вспоминаешь? Вспоминаешь невольно, как собирала землянику точно также, смеялась неприлично громко, искренне, по-девичьи прекрасно, а потом дрожала, чувствуя, как Гон аккуратно заправлял за ухо прядь непослушных волос, а большой палец с совершенной нежностью касался виска, у которого все также кудрявились завитки-завлекушки, которые бессовестно цеплялись за пальцы. Твои пальцы были липкими от этой земляники, которая стала ассоциацией к твоей беззаботной юности, а кормить с рук, будто своих любимых птиц казалось чем-то особенным, чем-то совершенно е ё, каким-то особым жестом, который для нее о многом говорил.
Развернется к нему, а облаков становится чуть больше, пригнанных сюда все тем же ветром-негодником.
— Это земляника. Хотите попробовать? В это время года она самая вкусная и ароматная, говорят, даже несмотря на засуху, — пожимая плечами, собирая горсть ягод на ладони так, чтобы они не рассыпались случайно. Маленькие красные душистые ягодки, которые и твои руки делают слишком душистыми, пожалуй, действуют не хуже персикового масла или ароматических капель. Я не думаю, что могу поступать также, как когда-то, но я могу пересыпать в ладонь горстку, касаясь пальцами внутренней стороны ладони, касаясь линии жизни. Я могу только т а к это то, что предполагают определенные г р а н и ц ы.
А вам когда-нибудь хотелось чего-то запретного, того, что знаете, что не получите, но все равно хотите? Вам когда-нибудь хотелось чего-нибудь от меня?... Я очень глупая, когда не Королева, знаю.
Воль осторожно вытирает губы рукавом шершавым все того же крестьянского платья.
Небо вроде бы чистое, но ощущение странное, будто перед грозой, хотя на нее мало что намекает. Все такой же летний день. Все такой же с о л н е ч н ы й.
Раскидистое дерево впереди, тоже знакомое – оно совершенно не изменилось.
— Оно все такое же, — проводишь ладонью по жесткой коре, нежно разглядывая ствол и листву на нем. — Я часто приходила сюда раньше. С… — когда передохнуть останавливаетесь. —… Воном и его другом, — Воль сглатывает, прислоняясь затылком к дереву – всегда успокаивает. Ты не договариваешь, а разве это хорошо? — Я говорила вам, что любила прогулки. Я могла уходить далеко-далеко и возвращаться под вечер. Моя матушка ужасно ругалась в такие моменты, потому что я была похожа после таких прогулок на черт знает что. Наверное, я и сейчас выгляжу не лучшим образом? — посмотрит на него улыбнется просто, отворачивается.
Не собирались задерживаться, но… такова судьба.
Грянет. Ливень. Сквозь солнце, сквозь голубое небо, откуда ни возьмись и ливень. Стеной такой, что не видно ничего вокруг. Шарахнешься под листву дерева, все равно, конечно вымокнете, но по крайней мере, не так. Смотришь удивленно на всю эту разбушевавшуюся не на шутку стихию. Остается только…ждать.
— Знаете… Вы рассказывали мне о себе, приводили в свой дом. Рассказали мне о Су, так что моя очередь. Все равно ведь ливень – мы не сможем сейчас никуда пойти, — начинаешь спокойно, прислушиваясь к стуку капель дождя по листьям и траве. Не объясняя. — Друг моего брата и мой друг. Мы тоже дружили с детства, пусть он, как я и говорила вам, был старше. Мне всегда легче давалось общение с мужчинами, если подумать. Мой первый друг – он. И моя первая любовь тоже он. Мы даже собирались пожениться, но… судьба распорядилась иначе. Гон отлично скакал на лошади – они его обожали. Он и меня обещал однажды научить, хотя это не принято. Не научил. А еще был жутко серьезным. Все мужчины в моей жизни любили хмуриться, — вздыхаешь еле слышно, прежде чем продолжить. — Потом он ушел в армию, куда-то на границу. Такая история. Всегда меня защищал. Не знаю что с ним – жив ли, женился ли. Было бы хорошо, если бы женился.
Дождь продолжает рвано стучать по листьям, прибивать к земле пыль. Голос иногда глохнет в этом ливне, вроде бы спокойном и слишком необычном – ливне посреди полного ничего. Лишь только деревья, цветы и трава радостно начинают трепетать, разворачиваясь в ставшем сразу прохладным воздухе, радуясь скорому спасению от жары… Капли дождя упали, будучи мгновенно и без следа поглощёнными пересохшей землёй. Но следом за ними уже летят другие капли, их становится всё больше, они сталкиваются боками, суетятся, теснятся и толкаются – каждая стремится поскорее, желательно самой первой упасть на разгорячённую летом поверхность земли.
— Ваше Величество, — беззаботность не может продолжаться вечно, невозможно превратиться в девчушку 17-ти лет, которую вы когда-то встретили на празднике летнем, еще незамужней. Мы оба выросли. Наши голоса стали звучать серьезней, наши души захлопнулись, чтобы в них никто не плевал. Снова Воль. Королева Воль, Воль, которая во дворце провела восемь лет. Серьезнеешь. — Когда вы перестанете винить себя, когда видите меня и детей? Не вините, не к лицу. Не сожалейте. Между прочим, мне кажется, вам бы пошло отцовство. Я говорю это как ваш друг. Вы хорошо ладите с детьми.
Это не то, что вы должны чувствовать. Не вину. Не то. Не то я хочу, чтобы вы чувствовали по отношению ко мне. Говорят, если жалеет, значит любит. Не вину, не долг передо мной, не обязанность, не неизбежность. Я не хочу, чтобы вы чувствовали все это, Ваше Величество. Я хочу другого, но не могу сказать чего. Тогда это будет… однобоко и вы почувствуете давление. В конце концов я не люблю надеяться. В конце концов… если одно невозможно, то я хочу жить для чего-то другого. Но вы, все же, будьте рядом.
— Что бы там ни было в наших жизнях до этого – это наше прошлое, с которым стоит просто смириться. А я предпочла бы смотреть в будущее, может поэтому и пошла за гадалкой. Вы действительно должны поверить в себя. Или это похоже на чудо? Чудо… — повторишь, улыбнешься чему-то своему. Шаг вперед. Еще один. Светящиеся капли дождя по лицу стекают, зависают прозрачные на ресницах, одежда мокнет мгновенно. А дождь неожиданно теплый, но даже несмотря на то, что все еще сильный кажется каким-то ласковым. Подставляешь лицо этому дождю, плечи, все тело, ловишь капли на ладони. Разворачиваешься порывисто.
— А разве этот дождь не похож на чудо, Ваше Величество? Неожиданное чудо в такую погоду! А вы говорили, что чудес не бывает! — перекрикивая отчего-то счастливо этот ливень, в глаза глядя, постоянно капли смаргивая с глаз. Ты прокружишься, будто в танце, хотя зарекалась никогда не танцевать больше. А потом не долго думая снимаешь простые на вид туфли черные, поддеваешь носок, касаясь ступней влажной от дождя травы. Щекотно. Босоногая королева – куда как хорошо. А почему обязательно королева? Может быть просто… женщина? Воль улыбается, смеется искристо все тому же дождю, волосы мокнут, по щекам капли стекают.
Ты смеешься?
Или плачешь?
Не разобрать. Смех сквозь слезы или слезы сквозь смех?
Прохладца мокрой травы, достающей кое-где до щиколоток, заставляя приподнимать юбку слегка, прокружишься еще раз, плечи поднимая чуть вверх. Совершенно открытая, совершенно с в о я. Возвращается какое-то легкое головокружение, когда наконец, запыхавшаяся \да я почти задыхаюсь\ возвращаешься под дерево раскидистое, покачнувшись, вовремя уцепишься за плечо, хохотнешь, отпустишь как только выровняешься.
Воль смотрит в глаза, прямо, а на ее ресницах и щеках дождевые капли. Воль смотрит в глаза, в ее собственных медленно потухает огонек беззаботности и зажигается другой. Глаза лишь потемнеют слегка. Я смотрю в ваши глаза близко, безнадежно глупая, безнадежно влюбленная в ваши глаза. Это глупо вспоминать эпизод минуты \или мы танцевали дольше?\, это глупо помнить и придавать ему значение п е р в о г о в одиночку. Но ваши глаза неизменно говорят мне: «Никак». Рука сама собой потянется к щеке, просто, незатейливо, осторожно касаясь мокрой ладонью, пахнущей дождем, летом и соком земляничным щеки. Всмотришься. Выдержишь.
— Мне иногда интересно, Ваше Величество. Встреться мы и н а ч е, познакомься мы вне дворца, не стань я вашей навязанной судьбой… как бы все было? — голос падает, глубоким становится безмерно. — Вы все еще молоды, Ваше Величество. И все еще можете быть счастливым. Но вам стоит дать себе эту возможность. Простить себя и дать ее себе. Я всегда хотела это сказать, но могу сказать только сейчас. Мужество - это также и способность заплакать, когда тяжело. Так что, когда у вас будут трудные времена вы тоже можете, когда не видит позволить… вас обнять. Я… — покачнешься вновь, сжимая края такой же простой, как у нее самой одежды. –… мне нравится смотреть в ваши глаза на самом деле. «Это невыносимо, я терпеть не могу только по одной причине – не выдержу ведь, потому что н р а в и т е с ь». — А вам никогда ничего не хотелось от меня?...
Совершенно неожиданно вырывается эта фраза вместе с выдохом куда-то в шею.
А мне хотелось.
Смаргиваешь, отпуская, плечо, отпуская все.
—… например научить меня ездить верхом, — исправляется поспешно, кивая на затихающую листву на деревьях. — Дождь прошел.
Их было двое – чиновник и ученый из министерства и молодой еще человек, очевидно в чиновничий чин недавно вступивший. Южная партия, определенно, которая была лояльна к власти действующей – Воль хорошо выучила в свое время всех, кто по тем или иным причинам был их союзником. В Северной же партии, под предводительством министра Хвана были лишь… враги. Да ледяной ветер, а здесь же есть хотя бы какой-то шанс. Собрание скоро должно начаться, министры и чиновники помладше чином грудятся, каждый у своей линии – наблюдать за этим было бы забавно, если бы сама фигурой не стала в этой борьбе. Выделяется высокая фигура министра Хвана, которую узнаешь сразу же, внутри обрывается что-то каждый раз.
«Я хотела бы знать каким образом под вами не горит земля?»
Воль не собиралась подслушивать, но любопытство всегда было сильнее. Да и надоело обо всем узнавать из третьих рук. Пока не заметили – хорошо, можно отрывки бесед отдаленно слышать, выцеплять для себя что-то интересное взглядом.
Министр Хван подходит к знакомой фигуре учителя Нама, говорит ему что-то, кто-то возмутится глухо, судя по интонациям. Министр Хван улыбается. С чего бы вам улыбаться? Чему, скажите мне вы так безумно рады? Не скоро ли празднуете свою победу? У министра Хвана руки за спину заведены, члены Южной партии поглядывают с плохо скрываемым недовольством и неприязнью.
Было бы прекрасно, если бы чиновники вместо грызни между собой приносили пользу и соединяли усилия для страны – тогда бы все было бы, наверное, через чур прекрасно, не так ли?
— Ну скажите, учитель, сколько еще будет продолжаться это?! – горячо и возмущенно, молодой человек безымянный отходит с чиновником постарше в сторону, где Воль хорошо слышит их разговор. — Сколько министр Хван будет свое преимущество чувствовать? Сколько нас еще будут оскорблять?
— Успокоиться бы тебе, Бён, — спокойно ответствует старший, потирает подбородок, взгляд серьезным остается, а голос ровным.
— Вот скажите мне честно, мы же в проигрыше пока? А что с нами будет, если и вовсе проиграем?
— Знаешь, как говорят… «Если тебе плюют в спину – значит ты идешь впереди».
«Да, это Конфуций. Все любят цитировать Конфуция» - Воль отвечает за молодого человека мысленно, а уйти не может. Послушать хочется.
— Но ведь было бы проще, будь на нашей стороне больше людей? Или будь у Его Величества законный наследник?
Это люди, которые поддерживают в а с. Им нет смысла злословить и они действительно переживают. И от этого, почему-то еще больней. Больней от правды, по которой ты хотела жить. Уже и не хочется совсем?
— Дело не только в этом. Опустим этот вопрос. Дело в том, что нужна политическая сила. Ее очень часто дает семья жены. Любому императору нужна такая сила. С другой стороны… может оно и к лучшему, не хорошо иметь слишком сильных и влиятельных родственников они начинают диктовать свои правила. А у Ее Величества их нет. Министр Сон мог бы добиться успехов, если бы не его сын. Тяжело бороться без основы. Именно поэтому многие видят ребенка как спасение от всего. Зато Её Величество любят люди. Это тоже важно. Но ты бы поменьше разговаривал об этом. Тема деликатная. Да и у нас своих проблем достаточно. Что там с докладом о фальшивомонетчиках?
Видит, что младший заспорить попытается, пресекает:
—… а это на волю небес оставим. И хватит.
Поделиться92018-01-30 19:07:10
Воль рассматривает свое отражение в гладкой поверхности озера. Бабочки лениво вокруг порхают, задевают разноцветными крыльями плечи. Красные крапивницы и желтые крылья махаонов. А еще лимонницы и бабочки с ярко-лазурными крылышками. Некоторые люди чувствительны и хрупки, словно бабочки.
Темнеет. Резче смотрятся, точно посиневшие, силуэты старых деревьев, а молодая поросль под дымным налётом теней вечера сливается в однотонное пятно, и только кое-где над ним, как шпиль небольшой башенки, выглядывает острая верхушка одинокой, среди маленьких сестёр, липки \очень вкусный мед с них получается\. Вечер только начинается, еще светло совершенно, небо персиковым цветом заливается постепенно, а воздух удивительно свежий. Быть может засуха скоро закончится.
Воль рассматривает свое отражение сквозь толщу воды, этого озера, около которого происходят чуть ли не все грустные события ее жизни. Озеро печали, которое здесь Озером Грез еще называют, не считая официального названия. Все такое же неподвижное, в этом месте незаросшее и все такое же темное. Воль смотрит на себя и понимает, что болит, но не может понять что именно.
Ты мой незнакомец в темноте. Я одинокое, одинокое сердце, ждущее кого-то, кто заберет меня домой. Где ты?
Состояние, во время которого чувствуешь себя пустым местом, никчемным и грустным, брошенным, потерянным, язвительным. И ты пытаешься заставить себя чувствовать себя лучше, но это не помогает, и ты возвращаешься в начало, в то время, когда тебе хотелось сдаться
Почему тебя так задевает, Воль? Почему разрезает как по больному? Потому что эти люди хотят добра, а не зла и действительно беспокоятся о будущем вашем искренно, а не как предлог, чтобы сместить, воткнуть в спину нож и улыбнуться алчной страшной улыбкой \оскалом\. Потому что это правда? Потому что как бы не старалась… каким образом я всегда оказываюсь в тупике? Каким образом постоянно вот так больно?
Я размышляю.
Я бы могла приносить вам силу как человек, я верю в это. Но как Королева пока н е т. И однажды этот вопрос все же встанет ребром. Я чувствую, как что-то на плечи давит. В любой другой раз я бы сказала себе: «Если понадобится – я уйду. Уйду в монастырь, освобожу помост и уйду».
А он просил не уходить. Но вдруг так лучше? Тяжело, но л у ч ш е? Понятия не имею, что сегодня на собрании было, понятия не имею что стоит сделать. Я не сильная королева и у меня мало козырей. Мне кое-что удалось за это время, но этого так мало.
Воль думает. Воль задумчива как никогда, в своей задумчивости ни шагов не слышит, ни оклика знакомым голосом. Очнется только, когда за плечо тронет, сбрасывая пелену печали. Это все озеро виновато.
— Я задумалась немного, Ваше Величество, добрый вечер.
Я задумалась о том, как легко разрушается счастье все же. Или я просто стала куда более легко уставать?...
— Знаете, иногда мне кажется, я могла бы утонуть в этом озере… — глядя безотрывно на эту неподвижную поверхность. — Я раньше все думала – какое оно глубокое ли или дна можно достигнуть очень быстро. Это озеро всегда казалось мне… грустным, — Воль поведет плечами. Вздохнет, развернется к нему, улыбнется еле заметно. Нет, не скажу, что мне хочется улыбаться, но я попробую. — Как прошло собрание совета, Ваше Величество? — поинтересуешься, встряхивась, наблюдая за тем, как догорает день медленно, как он и в твоих глазах догорает.
Вы говорили, чтобы я не была сильной по крайней мере с вами, так? А я продолжаю играть свою роль совершенно неожиданно вновь и вновь сомневаясь, погружаясь неосторожно в пучины такие же черные, как и это озеро, с которым у меня не связано ни одного хорошего воспоминания. Но я отчего-то люблю к нему приходить.
Я была в своем доме. И поняла, что его больше нет. В моем доме жил мой отец, мой брат и моя мать. В моем доме росла магнолия и еще ко мне прилетала моя птица. А когда я увидела свой дом в настоящем, то обнаружила там чужих людей, срубленное дерево. Выходит, это не мой дом. А мой дом… похоже, мне придется смириться с тем, что мой дом з д е с ь. И навсегда оставить другой свой дом лишь воспоминанием.
Воль чувствует, как он смотрит на нее, чувствует даже головы не поворачивая, стоя в профиль, разглядывая кувшинки на озере и все тех же порхающих бабочек над ними.
Что вы хотели услышать? Что произошло? Сама не знаю, трудно сказать. Чтобы я дала возможность… пожалеть? Чтобы доверяла? Я расстраиваю?
А вы уходите?
Прощание будет… с у х и м? И на этот раз это я виновата. Может быть, мне стоит начать говорить совершенно прямо? А вы уходите, а я пожелаю спокойной ночи. Я сделаю это первой, мы просто в разные стороны разойдемся, никто не должен был в чужую спину смотреть… это я обернулась.
Всмотришься болезненно неожиданно. Сердце кольнет что-то болезненно. Опрометчиво. А если вы уйдете и не вернетесь? Бред, но вдруг? Я твержу, что уйду первой. Но глядя на то, как уходите Вы мне страшно становится. Покачнешься. И совершенно неожиданно шаг ускоришь.
Королевы не бегают, Воль. Безразлично. Просто захотелось догнать.
Да, мне плохо, да мне вдруг страшно до чертиков.
Почти нагоняешь, прежде чем с губ сорвется почти безумное:
— Сон!
Я не знаю к а к. Я не позволяла себе этого никогда, лишь один единственный раз, в том лесу, когда достучаться хотела, когда спасти хотела, когда вы у м и р а л и.
Я просто испугалась. Я хотела однажды сказать: «Отпустите меня, теперь можно», но вы сами сказали, что не можете.
Не можете… или не хотите? В этом кардинальная разница. Но даже если не можете…
Утыкаешься носом в лопатки, обнимаешь сама, обнимаешь первой, сцепляя руки. Я говорила, что мы можем быть счастливыми. Вы можете. Только стоит дать себе шанс.
«Но когда никто не видит, не бойся быть слабой. Женщина . . . может себе это позволить».
«Мужество – это также способность заплакать, когда тяжело».
— Не разводитесь со мной, — неожиданная фраза посаженным голосом, рваными выдохами. Она часто шутила холодно на эту тему. Вы могли неправильно понять. — Я знаю, что вы не любите меня, но пожалуйста… я не хочу уходить.
Я понятия не имею, что вас могут заставлять делать.
Я просто… Не хочу уходить. Теперь я говорю об этом прямо. Я не хочу уходить от вас.
— Я знаю, что мне нечего дать, что я могу так мало, но пожалуйста, у меня больше… ничего нет. Я не хочу возвращаться в прошлое, я не хочу как раньше. Я не смогу как раньше. Так что пожалуйста… не уходите тоже.
Сейчас, я напугана непонятным страхом. Сейчас меня трясет почти.
Моя любовь — это взгляды, устремленные, смеющиеся, печальные, ищущие, задумчивые, мечтательные. Твои. Любовь для меня — это больше, чем любовь. Это прикосновения, становящиеся подкожными. Просто это лето стало ветром в твоих волосах, а я так хочу узнать этот ветер наощупь. Но если не дано. Я готова быть другом. Но я не хочу уходить даже если так.
Просто — не уходи. Останься со мной. Стою, шепчу в пустоту одно и то же заклинание: «Не уходи, не уходи, не уходи».
Обними меня в этом безумном мире. Ведь в твоем тепле я забываю, каким холодным он может быть. И в твоем жаре я чувствую, каким холодным он может стать. И поэтому я не хочу уходить. Я поняла, что не хочу уходить. И ты не уходи.
Спешаще, торопливо, спотыкаясь на ровном месте почти, держа спину чуть согнутой, а руки пряча в широких рукавах зеленого шелкового ханбока. Евнух Чон торопится. Выполнять такого рода поручения вообще-то привычная практика и ничего необычного, но вот он, например, не делал этого слишком давно и поэтому, быть может, переживает через чур сильно. Останавливается у дворца Её Величества, вытирая скопившийся пот на лбу ладонью, выдыхает и семенит дальше, вглубь гарема, прямиков внутрь дворца.
Кто-то из наложниц окликнет, спросит звонко, собираясь уже ко сну: «Куда так спешишь, евнух Чон?» \постоянно подшучивают над ним из-за маленького роста, несносные ведь совсем девчонки\, а он отмахнется. Некогда. Суетится.
Запыхавшийся, останавливается перед дверью, выравнивая дыхание, поправляя воротник и черный головной убор. А когда входит, застает на месте только лишь даму Шин, а самой королевы в покоях не находит. Придворная дама смотрит на него вопросительно, выгибая бровь. Шин Че Рён, ей богу, ее иногда и он побаивается, постоянно смотрит так категорично, будто что-то не так – так и хочется уточнить – быть может, у него что-то на носу или же он где-то ошибся. Вот такой это взгляд.
— Что-то произошло, евнух Чон? — голос ровный, но железный.
Евнух выпрямляется, старается выглядеть выше и представительнее. Вот вроде столько провел рядом с наследным принцем, теперь уже Королем, а все равно не научился этой чертовски сложной представительности и важности. Вот у главного евнуха с этим все хорошо или же вот, у дамы Шин. Старшая придворная дама разглядывать продолжает.
Прочистит горло, стараясь, чтобы голос не звучал слишком высоко.
— Кхм, дама Шин, а где Её Величество?
— Её нет сейчас, евнух Чон, она любит посещать это место в одиночестве, — спокойно, а у него сразу лицо отчего-то бледнеет, хмурится.
— То есть как н е т? А где она? Дама Шин, ты моей смерти хочешь? Где может быть Её Величество в такой час?
— Зачем вам она в такой поздний час в таком случае? — все еще спокойно, а он переживать начинает. Еще ведь нужно время, чтобы подготовиться, на все нужно время, а ему что отвечать? Это ведь с него, несчастного если что спросят.
— А как ты думаешь, что я из дворца Его Величества здесь делаю в такой час? Уж явно не чай пить пришел! — раздраженно, то ли от спокойствия ледяного придворной дамы и собственной несостоятельности, то ли от того, что все пошло не так, не идеально. А он ведь как знал, как чувствовал! — Дама Шин, ты будто только на свет родилась! Разве я должен все объяснять? Его Величество хочет видеть свою жену. Что из этого следует? Что я пришел об этом сообщить. А что я теперь скажу? «Простите, Ваше Величество, но вашу жену не нашел, так что Вы подождите теперь. Может найдется»?! Да меня быстрее отправят в Старый дворец, быстрее, чем я успею слово сказать!
Что-то незаметное и непонятное промелькнет на лице придворной дамы. Взгляд сменяется на какой-то более мягкий. Взгляд устремляется куда-то сквозь евнуха, куда-то сквозь дворцовые стены. А губы прошепчут в какой-то улыбке:
— Слава небесам.
Евнух насторожится, посмотрит уже с каким-то подозрением, переспросит:
— Что? И чему здесь улыбаться?
— Я схожу к Её Величеству. Мы все успеем, к назначенному часу. Не стоит переживать. Она в любом случае сегодня… придет.
Полумрак нарушается только многочисленными свечами, которые зажигаются неспешно её осторожной рукой. Тишина, потрескивание огоньков и запах воска и палочек с благовониями. Статуя Будды по центру, большая, вылитая из золота. На дворе лето, поэтому запахам камфоры, розы и герани, она предпочитает запахи лаванды, гиацинтов и лимонного дерева. Запахи оседают на небе чем-то тяжелым, душным, а она все зажигают свечу за свечой. Здесь, в этой королевской часовне-усыпальнице всегда тишина благоговейная, здесь таблички с именами с искусно начерченными на них китайскими иероглифами. Имена королей и королев, давно ушедших времен, которым стоит воздать уважение, сложив руки вместе, прикрывая глаза. Они не отвечают, а ты молишься, зажигая свечи. Правда, не за них, увы.
Ты зажигаешь свечи каждый раз, чтобы не з а б ы т ь. Раз в месяц приходишь сюда, чтобы зажечь несколько свеч – по свече за каждого, кто умер. Умер и по твоей вине \а перед глазами все еще та девушка, у которой были младшие братья и больная мать\ и по чужой \Вон, братец, слышишь, я здесь?\. Нельзя постоянно жить в скорби, но и забывать чужие смерти нельзя, если хочешь остаться человеком. Это груз твоей души.
Раз. Свеча. Два. Свеча. Преклонение колен, на висках выступают прозрачные капли пота – здесь на диво душно и запахи, пусть и куда легкие, чем тот же сандал, а все равно кружит голову. Ночной ветерок шаловливо и как-то совсем не кстати для такого места играется со свечным огнем, пока она вспоминает всех тех, кто мертв.
А я ж и в а. Но я не забуду вас, оставлю это тяжесть в груди, как напоминание – насколько жизнь бывает нелегка и насколько жизнь скоротечна. Я не забуду тех, кто умер.
Каждый месяц, после того, как все свечи зажжены, молитвы сказаны и пропеты, она уходит к высокой пирамидке из камней, потерявшейся не так далеко от усыпальницы. Дело в том, что сюда не так часто приходят – мертвым нужен покой, а наложницы в большинстве своем суеверны и боятся призраков старых королей и королев, которые будто бы бродят здесь по ночам, но Воль никого не замечала. Призраков не существует, а люди вот вполне. К тому же живые намного страшнее мертвых.
— Сейчас я даже рада, что Вы так неразговорчивы, Сухо, — к телохранителю обращается, подходит близко к камням плоским, наложенным одним на другой. Тот отзывается молчаливостью, как обычно, впрочем, лишь подбирается, а голову опускает слегка, будто взгляда опускает. Воль не настаивает, черный силуэт все равно будет мелькать рядом и пусть будет так. Неразговорчивость когда-то и твоей главной чертой была, согласись и признай это.
— Я пришла, Вон, — накладывая на пирамидку еще один плоский камень и отходя чуть в сторону. — Даже не знаю, что тебе рассказать, братец… — глаза прикрываются, она наслаждается тишиной, умиротворением внутренним насладиться, впрочем, не может. Что-то мешает. Предчувствие какое-то.
Она сделала эту пирамидку, это место, куда приходить может вместо могилы неизвестной ей до сих пор и разговаривать, молчать, молиться и считать это каким не каким – а своим тайным местом. Приносить букеты простеньких цветов и держать в руках свечи. Прислушиваться к перезвону затихающему птиц и ловить периодически светлячков руками, а потом отпускать.
— Все будто бы становится чуть легче, Вон. Теперь не так одиноко, а я каждый раз будто узнаю его чуть лучше. Узнает ли он меня? Вон, знаешь, мне кажется, если бы постарался его понять – вы бы поладили. Но вы даже не успели толком познакомиться. Я как обычно, скучаю, Вон.
Место воспоминаний, место, где может быть с самой собой. Место, где никто никогда не тревожил. До сегодняшнего вечера.
Слышит, как Сухо предупредительно меч из ножен достает, обернется, слушая шаги. Тревога ложная, силуэт знакомый. Защищает.
— Ваше Величество, простите, что беспокою…
— Должно было случиться что-то действительно серьезное… — задумчиво протягивая слова и выражения, разглядывая фигуру дамы Шин внимательным взглядом. Отвернешься, прикладывая к подножию пирамидку букет заранее заготовленный. —… вы ведь знаете, что когда я здесь, я не люблю, когда меня беспокоят. Так что случилось?
— Из дворца Его Величества прислали известие, что Король желает вас видеть.
Повернешься с долей удивления в глазах, смаргиваешь. Что-то странное есть в голосе твоей придворной дамы, что-то непонятное тебе, едва различимое. Что-то серьезное во взгляде мелькнет и еще что-то… понимание? Радость? Обеспокоенность? Что это?
— Ночью? — первое удивленное, а потом хмурится, замечая едва-едва различимую улыбку, будто придворная дама находит этот вопрос… забавным. Сочувствуете?
— Да, Ваше Величество.
— В таком случае, не стоит заставлять его ждать, идемте, что же, — но как только шаг делает в сторону императорского дворца, то дама Шин мягко и настойчиво путь преграждает, снова склоняя голову и снова слишком много вопросов вызывая у Воль. Хмуришься.
— Вы же сказали, что мой муж меня ожидает, разве не следует поторопиться?
— Да, верно. Но для начала, вам стоит переодеться.
Воль оглядывает свою повседневную одежду. Как обычно вроде бы все тот же королевский наряд, все те же отметины императорской власти вышитые нитями золотыми. Один из многих, не отличается от других – такой же богато расшитый, тяжелый, по-своему роскошный. Так что не так? Посмотрит непонимающе на застывшую в каком-то смирении даму Шин.
— Разве я выгляжу как-то неподобающе, дама Шин?
— Не для этой ночи.
[float=left] [/float]Пара служанок, несколько придворных дам рангом пониже дамы Шин и собственно она – зорко координирующая процесс п о д г о т о в к и \а я очень хочу опустить эти формальности, а дама Шин упряма как никогда, будто вернулась в те далекие времена, когда только меня обучала\ вертятся вокруг Воль. Колышутся шифоновые занавески, отделяющие купальню от основных покоев \я говорила, что королевские покои во дворце до безобразия большие\ красного цвета, служанки молчаливо и осторожно разбрасывают по воде лепестки розовые, а дама Шин холодно и строго поторапливает. «Не разводите тут все долго», «Не спите на ходу». Воль тронет пальцем плавающий по воде цветок лотоса, тот поддастся нежными раскрытыми к ней лепестками, возьмешь цветок в ладони. От теплой воды исходят легкие облачка пара, от воды пахнет фиалками и гибискусами – на ней и настояна. Сладковато-приторный запах, от которого норовит чихнуть – сдержится, неприемлемо. Обычно \почти всегда\ ограничиваются чем-то куда более простым, освежающим, а сейчас дама Шин была слишком непреклонна.
[/float]Пара служанок, несколько придворных дам рангом пониже дамы Шин и собственно она – зорко координирующая процесс п о д г о т о в к и \а я очень хочу опустить эти формальности, а дама Шин упряма как никогда, будто вернулась в те далекие времена, когда только меня обучала\ вертятся вокруг Воль. Колышутся шифоновые занавески, отделяющие купальню от основных покоев \я говорила, что королевские покои во дворце до безобразия большие\ красного цвета, служанки молчаливо и осторожно разбрасывают по воде лепестки розовые, а дама Шин холодно и строго поторапливает. «Не разводите тут все долго», «Не спите на ходу». Воль тронет пальцем плавающий по воде цветок лотоса, тот поддастся нежными раскрытыми к ней лепестками, возьмешь цветок в ладони. От теплой воды исходят легкие облачка пара, от воды пахнет фиалками и гибискусами – на ней и настояна. Сладковато-приторный запах, от которого норовит чихнуть – сдержится, неприемлемо. Обычно \почти всегда\ ограничиваются чем-то куда более простым, освежающим, а сейчас дама Шин была слишком непреклонна.
«Фиалка и гибискус отлично смягчают кожу, Ваше Величество».
«Разве она недостаточно мягкая? Я знаю о свойствах цветов, дама Шин».
Воль не нравится вся эта, по ее мнению лишняя суета, плечи находятся над водой покрываются стайкой мурашек, перебегающих к ключицам и груди. Ежится.
[float=right] [/float]Тонкий аромат цветов разносится по всей купальне, когда дама Шин наконец говорит, что пора заканчивать с купаниями – можно и переборщить и тогда кожа станет слишком распаренной. Распаренная кожа быстро затвердевает и морщится.
[/float]Тонкий аромат цветов разносится по всей купальне, когда дама Шин наконец говорит, что пора заканчивать с купаниями – можно и переборщить и тогда кожа станет слишком распаренной. Распаренная кожа быстро затвердевает и морщится.
«А этого нельзя допустить».
Одна из служанок невысокая совсем, немного квадратная и уже к своему возрасту через чур полноватая, подает даме Шин жесткое шелковое полотенце, та несколько раз проведет по спине, аккуратно возьмет руки, проворно и быстро массирует кожу, растирает.
— У вас итак кожа очень нежная, Ваше Величество, поэтому не будем этим злоупотреблять, теперь совсем как у младенца станет.
Воль хмыкнет, нахмурит слегка брови – старания такое чувство преувеличены, но высказываться при всех не хочет – пойдут слухи. А сказать есть что.
И пока служанки подносят небольшую чашу с оливковым маслом с каплями розы, у Воль уже с непривычки кружиться начинает голова – чувствительный нос ловит слишком много ароматов, ароматы смешиваются, а дама Шин режет свое: «Так нужно». А что, собственно нужно? Почему вдруг из всего этого делают какой-то ритуал… первой ночи, во имя неба, скажите мне? Ничего такого.
Придворная дама ловко сушит мягкими, но быстрыми движениями потяжелевшие от воды волосы. Крем для волос с цветками мальвы, которых во дворце великое множество – приятно, тоже смягчает, волосы неожиданно послушные, неожиданно шелковистые, гладкие почти, а дама Шин не дает передышки.
В корзинке плетеной разложены зеленые лепестки перечной мяты, дама Шин говорит: «Прожуйте», а Воль подчиняется, не забывая закатить глаза, не забывая делать это нарочито медленно, будто уже назло. Ее начинают раздражать \я не знаю почему неожиданно становлюсь такой чувствительной\ все эти прикосновения бесконечные к ее волосам гребнем с выжженными на нем цветками лилий и иероглифом императорского дома. Раздражают эти бесконечные растирания, втирания в кожу масел, знакомого сока граната \вспоминаю первую ночь, ту самую и хочу забыть, а они напоминают, скажите мне к чему все это?\. Хочется вырваться отсюда, но кто же теперь позволит.
Листик мяты разжевывается, во рту появляется мягкое ощущение морозца и свежести. Дама Шин несколько раз хлопнет в ладоши, служанкам скажет принести одежду, придворная дама же занимается украшениями.
— Хотите надеть поверх синее или цвета фуксии, Ваше Величество? — ровный, не терпящий возражений тон. Воль пожимает плечами. — Значит синее.
Эта одежда на самом деле куда легче обыденной и привычной, но от этого в ней куда более неловко себя ощущаешь. И белая ткань нижнего ханбока, словно первый белый снег контрастирует с синей и яркой, словно сапфировой синевой верхней накидки, полупрозрачной, с узорами на ней же серебристыми, вышитые цветами пионов, похожими на инеем поддернутые морозные узоры. Рукава все такие же широкие, но тем не менее, благодаря легкости ткани кажущиеся совершенно невесомыми. Опустит руки.
Это все с л и ш к о м. Это все смущает, а грудную клетку распирает от неожиданно желания прекратить. Этот. Маскарад. Маскарад, на котором тебе никто не даст маску. Странное неловкое ощущение, таинственность какая-то самого о б р я д а, которая никому в принципе не нужна. Глупо. Глупо. Глупо. Глупо.
— Я думаю дальше ваша помощь не потребуется, — звучит холодное, почти сквозь зубы в сторону служанок. Те пятятся, а ты наконец остаешься наедине.
Дама Шин игнорирует все красноречивые взгляды, чем раздражает еще больше. С серебряного подноса, покрытого бархатным, темно-зеленым покрывалом возьмет заколку.
— Для такого случая утяжелять ничего нельзя. Будет достаточно одного украшения, Ваше Величество. Не должно быть ничего лишнего.
Остановишь руку, заколка с аквамариновыми бусинами в сердцевине цветка задержится в воздухе.
— Для какого с л у ч а я? — холодно, четко, твердо. — Дама Шин, я молчала из соображений такта и уважения к вам, но это уже невыносимо. К чему вся эта суета? Вокруг чего?
— Так вам не нравится эта заколка? С вашим нарядом она хорошо гармонирует, Ваше Величество и это ваш любимый цвет. И цветок. Это камелии — спокойно игнорируя все и вся.
— Я. Вижу. Что это камелии, — отрывисто и гневно почти. Волнуешься. Вот и нервничаешь не в меру. А проницательная женщина сразу понимает твою душу. Так легко тебя распознать. Ты растеряла все маски. К черту маски. — Мне не нравится, что раздули вокруг визита. К чему делать из мухи слона? Я бы могла уже давно быть там, возможно вернуться, если бы только Вы не затеяли эту бессмысленную круговерть. Мне это не нравится.
— Ваше Величество… — будто с малым ребенком, будто Воль и вправду превратилась в девочку семнадцати лет вновь, а дама Шин сейчас начнет рассказывать о правилах поведения во дворце. Осторожно положит заколку на место, посмотрит в глаза п р я м о. — Этой ночью, Вас хотят видеть в покоях Короля. Боюсь, что все не бессмысленно.
Смеришь суровым взглядом, брови продолжают хмуриться. По лицу прочитаешь ответ на вопрос о ц е л и визита и усмехнешься \дай боже, чтобы не криво\. Дай боже не расхохотаться.
— Дама Шин. Когда бы меня туда не позвали – днем ли или посреди ночи. Это не значит того, о чем вы сейчас подумали. Неужели Вы, человек, который находится со мной так долго, до сих пор не поняли меня? Я не хочу и не буду думать по-другому. В какое бы время суток я не была нужна Его Величеству это может быть все, что угодно, но… — хочешь прикусить губу, но привычка вредная, дама Шин не одобряет и говорят, что губы портятся, а у вас «красивые губы». Вскидывается, распрямляя плечи, королевская осанка возвращается. — Я благодарна, что теперь могу быть хотя бы другом. Советником. Но надеясь на большее – разочарование слишком болезненно. Не хочу. И терять ничего не хочу.
Улыбка скользнет по лицу придворной дамы. Печально-вопрошающая. Пожалуй, только ты видела, как она улыбается. И пожалуй только ты видела столько улыбок. От нее.
— В таком случае, как Вы считаете… зачем ваш муж позвал Вас?
Передернешь плечами, будто бы беспечно, даже улыбнуться попробуешь, а сердце неожиданно застучит быстрее, встревоженное. Это все подготовка виновата. Зареклась ведь не поддаваться. А сердце глупое не слушает, а сердце глупое отчего-то тревожится и волнуется. Глупость снова.
— Да для чего угодно! — Воль отчаянно пытается стереть ту серьезность, которой покрылась эта ситуация. Не выходит. Все остается каким-то через чур серьезным. А ей не по себе. А она… верить начинает? Не хочу. — Возможно, случилось что-то важное, о чем я должна узнать прямо сейчас, или же у него не было времени сообщить об этом мне днем. У него ведь… много дел. Может быть он захотел поиграть в бадук! — раздраженно уже, видя, что у дамы Шин на каждое ее слово есть контраргумент. Невыносима.
— Ночью? – уточняет она, а ты кивнешь упрямо.
— Почему нет?
— Интересное желание для ночи, Ваше Величество.
— Иронизируете? Хорошо, может быть все дело именно в том, что ему не спится. Может быть я знаю хороший чай от бессонницы.
— Это то, во что вы хотите верить или же то, в чем вы себя пытаетесь убедить, Ваше Величество? Это то, что вы действительно хотите? — прозвучит наконец вопрос.
А Воль осеклась, а Воль ловит этот взгляд и неожиданно понимает, что не ответит на этот вопрос. И не потому, что не знает ответа. Ответ известен, но она его боится.
Нет, я совсем не хочу в это верить. Я хочу, чтобы Вы оказались правы, дама Шин. Но думая так, надеясь на это… восемь лет прошло. Когда в сердце зарождается надежда, ты становишься все более жадным. Если позволю себе думать об этом, то… больно в итоге будет мне.
Дама Шин помолчит несколько мгновений, посмотрит в окно, прикидывая время. Вздохнет.
— Хорошо, Ваше Величество. В таком случае, считайте, что таковы правила. Так положено. Когда наш дворец получает приглашение мы о б я з а н ы так Вас готовить. Так заведено с древних времен. Вы Королева. Жена Короля. С точки зрения Внутреннего двора вы самая важная персона.
«После Вдовствующей Императрицы» - поправляешь мысленно.
— Не нужно допускать лишних слухов и пересудов у наложниц. При них и при других в такое время суток отправляясь во дворец Императора Вы должны выглядеть подобающе. Давайте считать так, если Вашему Величеству так будет удобно.
Ты видишь по ее глазам, что это отговорка. Нет, так и правда заведено, таков регламент, прописанный в гаремных книгах, но причина все же не в простой формальности. А ты опустишь плечи, позволяя все же надеть эту заколку, а потом взгляд на столик низенький падает, где посверкивает все та же заколка с птицами золотыми. Ты итак ее часто носишь.
— Надену ее, — звучит категорично, звучит так, что сразу понятно, что не потерпит никаких возражений. Что уже так решила. А дама Шин спорить не станет. Еще раз поправит волосы расчесанные с такой тщательностью и придирчивостью, чтобы если ладонью проведешь, если пальцами проведешь – ровно проскользят и никаких препятствий. Слишком приторные запахи выветрились, только шлейф нежный остается. Все же… через чур. Убеждай себя дальше.
— Последний штрих остался и Вам пора, Ваше Величество.
Последний штрих – бутыльки прозрачные. Воль вспоминает аромат гвоздики в ту самую п е р в у ю ночь. Вспоминаешь, какой бледной была и передергивалась. Все таки время творит откровенные чудеса. Но кожа у тебя все еще бледная, отливающая каким-то призрачно белым отсветом жемчуга, который хранился где-то в шкатулках. Драгоценностей много – а любимых единицы.
Осторожно, прозрачной палочкой касается. Тронула пробкой шею, затылок, кожу за ушами, запястья, подмышки, внутреннюю сторону рук под локтями. Проведет едва-едва по ключицам, в ложбинку, разделяющую грудную клетку напополам проведет пробкой. Терпеливо выжидаешь, а голова уговаривает тебя, что все это лишнее.
«Будет ужасно неловко перед вами, Ваше Величество. Сдержаться бы. Меня подставили. Да-да».
— Жасмин, — поясняет дама Шин зачем-то. — Считается, что он дарит ощущение собственной привлекательности. И раскрепощает. Женское тело — произведение искусства, но чтобы оно всегда оставалось таковым, над ним нужно постоянно работать.
— Я просто потерплю, дама Шин. Я просто. Потерплю, — качая устало головой, которая имеет свойство кружиться. Да, казалось, что ароматов слишком много, а в итоге чувствуются строго определенные – в гаремах знали толк в смешении. — Намекаете, что мое тело уже стало дряхлым? — невесело усмехаешься.
— Нет, я смею говорить о том, что вы сомневаетесь в себе.
— Не было… причин для особенной самоуверенности, если честно. И поводов убедиться в обратном.
«Только однажды, разве что. Только однажды».
Еще Гон часто говорил. Но Гона нет, Гон быть может погиб, женился и давно з а б ы л. А она есть. И ее муж есть. И чувства, увы, есть. И как с ними жить?
Все также руки смазывались персиковым маслом и настоем ромашки. Только теперь добавился жасмин и запах миндаля от волос.
Около двери кто-то затопчется, заставляя развернуться, почти что вздрогнуть, сцепить руки вместе.
— Не смотрите так дама Шин. Помните, что вы мне сказали в первый… раз? — вся эта атмосфера напоминает это, а прежде чем уйти, ты все же развернешься. — «Только вам решать — чем для вас станет этот дворец. Райской кущей или камерой пыток». А еще вы сказали родить мне сына, чтобы выжить.
— Так чем дворец стал для Вас?
— Я еще не решила.
На самом деле этой ночью действительно было что-то не так, что-то не как всегда и ты убеждала себя в обратном, пока шла за евнухом Чоном, семенящим поспешно и, возможно, сыплящим проклятиями и тихими ругательствами, потому, что как ему казалось все шло слишком долго – милостиво проигнорируешь. Нет за тобой и привычной тени Сухо, евнух Чон сказал, что «нельзя» и ничего не поделаешь. Нельзя. Воздух пах как-то необычно, звезды светили иначе. Девушки в основном спать должны были лечь – нарушителей распорядка всегда наказывали. Где-то виднеется дворец вдовствующей Императрицы, кажущийся одиноким и холодным, запрятанным в летних сумерках.
Евнух Чон склоняется в три погибели, когда подойдешь к знакомой двери. Открываются первые, звучит высокий голос, возвещающий о «прибытии Ее Величества». Давит. Открываются вторые двери, а ты задержишь дыхание зачем-то, прежде чем осторожно порог переступить и стараясь не сгореть от неловкости.
Во всем. Виноваты. Приготовления. И ничего больше. Они смутили, посеяли странное чувство в груди. И что с ним делать прикажите?
Дверь закроется. Здесь тоже очевидно незаметно для чужих глаз \но не моих, я хорошо запомнила ваши покои, я всегда замечу, если что-то изменилось\ готовились. Уловишь запах магнолии. Вздрогнешь. Да-да, я всегда знала, что она особенная, чувственное и прочее, просто… такой знакомый запах. Глазам по покоям рассеянно почти, сна на самом деле ни в одном глазу, а двери за спиной закрываются.
Когда еще я чувствовала такую дикую неловкость, Ваше Величество?
Досчитай до трех. Встряхнись. И давай вести себя как обычно, как и решила.
— Доброй ночи, Ваше Величество, — склоняя голову уважительно, так, что волосы гладкие спадают со спины вперед. Выпрямишься, поправишь. — Признаться честно – это было неожиданно. Все же уже довольно поздно, — пожмешь плечами, проходя вперед.
На самом деле удобно должно быть – движения особенно не сковываются, волосы лежат вполне свободно, их распустили, свободу дали. А мне все равно… неловко отчего-то.
Сядешь на подушки, осторожно расправляя руками подол белый, а синяя накидка ляжет рядом волнами ультрамариновыми. Устраиваясь так, выдыхая чуть слышно, наконец голову поднимет, с глазами встречаясь его.
Ваши глаза умеют быть разными. В них и тонешь, спасаешься, леденеешь вместе с вами и страдаешь тоже вместе с вами. А сегодня я впервые не могу прочитать в них… или я просто не знаю такого выражения ваших глаз? Все бывает впервые, Ваше Величество.
Воль подбирается, плечи расслабить не получается, впрочем. Если бы не время визита, все было бы как обычно, а здесь.
«Спасибо, дама Шин. Вы умеете подстреливать мою уверенность… в чем бы то ни было».
— Не смотрите на меня так. Я знаю, вид… странный. Поверьте, мне тоже неловко, но мне сказали, что «так надо». Это ничего не значит – я не специально. Просто дама Шин бывает непреклонна, возможно Вы об этом знаете… — пытаешься как-то оправдать свой внешний вид не слишком привычный, возможно. Она будто пытается оправдать эту ночь, все эти слова. Она будто именно сейчас решает стать слепой и глухой. Видеть то – в чем себя убедила. Слышать все так – как убедила себя.
Воль не знает точно, что случилось, но наверняка что-то важное. А если не важное, то быть может что-то личное.
На последнем мысленно сглатывает.
«Ваше Величество, если честно обсуждать с вами ваши личные дела в такое время суток мне бы не хотелось. Я говорю, что я ваш друг и смирюсь даже с разговорами про отношения или девушек, но не скажу, что это доставит удовольствие. Впрочем, не похоже на вас. Вы бы не стали обсуждать со мной такое даже если бы такое было возможно. Может потому что мы друг друга уважаем».
— Вы звали меня, Ваше Величество. Это значит… что-то произошло? Что-то серьезное?
Вглядывается в лицо, но не чувствует, что дело в этом, что дело в каком-то серьезном событии, которое не терпело бы отлагательств. Вы бы вели себя иначе.
— Садитесь, раз уж я пришла. Мне неловко сидеть здесь одной, — похлопаешь доверительно по подушке рядом, пододвигаясь сама и освобождая место р я д о м.
И это была моя первая ошибка. Близко – значит терять голову в моем случае. Близко – значит уговаривать себя, что «я друг, я соратник, я советник». Близко, значит бесконечно вспоминать слова дамы Шин. Поводит плечами, вдох-выдох короткий, прежде чем улыбнуться уголками губ е м у. — Значит ничего такого? Я начала волноваться. Это не дела государственной важности и ничего тайного? Или вам нужен партнер для игры в бадук? — подшучивает, вглядываясь в лицо, смея приблизиться и склонить голову набок. Не подумайте, что мне легко дается беззаботность. Н е т. Но разве не проще будет нам, если я останусь беззаботной? — Смею предположить, что в таком случае вам просто не спится. От бессонницы мы все здесь мучаемся порядком, Ваше Величество, — продолжаешь улыбаться, снова, как когда-то по плечу похлопаешь.
Вы ведь сами говорили, что с вами я могу быть женщиной. И другом значит могу быть. Значит мне необязательно играть роль королевы. Значит не буду. Сердце затрепещет при этом в груди, а лицо останется спокойным. И взгляд слишком долгий и неожиданный, заставляющий не сразу плечо отпустить, только лишь потом опомниться.
— Ну не скучали же вы по мне. Или вам сейчас скучно? Я сделаю чай, у вас же должны быть чайные приборы. А вы расскажите мне, что случилось – я умираю от любопытства, — она поднимается с подушек поспешно. Поспешно, потому что щеки из бледных приобретают какой-то розоватый оттенок, ты машешь на себя ладонями. Быть может, просто слишком душно здесь. Отвлекаешься на что угодно, на чай в том числе.
Для приготовления этого чая пригодны далеко не все сорта хризантем, всего два китайских сорта.
— Говорят, хризантемы одни из главных украшений дворца китайского императора. Говорят существует какой-то чудодейственный чай Луньцзин, который самому императору подают и говорят, что этот чай вылечивает от любой болезни. — задумчиво, притрагиваясь к сухим желтым лепесткам цветка. Весь Чосон давно является вассальным государством Мин, слухов вокруг дворца Императора тоже много. А ей нравятся только красивые. Как-то некстати вспоминается посол из Мин. Где-то на шее тонкой, прозрачной линией виднеется напоминание. Ежишься.
Вам во дворец доставляют особенные сорта этих цветков тоже отсюда. Вот эти, предназначенные для чая, снимающего напряжение и усталость, помогающего расслабиться и уснуть вырастили в провинции Чжецзян. Напиток из цветов этого вида отличается сладостью, прозрачностью. Цветкам нужно настоятся минуты три, за которые она успеет поговорить о китайских ученых и изобретениях. Светлый, желтоватый слегка и очень мягкий цвет чая. Должен был получиться. Осторожно поддерживает чайничек расписной, сосредоточена на этом чае \и так будет проще гораздо, так будет проще м н е\, продолжает разговор, спиной стоя. — Я попробовала встретиться с наставником О. Но он оказался упрямее, чем я ожидала. Он всегда была таким, сколько помню его, когда учил Вона письму. Не думала, что мне откажет лучший друг моего отца. Наверное, он все еще считает, что королевская власть предала нашу семью или он слишком разочарован. У меня есть еще пара кандидатов, но ему я доверяю, потому что помню с детства. Я помню многих ученых их Сонгюнгвана, я почти что там выросла, — поведешь рукой, ощущая приятный сладковатый аромат. Хороший вышел чай. Разворачивается, слишком увлеченная и самим процессом заварки, который на какое-то время помог избавиться от совершенно посторонних, на ее взгляд мыслей, увлеченная своим разговором о все тех же делах выдуманного ею же и поддержанного им предприятия, поэтому совершенно потерявшая не только осторожность, но и как выяснилось с л у х.
Я всегда чувствовала, когда за моей спиной кто-то стоит. Рядом с вами бдительность я теряю, как неловко.
От неожиданности \быть может неловкости\ отшатнешься почти, упираясь спиной в столик, едва ли не выронив чашку с этим чаем. Взгляд начинает беспокойно бегать по покоям, пытается заглянуть куда-то поверх головы, потом опускается, упираясь в чашку. Досчитаешь до трех мысленно, сердце пустится вскачь. Невыносимо.
Если будешь себя так вести Воль – все станет п о н я т н ы м. Оставайся спокойна даже вот так. Когда можешь почувствовать дыхание, запах кожи, когда сердце не слушается. Голову все же поднимет, почти что смело. И взгляд ореховый пересечется с взглядом-ониксом совершенно внезапно. Тепло. Выдержишь. Утонешь, но выдержишь. А вы не отходите… И взгляд пристальный.
Не отходите.
Небо, прошу, дай мне сил и терпения.
Протянешь чашку, возьмешь свою. Двигаться особенно н е к у д а. Что-то не так. Отпиваешь немного. Так нельзя. Слишком много вопросов. Один на самом деле ответ, но ты упрямая, ты боишься, ты сомневаешься, не веришь.
Восемь лет. Это срок. Это большой срок.
— Это хороший чай, он хорошо получился, пусть я и не старалась слишком сильно. В ы п е й т е, — голос отчего-то ниже на полтона, глаза становятся серьезными. Убеждает.
За окнами ночь вступает в свои права окончательно. За дверями неожиданно тихо, будто все испарились куда-то. Все это все же слишком странно, а пелена таинственности все остается. — Ваше Величество… — голос продолжает подводить тебя. Ко всему прочему он еще и дрогнет. — Так что случилось? Дело не в государственных делах, не в наших личных предприятиях, не в скуке и, кажется не в бессоннице. Простите, но как вашему д р у г у мне, будем честными, неловко. Время позднее. И… — рука ухватывается за чайный столик, нужно договорить, сглатываешь. И, кажется, что становится еще более душно. —…это смущает. Поэтому мне интересно… Расскажите и мы выпьем чаю. Я все пойму. Чего…вы хотите Ваше Величество?
Скажите мне ч е г о.
Я думала, вам не спится. Это последний вариант того – зачем вы могли меня позвать к себе в такой поздний час.
***
Взгляд. Прямой. Честный. Открытый. Спокойный взгляд. Все закончится сегодня. Все начнется сегодня. Здравый рассудок на самом деле затуманен давным-давно. Но остатки собираешь, голос остается крепким.
— У меня есть… условия. Ничего сложного, поверьте. Первое — вы будете любить этого ребенка даже несмотря на то что… не любите меня. Второе — вы останетесь со мной… до утра. Третье — вы… можете звать меня по имени и на «ты». Хотя бы сегодня. Четвертое… если ничего не выйдет — вы должны позвать меня снова. И пятое… ни за что не останавливайтесь. Вы не можете передумать. И если вы согласны то… я ваша. Давайте станем мужем и женой. На это время.
Настоящими.
Позволь мне прочесть тебя, словно книгу - мою самую любимую из всех. Некоторые твои страницы потерты и изношены, но я люблю их больше всего. И я узнаю, что ты боишься не знать, что может произойти. И, иногда буквы такие маленькие, что я едва могу прочитать их. Словно ты пытаешься скрыть то, что случилось с тобой. Что сделало тебя грустным. Сломанным. Позволь мне прочесть тебя, словно книгу. Позволь мне раскрыть тебя. Научи меня читать между строк. Покажи мне все спрятанные главы и склеенные страницы. Каждое зачеркнутое слово. Позволь мне узнать тебя. Всего тебя. Позволь мне прочесть, узнать и полюбить тебя.
Это, я скажу тебе в самом конце главы. Новой главы.
Позволь прочитать эту книгу хотя бы втихую.
Поделиться102018-02-06 18:50:00
По правде говоря, силы иссохли,
И я следом за ними.
Там, где чистый небосвод бескрайний, врывающийся в душу, где сама жизнь блистает в больших глазах, где рассыпается звенящими колокольчиками и журчащими ручейками, детский смех. Там, где тебя не ждали, где пахнет скошенной травой, где охапки полевых ромашек и одуванчики в тяжёлых косах. Там, где сказки сторожат лунные ночи, где чудеса находят своё жилище, пригреваются и случаются изо дня в день. Там тебя не ждали, там тебя не принимали, глядели кого небеса храбростью не обделили, а взгляды самые разнородные, взгляды бывают нестерпимыми. Ты тоже смотрел, жалел, порванную душу пытался сшить. Ты не божество коим люди видят, не Король, а человек совершенно обыкновенный, человек со своими огромными, властными страхами. Они в твоих глазах, они за твоей спиной, а иногда, на твоём пути. Посмотри, Сон, это лишь малая часть того, что положили в твои руки. Лишь малая часть, а люди мужественно глядят на тебя, мужественно и умоляюще. Что ты можешь дать? Ты ведь, не хотел стать т а к и м, не хотел опускаться на колени мысленно, не хотел становиться жалким, беспомощным, именно таким, несостоявшимся королём.
— Вот такие дела, Ваше Величество, — маленький, сгорбленный немного старичок складывает руки, склоняет голову, завершив небольшой рассказ о том, как дела обстоят в деревушке. Его сразу позвали, глава ведь, надобно поприветствовать как подобает. Сон напрочь отказался зайти куда-то внутрь и присесть, решив постоять на крыльце. Невыносимо упрямый. Старик улыбался добрыми глазами, глядел проницательно, а мудрость, долгими, непростыми годами собранная, отражалась в мягком взгляде. Не настаивал более, смиренно встал рядом, начиная говорить тихим, спокойным голосом.
— Я постараюсь помочь, это может занять время, но . . .
— Не беспокойтесь, Ваше Величество, мы сжились с тем, что наши труды приносят пользу другим. Знаете, многие не захотели так жить и покинули нас.
— Мой отец не знал об этом?
— Вашего отца мы никогда не видели. А ваша супруга очень красивая, — кивает в сторону скопившегося шума и гама, детей, обступивших со всех сторон. Сон оборачивается.
— Давно таких искренних глаз не было у нас, я слыхал только, что ваша родная матушка была добра к простому народу. Погубили . . . — погубили, погубил д в о р е ц. Сон до нельзя горько усмехается. На простых людей гневаться не стоит, они, наверное, не догадываются как тебе больно было. Они лишь знают, что ты имел крепкую дружбу с рисовым вином и расхаживал по праздникам каждый божий день. Однако, Сон, погляди на свою с у п р у г у. Она солнечно улыбается, она подпускает детей к себе б л и ж е, плетёт косы, необыкновенно простая, необыкновенно прекрасная, окутанная тёплыми лучами. Глаза сияют, в глазах отблеск янтарного солнца и летнего дня. Сердце замирает. Она достойна любви, искренней и чистой, необъятной и жертвенной. Она достойна того, что ты дать не в состоянии. Посмотри и усмехнись шире, больнее, горче. Для чего отец поступил так? Будь в жёнах кто-то другой, кто-то вроде тех девиц, которые об этом грезили день и ночь, всё было бы и н а ч е. Когда-то ты благодарил отца, а сейчас вновь ненавидишь, пропадая в этой солнечной картине. Ненавидишь за то, что однажды он выбрал её, девочку, которую дворец не заслуживал. Ты не заслуживал. Однако, Сон, не находишь, что поздно? Всё давно случилось. Чувство вины накрывает новой, сильной волной, и спасения ждать не стоит. Сносит. Уносит. Разбивает о твёрдые скалы. Взгляд отводишь, когда смотреть невыносимо. Всего лишь мгновение, и ты сомнения раздирают. А стоило затевать всё это? Стоило звать с собой? Сходишь с ума, Сон.
— Ваше Величество, не обвиняйте себя, вы на самом деле, ещё молоды, подле вас люди с большим опытом, наученные жизнью. Не удивляйтесь, если они побеждают в ваших играх. Ваши первые шаги пусть не видит никто, но для вас это начало длинного пути, — всё ещё спокойно, плавно, где-то рядом, весьма ненавязчиво, приятно слушать сердцем. Улыбка на лице мелькает, смотрит с благодарностью, а потом слышит приближение шажков. Малыш бежит к нему, совершенно очаровательный, симпатичный, с большими, тёмными глазами. Он невольно опускается за долю секунды, чудом каким-то успевает подхватить, сам коленями земли касается, смотрит снизу-вверх на кругленькое, пухлое личико. Взлохмачивает мягкие, чёрные волосы, улыбнуться силится. Улыбаться непросто, когда совсем другие мысли голову заполняют. Когда хлещут потоками неуместные сейчас, чувства. Когда сердце б о л и т за всех этих людей и когда невыносимо смотреть на неё, окруженную детьми. Дети — это прекраснейшее чудо, это пухлые щёки и маленькие ручонки, это сияющие глазёнки, безграничная искренность. Почему вдруг, дети становятся для тебя чем-то обязывающим и сложным? Почему вдруг, всё теряет краски и какой-либо смысл?
Сон пытается улыбнуться вновь, проводит ладонями по плечикам, несильно сжимает, поднимается и всё ещё смотрит завороженно на ребёнка. Ухватывается за руку, а это прикосновение будто к сердцу, это невозможно трогательно и тепло. Взгляд соскальзывает на медовое печенье, медлит, и вовсе не в сомнениях, а в своей трогательности и в его искренности. Не отталкивай. Берёт осторожно, за край, малыш пальчики разжимает, хлопает своими прелестными глазками, обрамлёнными длинными ресницами. Подходит и молчит. Да, он слышал э т о не единожды. Разламывает, протягивает крохе половинку, другую в рот отправляет, щёки надувая игриво. Вы правы, если скажете, что мы сделались королевскими особами по ошибке. Чертовски правы. Он, кажется, давится медовыми крошками, откашливается в кулак, когда слышит детский, простой весьма, потешный вопрос. Чуть хмурится, глядит на Воль серьёзно, как этот ребёнок.
— К сожалению? Вы разбили мужчине сердце. Не мне. Ему, — а ты понимаешь, что делиться ни с кем не желаешь, ты вспоминаешь тот нелепый миг, когда оттолкнул Ёна и она угодила в твои объятья, неисправимый.
Посмотрит на неё вновь, задержав взгляд всего на секунду. Неспешно отвернётся, глядя куда-то в сторону хохочущих детей. Быть может, он был прав, быть может, мы поладили бы. Быть может, всё вышло совершенно иначе. Но я устал от этого м о ж е т. Я устал, Воль, думать, как сложились бы наши жизни, если бы не . . . Если бы.
От нас требуется лишь покорение судьбе.
А вы играете с детьми, а я стою на месте, серьёзными глазами наблюдая.
Когда-нибудь что-то изменится?
Заметит нечто странное, присмотрится внимательно, шаг в её сторону делая. Старушка сгорбленная, вида не самого простого, для него настораживающего даже. Ловит взгляд через плечо, мгновенно срывается с места, широкими, быстрыми шагами догоняет, шляпу чёрную поправляя. Сон знает лишь то, что отец предсказателей недолюбливал и отсылал из дворца куда подальше. Сон знает ещё, что якобы смерть матушки предсказали и теперь смотрит с огромным недоверием и неприязнью, которую скрыть не удаётся. Заметно напрягается, настораживается, осматривается пристально, прежде чем внутрь зайти. Непривычные запахи ударяют — морщится, отмахивается рукой, оглядывается. В каком-то углу паутинная шаль и паук большой довольно, в другом длинная метла, пучки из самых разных трав верёвками подвешены. Старые, потрёпанные книги, жёлтые страницы, кое-где тонкий слой пыли застилает. Смотрит на Воль, опускается рядом, присматривается к лицу бледному, морщинистому. Взгляд сквозь. Любопытно, его отвращение почувствуется? Если не у в и д и т. Нелюбовь к этим людям ты лишь одним можешь объяснить. И в отличие от Воль, всё ещё напряжением скован, лишённый всякого любопытства и интереса. Дело даже не в том, что ты не веришь. Если однажды предсказатель оказался прав и правда эта сделала тебе б о л ь н о, что сделаешь? Я бы честно сказал, что своего будущего знать не желаю. Вздрагивает, когда к нему непосредственно обращаются. Выдыхает тихо, смотрит равнодушно с прохладой во взгляде. Всё возвращается. Усмехается открыто. Разве всё не очевидно, Воль? Разве т ы мало страдала? Если всё возвращается, значит в следующей жизни м о я очередь. Ведь так? Едва сдерживается дабы не засмеяться порывисто, безумно, а лихорадка словно набрасывается нещадно. Трясёт в этом тёмном, кошмарном месте, и чувство словно твои собственные страхи, твои монстры выползут, появятся за спиной. У них будет т в о я усмешка. Ни одно слово, вымолвленное сиплым голосом не стало р а д о с т н ы м. Всё для него прозвучало зловеще, как напоминание. Напоминание о расплате. И почему слыша всё это, начинаешь невольно верить? Будто слова похожи на реальность, будто перекликаются, пересекаются, сливаются воедино. Будто старушка с седыми волосами говорит п р а в д у. Хмурится пуще прежнего, сжимает пальцы в крепкие кулаки, прячет куда-то руки. Чтобы Воль не заметила? Однако Сон вздрагивает вновь, и последнее точно удар где-то над головой, гулкий, раскатистый, сопровождающийся длительным эхом. Сын. Сыну? Наступает тот миг, когда вам не до шуток, когда вы не дети, которым любопытно. Вашему сыну . . . Но если вдуматься, я не единственный, кто может стать отцом вашего сына? Если хорошенько подумать, появился ли тот человек в моей жизни? Насколько мои догадки верны? Крутится в голове, беспокойство подъедает изнутри, а спросить — это значит сломать себя. Он всего лишь вспоминает мгновение своей жизни, всего лишь ленты, которые однажды переплелись. И прежде чем подняться, порывисто подаётся вперёд, опуская руку на низкий столик.
— Если вы всё знаете, ответьте на мой вопрос. Однажды я встретил такого человека, и я уверен, что небеса подали мне знак. Но я . . . потерял его, я пытался искать и не нашёл. Моё сердце сказало мне, что этот человек действительно важен. Так скажите, он появится снова? — вырывается, вырывается из самих глубин души, голос окрашивается эмоциями, волнением и мольбой. Он убеждает себя в том, что не верит. Он не желает верить. Он не сомневается в том, что разочарование настигнет вновь. Молчание минутное.
— Перестаньте искать.
— Всё ясно, — усмешка. — Сидеть и ждать? Поверьте, я так и делаю, — поднимается так же порывисто, раздосадованный отчего-то, уходит первым и попадая на свежий воздух, хватает его губами жадно. Задыхается. Почему? Что мы знаем? Нас сводит судьба. Мы встретимся в следующих жизнях. У вас родится сын. Сущее безумие.
— Возможно, вы верите, что мы станем друзьями в следующей жизни? Но не верите, что у вас может родиться ребёнок в этой жизни. Вы очень забавны, — очень спокойно, словно на всё остальное не хватает с и л. Устал идти? Устал от разных взглядов? Устал от путаницы, которая окутывает вот уже восьмой год? Быть может, вся проблема в его сложности. Это странная, бесполезная привычка — усложнять. Быть может, лучше бы не встречались, Воль. Ты так хочешь этого? Зачем же?
— Мы никогда не узнаем, какой она будет. А вы можете быть хорошим другом, — он идёт вперёд, он не смотрит по сторонам, взгляд пустеющий устремлён куда-то на дорогу, только на дорогу. Однако останавливается, когда позади замирают и с минуту не слышны шаги. Оборачивается. Быть может, нам пора отпустить прошлое? Мы отпустили, да только не полностью. В его руке горстка сладких, ароматных ягод. Не хочу, если честно. Смотрит на неё, усмехается мельком забавному жесту, когда губы рукавом вытирает. Не по-королевски, да? А ему неожиданно нравится. Он шаг к ней делает, становясь ближе.
— Дама Шин отругала бы вас за такое, да? Когда вы только . . . пришли во дворец, вам рассказывали о правилах? В детстве я их терпеть не мог, но потом сроднились. Откройте рот, — говорит не думая, просто говорит очень спокойным тоном, мерным голосом. Поднимает глаза на её лицо, получается чуть исподлобья. — Ничего такого, просто откройте, мы же не во дворце, благо здесь нет правил, — он серьёзный всё ещё и с лишней серьёзностью кормит земляникой, всматривается в её лицо, за пределами дворца удивительно меняющееся. Хочу запомнить. Украдкой улыбается, а на ладони остаётся одна, красивая и сочная на вид, ягода. Сам съедает, не сокращая расстояния, продолжая стоять так б л и з к о. Я и подумать не мог, что происходило с вами, когда мы были так близки. Но прежде чем двинуться к дереву, протягивает руку, большим пальцем стирает земляничный, липкий сок из уголков покрасневших губ. Губы земляничного цвета и вкуса, наверное, очень сладкие губы. Не заигрывайся. В каком-то забытье ведёт пальцем по красивому контуру, очерчивает, и просыпаясь словно, руку резко отдёргивает. Просто, вы испачкались в земляничном соке.
Подходят к дереву, поднимает голову, взглядом окидывая. Большое, раскидистое, кидает расползающиеся по земле, тени. Прислушивается.
— Вы прекрасное выглядите, — край губ дёргается, возникает жалкая полуулыбка, а она действительно прекрасно выглядит. Она настоящая. Пьянит. Она внезапно отходит назад, под дерево, а он, пугаясь чего-то, ловит, сжимает пальцами плечи, стоя всё ещё в кое-каком укрытии от хлынувшего дождя. Неосознанно. Слишком забывчивый, захваченный смешанными ощущениями, не успевает удивиться ливню сквозь яркие, солнечные лучи. Сквозь ясность. Его рассудок затуманен, облака наплыли, слух притупляется. Он просто плечи сжимает, а взгляд опускается. Дождь стучит победной дробью, бьют капля по земле, по растениям, жаждущим влаги и свежести. Сбивает земляничные ягоды. А земляника теперь неизменно будет ассоциироваться с ней и её красивыми губами. Безумие. И этот летний ливень безумен, и его сердце, гулко стучащие, и всё, вся круговерть куда-то уносящая — безумие. Воль заговорит — отпустит. Шаг назад, ещё один, руки заводит за спину. Непослушные руки. Снова прислушивается, снова смотря перед собой, задумчиво. Ему интересно, ему приятно доверие. Судьба распорядилась иначе. Я лишь догадываться мог, что вы кого-то любили.
— Вы его всё ещё любите? — забавно, Сон, будто из всего услышанного это самое важное, забавно. Голос приглушённый, спокойный, отрешённый. Он, наверное, сам не понял, что вырвалось. Дождь хлёсткий сбивает рассудок. Если бы женился, было бы хорошо, Воль? А ты имеешь право задавать т а к и е вопросы? Молчание воцарится на несколько минут, где-то в небе загремит, где-то птица порхнёт, прячась в густой листве. Она обратится теперь всерьёз, теперь привычно. Да, ты привык к этому тону. Он стоит позади, потому что так удобнее, потому что может смотреть, не прятать взгляда. Никто не увидит. Он поднимает глаза, готовый слушать снова. Боюсь, это будет продолжаться до того момента, пока не увижу вашего ребёнка у вас на руках. Боюсь, это правда. Но ответить вслух, ответить голосом, не хватит смелости? Что-то остановит или вовсе, отвечать не собирается. Чудеса бывают где-то за стенами дворца. Там они обитают, там, где нет золотых прутьев. Губы улыбка трогает, когда она закружится в каком-то свободном танце, засмеётся, вновь меняясь на его глазах, вновь становясь девушкой, которая будто бы радуется летнему дождю. Словно тот цветок, оживший, вытянувшийся, распустил свои лепестки, потянулся к желанной влаге, к жизни. Она тянется к жизни, она прямо сейчас ж и в ё т, красивая, непринуждённая, светящая чистым лучом и её луч проникает под кожу, под сердце, расплавляет то чёрное пятно. Чудеса, конечно же, бывают. Иначе, как тебя назвать? Если ты тоже ч у д о.
Придерживает под руку, улыбаясь легко, смотрит на неё теплеющим, набирающимся нежности, взглядом. Взгляды соприкасаются, взгляды соединяются, глаза в глаза, неотрывно. Сон чувствует ладонь на щеке, чувствует, как по коже катится мелкая дрожь, прохладно. Запах дождя и земляники, нежные руки, пленяющие, красивые глаза напротив. Ему отчего-то нравится чувствовать её прикосновения, приятные. Но ты ведь, не любишь. Не любишь? Как бы всё было? Неподвижно. Замирает. Замирает взгляд. Складки меж бровями. Проникновенно. Как? Я бы смог . . . полюбить? Осторожно касается кисти руки, осторожно сжимает, только отнимать от щеки ладонь не желает. Выжидает, когда сама отнимет. Кивает, вновь едва заметно улыбаясь.
— Обнимайте, вам не нужно спрашивать разрешения. Я ваш муж, помните? — придерживает, снова непослушными руками, за талию, спрятанную в простое платье. Опускает взгляд. Нравится? Нравится смотреть в глаза? Хорошо ли это? Затихает, дыхание затаивает, прислушивается невольно к постепенно утихающему дождю. Сердце отзывается гулким стуком. Отвечает. А разум задавливает, внутренний голос вспыхивает удивлением, лишь сердце, оставшееся о д н о, отчего-то жалко, громко бьётся. Сердце лишилось союзников. К сердцу прислушиваются, когда всё безнадёжно, когда разум не в состоянии спасти. А что ты мог хотеть? Ты хотел лишь одного, чтобы её выпустили в свободный полёт. И более н и ч е г о. Взгляд застывает стеклом, он не шевелится, до сих пор не дышит. А она исправляется, мгновенно отмахивая всё, что его обступило. Ненадолго. Всё вернётся. Всё возвращается.
— Я научу вас, мы не можем вечно ездить на одной лошади. Вы должны научиться, — отстраняется, пятится назад. Дождь прошёл. А вы знали . . .
коснуться разбитого сердца имеет право лишь тот,
кто страдал не меньше.
Неподвижный взор устремлён на красную точку, вершина сосредоточенности достигнута, пальцы сжимают сильнее, рука медленно и точно движется назад, тетива туго натягивается. Замирает в последней секунде максимального напряжения, пропускает перед глазами все события первой половины дня. Брови сдвигаются, складки возникают и скоро точно запечатлеют на лбу тонкие линии, если не перестанет так часто хмурится. Раз. Прошло восемь лет, а она до сих пор девочка. Должно быть, она вовсе не интересна своему мужу, зануда. Она ни капли не привлекательна. А может, бесплодна? Позор! Вот увидите, ещё немного и её отправят в ссылку. Зачем Его Величеству такая жена? Натягивается сильнее. Два. Если через полгода ничего не изменится, мы не будем ждать, мы выберем новую королеву. Не забывайте, наша цель — помочь Его Величеству. Нам нужен наследник. Ещё сильнее, совсем туго. Три. Ваше Величество, рождением сына вы спасли бы не только себя, но и свою супругу, и целый народ, подумайте об этом. Мы на вашей стороне. Голоса смешиваются, сливаются в один, шумно становится, хочется закрыть уши, хочется заснуть, провалиться сквозь землю и обрести покой, о котором душа молит. Невыносимо. Шумно. Руки трясутся, стрела срывается, лук падает, ломается, трескается, а он хватается за голову. Ш у м н о. Звенящий тенор, приторное щебетание, змеиные улыбки, лисьи глаза, мудрость всех веков, добродушие в хрипловатом голосе. Сходит с ума. Крепко закрывает глаза, складываясь пополам. Холодный пот обливает.
— Ваше Величество! — совершенно искренне, совершенно обеспокоенно выкрикивает д р у г. Подбегает, за плечо берётся, вынуждает выпрямиться, сжимает сильно, словно пытается в сознание вернуть, вырвать из этого сумасшествия. Усмешка обезумевшего. Лихорадочный блеск в глазах. Дыхание сбито.
— Промазал . . . я так хотел . . . попасть в цель, — пинает носком оружие, выскользнувшее из крепкой хватки. Разламывается окончательно. Ненадёжное.
— Надо поменять, никуда не годится, этим барахлом нельзя воевать. Мы проиграем . . . мы всё проигрываем . . . — шумный вдох-выдох, грудь вздымается и опускается заметно, взгляд опустевший на красной точке. Мимо. Не попал. Стрела вонзилась в землю на середине полёта. Выдержала, не треснула. Ён постепенно разжимает пальцы, опускает руки, а беспокойство на лице явное. А Его Величество вдруг насмехается над любой искренностью.
— Я же могу . . . — отходит, тянется к запасному оружию, берёт стрелу. Если сегодня не попадёт — не успокоится, до утра будет стрелять. — отречься от престола? — так просто, раздумывая, склоняя голову к плечу, будто беззаботно.
— Ваше Величество . . . в чью пользу? В нашей стране дела обстоят так, что заменить вас некому. Ваш единственный родственник и кандидат не справится.
Сон не слышит, натягивает тетиву снова, смотрит в цель безразлично. Усмехается.
— У него есть дети, даже сын. Чем не король? Это же, так важно! — спокойный тон внезапно подпрыгивает, повышается, крик вырывается и казалось, эхом разбегается по сторонам. Оборачивается. Дикий взгляд. Страшный взгляд.
— Я так полагаю, любой, кто имеет сына, может стать королём. Это прямо главное условие, — после ещё одной неудачной попытки, перебирает сложенные стрелы, пусть все они совершенно одинаковы, а вдруг, одна счастливая где-то затаилась.
— Почему вы не можете . . .
— Дурацкий вопрос, не продолжай, прошу тебя, — отмахивается, усердно качает головой, устанавливая очередную стрелу. Каждое действие машинально, мгновенно становится в стойку, натягивает, затаивает дыхание. Срывается.
— Может, потому что глупо и наивно жду любви? — опускает руки, теперь в задумчивости.
— Вы . . .
— Да, я не смог, я не люблю, у меня и цели такой не было. Всё, что я пытался — это добиться уважения с обеих сторон. А я должен был . . . полюбить? Для кого-то это просто, но видимо, не для меня.
— Сун меняет женщин каждые две недели, — пожимает плечами.
— Полагаешь, он любит каждую? — останавливается, смотрит на Ёна заинтересованно, улыбается словно ребёнка спрашивает, а улыбается его детской наивности. Однако знает, что, тот вовсе не наивен, наоборот, слишком умен.
— Любить можно по-разному. Можно просто любить женщин и . . .
— Лучше не продолжай, я не настолько озабоченный, — кидает предупреждающий взгляд.
— О чём вы подумали? Я знаю, что вы тот, кому необходимо любить, без любви ваше сердце страдает. А Воль тот человек, которому нужна любовь. Но, Ваше Величество, не ждите, перестаньте, любовь сама к вам придёт.
— Возможно, ты прав, ждать чуда не стоит. Позаботься чтобы завтра ночью возле моих покоев никого не было. Никаких ушей и глаз. Не хочу, чтобы кто-то об этом . . . знал.
«Её Величество снова у озера, одна. Сходите к ней».
Высматривает её, ещё издалека замечает задумчивость на лице, застывшую позу, неподвижность настораживающую. Вдыхает глубоко свежий, вечерний воздух, пропитанный древесными и травяными нотами, запахом раскрывающихся лотосов и водорослей. Подходит ближе и зачастую, она слышит, оборачивается, замечает, бывает, ещё в нескольких метрах. Только не этим ранним вечером. Наклоняется в бок, пытаясь заглянуть в лицо, выяснить что не так, а на лице глубокая задумчивость, очень глубокая и серьёзная. Не замечает.
— Воль? — вздумалось по имени назвать? — Воль, ты слышишь меня? — и хорошо, что не слышала. Руку протягивает, касается плеча, несильно сжимает и отдёргивает руку довольно быстро. Пожалуй, не стоит более сегодня на ты.
— Вы выглядите пугающе-серьёзной, когда так думаете, — прищуривает глаза, мотает головой, но со следующими словами понимает, что сегодня не до ш у т о к, сегодня всё всерьёз. Выслушивает. И по правде говоря, это не то, что хочется слышать, это расстраивает, это нагоняет словно ветер, хмурые тучи, серые мысли.
— Поверьте, ничего интересного. Наблюдать за их вечными спорами — скучно. Мирить их — дело неблагодарное. У меня есть ещё дела, а вы ложитесь сегодня пораньше, отдохните, — быть может, оставлять не стоило, может, она подаёт с и г н а л, чтобы ты не уходил, а ты уходишь. Разворачивается спиной, а душу и сердце тяготит нечто очень тяжёлое, грузное. Желают спокойной ночи и у х о д я т. Желают хорошего отдыха и у х о д я т. Однажды, стоит остановиться, стоит задержаться, верно? Однажды всё должно перемениться. Шаг. Чувство, словно ещё немного и не стерпишь, обернёшься. Второй шаг. Взгляд, потерянный из стороны в сторону, перелетает. Третий шаг. Хмурится, замедляется, а грудную клетку что-то сдавливает. Впервые не хотелось просто уйти? Оставляя всё как есть. Слышит своё имя. Останавливается. Оцепенение. Снова. Слышит впервые. Едва ли помнит, как по имени звала, когда весь мир расплывался и земля из-под ног уходила. Слышит своё имя в сознании. Сердце глупое, за что так болезненно сжимается? Просто. По имени назвала. Ощущение, словно вы стали б л и ж е. Пошатывается, когда она подбегает, когда обнимает, ещё пребывая в изумлении. Поднимает руки, бережно накрывает ладонями её, осторожно расцепляет, поворачивается лицом. Для того, чтобы обнять, чтобы спрятать в своих объятьях, чтобы крепче прижать к сердцу.
— Глупенькая . . . моя глупенькая Воль, — губы тянутся в улыбке, озарённой светлой печалью. — Откуда такие мысли? Ты никуда не уйдёшь, — снова т ы, снова волос касается, проводит ласково ладонью. Ты сближает. Ты стирает границы. Их необходимо стереть. — Я не отпущу тебя, любовь — это не единственное, что удерживает людей. Я говорил, что ты нужна мне, — однажды или очень скоро, ты дашь мне всё, дашь то, что я могу получить лишь от тебя, Воль.
— Подожди ещё немного . . . — знаю, ты ждёшь долго. — Хотя, погодите, — берёт за плечи, отстраняется, смотрит серьёзно-внимательно. — назовите меня по имени ещё раз, тогда не уйду. Я хочу посмотреть на наших птиц, прямо сейчас, вы ведь не откажете своему мужу?
Уходить, только не сейчас.
Уходить, только не этим вечером. Ночью.
Когда вы заснёте. Когда чай выпит. Когда луна высоко в небесах.
Уходить так спокойнее.
«Этой ночью я хочу видеть супругу в своих покоях.
Если она не придёт, евнух Чон, пинайте на себя».
У всего есть предел, даже само упрямство не обходится без границ. Полчаса назад Ён покинул покои, чрезмерно настороженный и сосредоточенный. На плече до сих пор ощущение будто чьи-то пальцы крепко сдавливают. Чистосердечная, дружеская поддержка и, хотелось верить, без сочувствия. Под взором толстая книга с желтоватыми страницами, пахнущая высохшей орхидеей, подле неё три веточки нежно-сиреневой лаванды. Рукой подпирает подбородок, но вчитаться и суждения автора словить не удаётся, собственные мысли птицами разлетаются где-то над бескрайними, ячменными полями, где-то, где п у с т о т а. Сегодня всё закончится? Всё начнётся? Сегодня. Отяжелевшие веки опускает, прислушивается к шорохам и движению за тонкой дверью. Шаг остался. Всего один шаг. Назад пути не будет. Её Величество прибыли. А он хотел бы всё устроить проще, хотел бы не слышать этого голоса, не видеть этих людей, низко склонившихся. Но никакого дела совершенно н е т до твоих желаний. Поднимает взгляд, поднимается сам, когда она появляется во всей необыкновенной красе. Она пришла к нему как эта чудная ночь, тиховейная и вкрадчивая, сияющая, звёздная. Ароматы лёгкие, приятные, разлетаются, смешиваются с магнолией и лавандой в один пышный, душистый букет. Сон улыбается слабо, плавно скользя взглядом с длинных волос до белого подола. Подготовили. Весь её вид выдаёт старательные приготовления и догадки придворных дам. Совершенно верные догадки. Если бы от этого всё было проще. Это я виновен в том, что подобное для вас — неожиданность. Несостоявшийся муж. До нельзя забавные оправдания, удивительная непонятливость, впрочем, всё легко объясняется. Молчит. Молчит и слушает, рассматривая светло-бледное лицо. Из неё сотворили совершенно очаровательную девушку для э т о й ночи. Ты ведь, не видел её такой, когда пьяным в покои завалился. Присаживается рядом, ловит улыбку, улыбается глазами в ответ. Не шевелится, а она то приближается, то отдаляется, продолжает говорить, вглядываться, подшучивать. Беззаботно. А ему и говорить ничего не хочется. Знаете, просто слушать вас приятно. По плечу хлопает, смотрит проникновенно как-то, поддёргивая уголки губ. Взгляд долгий. Ему нравится смотреть в её глаза. Красивые глаза. Красивая душа. Рука на плече. Они будто играют в никому неизвестную игру. Эти взгляды, эти улыбки, оправдания и поспешность спрятать порозовевшие щёки. Сон только ухмыляется, тянет руку к веточке лаванды, крутит меж мальцами. Дивное спокойствие, душа в умиротворении тонет, сиреневой цветок приятно пахнет, если держать на расстоянии вытянутой руки. Продолжает вслушиваться, рассматривает крохотные цветочки, облепившие зелёный стебель. Он, пожалуй, думает вовсе не о чае и даже не имеет желания вникать во всё услышанное. Вам нужно, наверное, выговориться. Однако слушать о их совместном предприятии и обсуждать дела сейчас определённо не собирается. Выпускает лавандовый стебель, поднимается, а края развязанного, шёлкового халата болтаются свободно. Чудно цвета совпали: синий и светло-голубой, точно небесный градиент. Прячет руки за спиной, подходит ближе, ещё ближе, превращая взгляд в красноречиво-говорящий. Пристально следит за бегающими глазами, наклоняется, всматривается внимательнее. Отчего вы такая сложная сейчас? Наконец-то ловит её глаза, смотрит снова, снова пристально. Брови дёргаются, чуть сдвигаются, кажется долго он т а к не протянет. Берёт чашечку маленькую, но пить тоже не собирается, не хватает только заснуть, когда решился.
— Как вы не понимаете! Я не буду пить ваш чай, мне сегодня спать нельзя, — ставит на столик, жидкость с ароматом хризантемы немного выплёскивается от созданного волнения, а ещё плескается его терпение и способность верно пояснять. —. . . ребёнка. Вы поймёте, если я хочу ребёнка? Вы не верили в это до последнего, вы перебрали в своей голове все возможные и невозможные варианты, знаю, моя вина. А ещё вам неловко, вы повторили это несколько раз, но . . . — голос опускается, тише, спокойнее, за ним плавно взгляд, на чашечку в её руке. — придётся забыть о неловкости, — разжимает тонкие пальцы, ставит возле своей и обе полные ароматным чаем. Не до ч а я этой ночью.
— Сейчас вы можете не мало, а много, вы можете дать мне всё и получить то, что, возможно, хотите. Я не хочу использовать слова вроде нужно и ребёнок — это необходимость в политической игре. Я хочу об этом забыть и верить . . . что вы сами желаете стать матерью, — без открытого разговора уже не выйдет, откровенность должна стать нашим всем.
— Доверить своего сына, или дочь, я могу только вам. Потому что . . . — ароматного воздуха набирает в лёгкие, вдыхает глубоко, взгляд отводя в сторону. — вы заслуживаете уважения, и я вас уважаю как человека, как женщину. Хочу, чтобы вас уважали все, — хочу остановить поток этих гнусных и подлых сплетен и слухов, которые оплели дворец крепкой паутиной. — И ещё, я очень благодарен вам за то, что вы спасли мне жизнь. Нет, на самом деле, вы часто меня спасали, — задумчиво, всё ещё глядя в сторону. — Вы тоже можете стать счастливой, вы моложе меня, знаете ведь. Наверное, у вас есть шанс . . . воспользуйтесь им, — голос глохнет, неразборчиво. Да, ты осмеливался так долго, ты наконец-то твёрдо решил. С минуту исчезает в безмолвии, оглушённый словно, а потом с непоколебимой уверенностью смотрит ей в глаза.
— Я хочу ребёнка, — подводит итог твёрдым, серьёзным тоном. — Поэтому вы здесь в таком виде. Стоит больше доверять своим подданным? — глаза в глаза. Настало время научиться доверять друг другу всецело. Без любви ты справишься. Без доверия не сможешь. А он не знал, что кто-то любит, он не знал, что эта односторонняя любовь станет верным пособником доверию.
Любовь бежит от тех, кто гонится за нею,
а тем, кто прочь бежит, кидается на шею.
Последнее условие. Её взгляд проникает до глубины тайной. Ладонь касается щеки. Неотрывно пропадает в этом взгляде, спокойном и открытом. Прямота и честность. Безмятежность. Тишина. На кончиках пальцев дурманящий аромат лаванды. Губы трогает слабая улыбка. Шаг на встречу. Шаг назад. Слишком светло, надо бы погасить с в е ч и. Их горит не много, а он не торопится, осторожно берёт в руки и легонько дует. Огонёк дрогнет, померкнет, красные искры пробегутся по фитилю чёрному. Полутьма обступает комнаты, разливается, её фигура видна, очерченная лунным светом, плавные линии и красивые черты лица нарисованы звёздными красками. Последняя свеча. Опускает на столик, удерживая широкий рукав шёлкового халата, заблестевшего светло-голубыми искорками.
— Хорошо, Воль, я принимаю твои условия, — очертания улыбки, но к ней оборачивается, лицо прячется в темноте. Улыбка прячется. — То, что наше, я не могу не любить. Ты должна это знать, — подходит к ней, снова близко, вплотную. — И, зови меня по имени, — склоняется, несмело дотрагивается щеки, несмело тянется к лицу. Словно происходит нечто необратимое, безвозвратное. Двери захлопнуты. Она поставила условие — не останавливаться. Не передумать. Нет. — У тебя это получается по-особенному, мне нравится, — совсем теперь близко, а взгляд скользит по лицу, задерживается на глазах, отражающих мягко лунные лучи, падает на губы. Губы, на которые однажды засмотрелся до безумия и потери рассудка, губы, которых недавно нарисовал контур пальцем и задумался, сладкие ли они, в земляничном соке. Красивые губы. А его слишком мягкие и чувствительные вероятно, вечно по ним пускались трещины после ударов и пересыхали слишком в очень жаркие, сухие дни. Однако с женщинами у него водилось одно правило, которое кажется, нарушить впервые собирается. Поцеловать. Чуть смелее . . . и я ваша. Рывок маленький, но отважный, знаменательный. Ладонь на пояснице, тянет на себя, пальцами притрагивается подбородка, расстояния между лицами более н е т. Бережно пробует на вкус её губы в первом поцелуе, постепенно набираясь смелости. Даже в этот трепетный момент умудрятся нахмурится, а потом вовсе оторваться, но остаться так же близко.
— Нет, Воль, так не получится. Ты должна сказать если что-то пойдёт не так, иначе . . . . иначе, ты вряд ли придёшь снова . . . — взгляд плывёт, пальцы придерживают подбородок, а голос опять глохнет, выливается в мирную тишину. Веки опускаются. Ему бы только рассудка лишиться. Только бы совершить решающий шаг и позволить волне чувств и желаний унести. Дальше от разума. Дальше от в с е г о. Заболеть ею хотя бы на о д н у ночь. А ей, кажется, не так противно и тягостно, как надумать мог за всё это время. Поцелует снова, осторожно, протянет руки, неспешно стянет синюю накидку. Мерцая в лунном освещении, неслышно, мягко спадёт на пол, а он проведёт по плечам и рукам, сожмёт чуть сильнее. Это невозможно назвать любовью. Это уважение, благодарность и восхищение. Это ответственность. Первая брачная ночь спустя восемь лет несчастного брака.
давай полетим в тот райский сад,
где будем свободны.
и ты прочтёшь все мои страницы,
в тишине.
Губами невесомо касаясь, ведёт тёплым дыханием линию по щеке, оставляет поцелуев несколько на подбородке и оголённой шее. Спускается совершенно не спеша, словно давая время привыкнуть к этим осторожным весьма, прикосновениям. Ночь теперь в их руках, им принадлежит, торопиться ведь н е к у д а. Вдыхает аромат всяческих масел и цветов, едва ощутимый, фиалки и розы, гибискуса и гранатового сока. Приятно. Пьянит. А шея белоснежная, изящная, скульптурная словно, но гибкая, поддаётся мягким поцелуям. Сон не желает слышать внутренний голос и его тошнотворное так надо, Сон желает лишь забыться, раствориться в пьянящем аромате, затеряться где-то вдали, где пышные розы цветут и ветер тёплый траву ласкает. Забыться. Они всё ещё стоят в каком-то тёмном углу больших покоев, он зажигает огни внутри, медленно, плавно исследуя небольшие изгибы, окунаясь в запредельную нежность, возвращаясь к губам. Чувствительные. Стоит лишь смелее попытаться, прорваться, выдержать волну мелкой дрожи по спине и рукам. Минута тянется в осмелевшем поцелуе. Отрывается. Целует. Медленно. Сминает ладонями белоснежную ткань, проводит по ровной, гладкой спине. Томительно-сладко. Немыслимо оторваться. Хочется больше. Нехитрые желания одолевают, взывают к собственной слабости. Светят напоминанием о том, что ты ничтожен и жалок в женском очаровании. Всегда будет недостаточно, пока не одержишь победу, пока не перешагнёшь черту. Отрываясь, склоняется, бережно касаясь пальцами, поднимает гладкий подбородок, а по шее струится серебряный свет. Прикосновения губами томные, тягучие, от тёплых вдохов, влажные. Раскрывает глаза. Уголок губ дёргается словно в полуулыбке. Подхватывает, внутреннему порыву подчиняясь, крепче, уносит к расстеленной постели, несомненно, заранее слугами подготовленной. Укладывает на мягкие подушки, бережно, точно вазу фарфоровую, бесценную. Длинные, гладкие волосы волнами стекают по руке мягкими волнами, он ласково улыбается глазами, склоняется над ней.
— А ещё мне нравятся . . . твои распущенные волосы, — тихим, совершенно спокойным голосом, тянет белую ленту, развязывает. Находит её руку, поднимает, целует тыльную сторону ладони, а уголки губ поддеваются, загадочная улыбка на устах возникает, глаза прикрывает на мгновение. Глубоко вдыхает аромат необыкновенно нежной руки. Смотрит на неё взглядом, целиком особенным, проникновенно-чувственным, из-под чуть опущенных век. Наклоняется ещё ниже, скидывает с её помощью халат голубой, развязывает бантик слабый, совсем не замысловатый, высвобождается из одежд белых. По спине оголённой холодок волной, а потом тепло накрывает под руками нежными, через вспыхнувший, распалённый, горячий поцелуй. Вновь глаза закрывая в наслаждении, жадно обхватывает пухлые губы, смываемый потоком в круговорот с т р а с т и. Каждое действие на ощупь, каждое, задевает что-то чувствительное, отзывающиеся невзначай, каждое и осторожное. Скидывает с хрупких плеч одежду измятую собственными руками, а ткань кажется грубой слишком в сравнении с размягчённой, пропитанной маслами и гранатовым соком, кожи. Сон забывается, потому что приятно, потому что опьянение, точно после рисового вина, потому что желание, мужчине свойственное пробуждается. Ты сможешь. Внутренний голос будто подбодрить норовит, подтолкнуть, дабы оторвался от губ, теперь до покраснения зацелованных. А ты в последний раз Су целовал, ты позабыл как это, девичьи губа ц е л о в а т ь.
Он всем существом ж е л а е т, но сдерживается, балансируя между срывом в безграничный полёт и осторожностью, которой держаться надобно. Он не хотел спугнуть. Рассудок туманится, заплывает нежностью и благовоньем, ароматом магнолии и розы. Тепло окутывает, в жар бросает, не хочется холода, хочется только сгореть в чувствах удовлетворения, которых лишил себя на несколько лет. Когда мужчине необходима ж е н щ и н а. Когда женский аромат бросает в полное безрассудство, наводит исступление. Когда она необходима как воздух, как дыхание, как сама жизнь. Сон поклясться готов — хотел бы любить. Хотел бы одарить этим прекрасным чувством. Да только насильно это не сделаешь, насильно она не явится, не появится в сердце. А робость исчезает, нерешительность превращается в незыблемую уверенность. Зачарован, пьян, растворяется над ней, под её ладонями. Припадает к грудной клетке, открытой казалось, нараспашку, биение сердца слышно, обнажённой, как плечи гладкие, манящие дотронуться, крепко сжать в руках. Рассыпает нежные, влажные, поцелуи, словно звёзды, блестящие под лунными струями. Руки, всегда непослушные теперь своевольно блуждают, выводят изгибы и очертания изящной талии, линии дразнящих бёдер, которые всегда надёжно спрятаны в пышных юбках. Теперь ему известны все формы, всё тайное. Он на ощупь познаёт это тонкое искусство, изваяние словно, во всех деталях и прогибах, во всём извивании и изяществе. Она врывается в душу необъяснимо, она зацветает цветком внутри, взывая к желаниям б о л ь ш е, взывая к мужской жадности и нестерпимой жажде. Дыхание сбивается пылким порывом, словно волна от бушующего пламени обдаёт, отбрасывает. Шумно выдыхает в плечо, скользит губами по нежной коже, сплывает ниже, целует живот плоский, длительно, придерживая бережно вновь бёдра выпирающие. Исчезая в забытье снова и снова, накрывает губами, выдерживает несколько секунд, прежде чем оторваться и вдохнуть, прежде чем вновь коснуться, проводя по всему телу пересекающиеся линии и тропинки, теперь изведанные, некоторые дважды, другие с десяток раз. Заигрывается. Ты ведь, не знал, что не стоит, ты не знал, что лучше бы с д е р ж а т ь с я. Дабы не касаться чужих чувств так глубоко. Ты заигрался не подавляя желания получить больше. Плавными, влажными поцелуями вновь поднимается, скользит носом и губами по ложбинке гладкой, гле настигает особый, будоражащий аромат. Жасмин с магнолией смешивается, пьянит бесповоротно, сводит с ума, заставляя невольно сжать бёдра, крепче. Руки чуть позже скользнут вверх, неторопливо, накроют плечи, массировать возьмутся, скидывая остатки напряжения с её тела. Для тебя развлечение. Для тебя наслаждение. Ты мужчина. А она женщина, способная любить. Ты не з н а л. Ты играл, словно имел на это полное право. Ты не боялся, что однажды колкое чувство вины ощутишь вновь. Тебе это безумно нравилось. Прижимается к ней, ладони под спину, губами невесомо по щеке.
— Не забудь . . . не забудь сказать . . . — горячим шёпотом по подбородку и шее. Сделать друг другу приятно — не ваша цель. Ребёнок. Ребёнок . . . Ребёнок. А ты забываешься, ты не помнишь об этом, ты не хочешь б о л ь н о сделать. Растворяешься в трепете. Тело играет, воспламеняется пуще прежнего, тело словно в лепестках красной розы, душа тонет в будоражащем аромате. Осыпает всё теми же поцелуями точно лепестками, нежно, но с долей пылко-алой страсти. Только дурак мог не хотеть ничего от тебя. Не хотеть т е б я. А я был дураком, Воль. А ты удивительно прекрасна. Пределы. Границы. Занавес хочется сорвать. Раскрыть свои тайные страницы, нырнуть вглубь её души. Позволить прочесть, позволить о себе узнать в с ё, бережно отделить склеенные страницы и разыскать засушенный цветок магнолии в середине. Она в своём великолепии, в своей естественной красоте волнует, воспаляет, зажигает мириады горячих звёзд внутри. Прочти меня, я буду умолять об этом, я буду сгорать и превращаться в прах, пока не коснусь тебя. Позволь коснуться. И я признаю своё ничтожество перед тобой. Разыгрывается до крайности. Брызгаются огни-поцелуи, опаляют бледную, потопленную лунным светом, кожу. Жгучие следы этой ночи.
— Прошу тебя . . . Воль, — на мгновение взгляд вливает в её, на мгновение видит бесконечную вселенную, круговые полёты планет, звёздные сплетения, свет очарования, серебряные струны волшебства. На мгновение падает в эти сияющие глаза, ловит руку, целует запястье, взора не отводя. Сладостное, возвышающее к небесам мгновение. А тело женственное вновь влечёт, своим существом чувствует, впитывает тепло, жмётся, опускает изящную руку на своё плечо. Ночью не Король и Королева. Ночью муж и жена. Ты тоже будь смелее, Воль. Здесь я не король. Здесь я купаюсь в твоих чарах и пропадаю. Здесь простой смертный. Перед тобой. Он пьёт пьянящий аромат, вновь и вновь забываясь, падая, оседая, лаская в объятьях. Можно не любить, но нельзя устоять перед женской чарующей силой, перед чуть опущенными, дрожащими ресницами, перед отблесками на гладкой коже, перед складками, пролегающими на теле. Нельзя устоять перед губами манящими, ставшими желанными, когда однажды попробовал и снова почувствовал вкус солнца, вкус летних дней и поцелуев в ячменных полях. Он склоняется над ней, рассыпается в пепле от нестерпимого жара, зачарованный до у т р а. Дикая буря вспыхивает опять, заносит в круговерть, обдаёт пылкими и ледяными в одночасье, волнами. И в сиянии, и в тумане, и дрожа и смело осыпает поцелуями желанную в сей миг женщину. Постепенно. Торопится снова некуда. Удерживая за бёдра, за линию плавную, поглядывая так осторожно, будто бы робко. Веки тяжелеют, глаза хочется закрыть и вместо темноты звёздные брызги. А она будет терпеть мужественно, ей доведётся, это оказывается единственный путь к их с п а с е н и ю. Через боль, через пронзающие спину, горящие стрелы. Через длинные линии света луны, через поцелуи влажные и желание, приводящие к изнеможению, ежели бездействовать, остановиться. А она говорила не останавливаться. Не станет. Желая это зверское, нещадное пламя внутри потушить, не удержится. Ещё горячее, ещё нестерпимее, выдох шумный вырывается, опаляет жаром её плечо. Губами прижимается на короткий миг, ресницы дрогнут, глаза чуть приоткроются. Медленно. Горячо. Сцеловывает нежно звёздную пыль с изящных ключиц и девичьей, округлой груди. Опьянение сладостное. Опьянение телом красивым, а руки каждое извивание чувствуют. Огоньки подпрыгивают внизу живота где-то, удовлетворение волнами разливается. Захлёбывается в пылких чувствах, истекает в невыносимом жаре, разрывается пламенными искрами. Пляшет всё кругом, пляшет обезумевшее сердце, луна освещает благосклонно, склоняется будто над приоткрытыми окнами. Он дышит тяжело. Он срывает то желанное, то, что всем существом обрести х о т е л о с ь. Нектар сладкий из цветка. Аромат летней ночи. Сладострастие поглощающее. Упоение звёздным соком, губами, на которых чудится вкус земляники и солнца. Неспешно. Минуты тянутся в наслаждении. Крепко обхватывает, руки заводит за спину, к себе прижимает, выжигает нечто глубокое на её припухших губах. Нещадно. На её губах летние дни, золотые узоры, цветочные ароматы, сочные, изумрудные травы и пение птиц с тяжёлых веток. Старательно. Зацеловывает горячими, раскалёнными, чувственными губами. Не остановиться. Страсть беспощадна, а он следует за ней, он отдаётся ей, желая п о к о р я т ь. На самой вершине всплеск, пылающий, горящий победно, факел. На самой вершине цветок желанный, теперь его руками сорванный, положенный в самое сердце. Пусть хранится. Прижимается до боли, до дрожи, прижимается, шумно вдыхая, соединяется с ней. В игре зашёл слишком д а л е к о. Границы переступил, пределы стёр, получил то, о чём душа молила и желала, жгуче и нестерпимо. Запреты все отменил. Играть следовало осторожнее, Сон. Играть с чужим сердцем не стоит вовсе. Жалко. Низко. Сон. Ты сгораешь, сходишь с ума. Он усилие прикладывает, он пробивается, он хотел дать ей всё, чего она х о ч е т. Он хотел, чтобы она стала матерью. Желание одной женщины. Справляешься? Торопливее. Утыкаясь носом в шею, вновь отпуская её губы, выжигает безумно красноватые узоры на тонкой, светлой коже. Запреты отменять не стоило. Последствия пылких порывов запечатлеваются на бледной шее. А он под влиянием страсти так властно распоряжается в с е м, так властно держит женщину в своих руках. Плывёт всё, тепло, приятно. Мог бы остановиться. Продолжает сходить с ума упорно, настойчиво, не отпуская. Пока все звёзды не окажутся собранными, пока последние силы не истратятся, пока слышит и чувствует её дыхание, блуждающее, касающиеся мягко кожи чуть смуглой. Пока ощущает столь ясно, столь глубоко блаженство расплывающиеся. Пока руки нежные касаются. Пока она сияет ослепительно, а он в жажде этого света, он затапливает ею иссушение внутри. Источает желание большего, желания продолжения, желания её ответа и отклика на каждое действо. Он раскрывает свои страницы, он позволяет прочесть и пуститься в неизведанное. Ей только взять, только дотронуться. Возьми. Дотронься. Коснись. Мы вместе загоримся звездностью, мы вместе окунёмся в бездонность и тайну. Вместе. Приподнимается немного, снова плечи ладонями растирает, аромат душистый источается, кружит рядом. Всё дело в ароматах. Они приводят к безумию. Они пробуждают желания и страсть, вырисовывают женскую привлекательность плавными линиями. Они вынуждают сгорать и желать е щ ё больше. Утомление приятное, дыхание всё ещё слышное, губы невесомо скользят по светлому-светлому полотну из размягчённой кожи. Истомлённый, но довольный больно, ласково ладонями по бокам проводит, по рукам и снова к плечам, сжимая пальцами. Руки своей волей распоряжаются, ищут неисследованное, ищут ароматы пьянящие. Он замирает, склоняет голову к груди, обдаёт выдохом горячим. Все звёзды сорваны? Все звёзды в руках, все звёзды по женскому, белесому телу рассыпаны, все звёзды в сердцах приюты разыскивают. Капли пота по вискам катятся. Усердно пытался дотянуться до небесных светил? Он жадно вдыхает, раскрывает глаза, испустивший все силы на свои старания. Снова выдох, снова шумный, расползающийся широко по её грудной клетке. Локоны тёмные, вьющиеся, прилипшие к телу, откидывает, скользит влажными поцелуями, теперь зачем-то. В с ё закончилось. Под озарением вероятно, под опьянением, в лихорадке безумной, мгновенно не выпускает, продолжает касаться губами, продолжает ласково ладонями водить. Минуты в струнах света, минуты тянутся, время движется, а ему впервые не интересно на время суток за окном. Увлечён, видимо. Заигравшийся. Исполненный восторга и благоговения. Чудная была ночь, чудной и есть, чудной длится, окутывая, позволяя в своих тихих объятьях забыться.
Сон упирается ладонями в подушки, раскиданные по сторонам, отталкивается, рядом совсем опускается, прижимаясь невзначай плечом к её, обнажённому. Поразительно что сна нет, глаза закрыть не может, словно пробуждение после погружения с головой в ледяную воду. Выдыхает теперь тихо, теперь дышит осторожно, вытягивает руку и невольно е ё ищет. Накрывает ладонью, сжимает, а взгляд просыпающийся, темнеющий от возвращения рассудка, устремляет в потолок, по которому блики мягкие пляшут.
— Я говорил когда-то, что ты очень привлекательна . . . у тебя красивые плечи, — голос низкий, сипловатый и тихий, спокойный вновь. Улыбается мельком, поворачивает голову в её сторону и отворачивается так же шустро. Руку крепко держит в своей. — и не только плечи, — проплывает как-то задумчиво, словно срывает фразы с потолка, смотрит туда внимательно. А нам стесняться совершенно нечего теперь. Мы стали мужем и женой. Настоящими. Сладкая истома распускается, растекается по телу точно аромат цветка благоуханный. Плечи расправляет, выгибает спину чуть, а потом вовсе разворачивается к ней лицом, на бок ложась. Всматривается заинтересованно в профиль утончённый, красивый, очерченный серебряной линией света. Прекрасный профиль. Королевский.
— С тобой всё хорошо? Может, не стоило ставить то условие: остаться до утра? Я бываю особо разговорчивым по ночам, — щурится, присматривается, а голос непременно выдаёт, выдаёт приятную усталость, бессилие, теперь полное, озорство лёгкое. Так вышло. Все силы ей отдал. — Можешь напоить меня чаем теперь, — шутливо, приподнимается, подпирает голову рукой, всматривается в её лицо, бесконечно прекрасное и красивое. Рука в руке до сих пор, неосознанно совершенно, поглаживает большим пальцем тыльную сторону ладони. Улыбается вновь, довольно-утомлённо. Отвернётся. Опять посмотрит в потолок.
— А что будем делать, если родится девочка? Она будет очень красивой . . . похожей на тебя. Впрочем, пусть рождается, если будет похожа на тебя. Я хотел бы . . . — веки вдруг тяжелеют, опускаются, только сна ни капли, с минуту выждав, размыкает, её руку отпускает и переплетает их пальцы крепко. — чтобы у меня была дочь, — совсем тихо продолжает, щекой к подушке прижимаясь. Аромат резкий ударяет, хмурится заметно, шарит другой рукой под подушками — лавандовая веточка.
— Что это? Сначала ты хотели напоить меня чаем, теперь это, серьёзно . . . —лаванда ведь, убаюкивает, дурманит своими приятными нотами. Снова поворачивается к ней, лёгкую простынь подтягивая, чуть выше поясницы. Жарко на самом деле. Крутит зелёный стебелёк, глядит на неё как-то озорно-игриво, улыбается украдкой. Крохотными, сиреневыми цветочками касается носа, в совершенной ребячливости и игривости, ведёт ниже. А спускается уже в полной задумчивости и отстранённости, когда веточка скользит по шее к груди. Вздрагивает, отворачивается, словно проснулся только что, не иначе. Только узрел тело женственное, освещённое избытком мягкого света луны, слишком яркой этой ночью. Хлопает глазами, водит перед носом стебельком лаванды, быть может, дремоту пригонит. Опьянение рассевается, улетучивается, нет уже того упоения сладостного, и нет той смелости, когда прикоснуться можешь. Дремоты н е т. А у него сладостное послевкусие трепетно-страстной близости, излишней вольности. Большим пальцем водит по её руке, удерживает уголки губ приподнятыми.
— Раз уж мы вместе до утра, я хочу засыпать . . . — откидывает в сторону цветок, подкрадывается ближе, развернувшись лицом, глядит загадочно-сияющим взглядом. Остатки от поведения властного. Тянет руки, обхватывает, прижимает к себе, укладывая её голову на своей руке. — вот так, держа тебя в своих объятьях. Ты станешь хорошей матерью. У нас будут прекрасные дети, — прикрывает глаза вновь, наклоняет голову, носом зарываясь в спутанных, шелковистых волосах, которые волнистыми струями стекают по спине и плечам оголённым. Теперь расплывётся в блаженной улыбке сквозь подступившую дремоту, растворится в ароматах лаванды и красной розы. Теперь не пожелает её выпускать из своих рук до самого рассвета, привыкший к её теплу и необычайной нежности, касающейся собственного тела. А линии лунного света, струящиеся через вечность и звёздную пыль, чудесным сиянием озаряют прекрасное творение, гладкое лицо, изящные руки и белесую шею. Одаривают чудными снами, умиротворением, казалось неземным, небывалым.
— Засыпай . . . Воль . . . — тонущий в мягкости и сладостном сне.
эту ночь нарекут священной.
С первыми птичьим криками ломается, падает ночь, лунно-звёздные, хрустальные зеркала разбиваются, мерцание плавится в рассветных лучах восходящего солнца. Шепчут травы и кусты под окнами, шуршит листва, облепившая ветви раскидистых деревьев. Где-то бежит по травинке прозрачно-сверкающая капля росы, где-то цветы распускаются, где-то ласковый ветер окутывает, подкрадывается и шумит подле окна. Удивительная тишина за дверьми, ни шороха, ни звука, ни голоса, громкого или тихого. Спасибо, Ён. Тонкий звон раздаётся, птичий хор, усевшийся на ветках, то выше, то ниже, воспевает золотистое, летнее утро, наполненное свежестью после дождей. Дрогнули ресницы. Сон постепенно раскрывает глаза, видя перед собой лицо, омытое солнечным светом, каплями тающих звёзд. Прекрасна. Даже во сне прекрасна. Заслуживающая чистой, непритворной любви. Грусть проясняется в глазах, рука тянется, трепетно-нежно проводит ладонью по щеке, пальцами по гладкому подбородку, по шее мягкой подушечкой. Утро ясное и пьянящее своим светом, словно вином из сочной, зелёной травы, жёлтых одуванчиков и земляничных ягод. Утро, взывающее к нежности и желанию прикоснуться вновь. Я знаю, что вы меня не любите. Сердце вспоминает, сердце болезненно сжимается, а вьющиеся пряди путаются в пальцах. Прости.
— Милая . . . Воль, — глухим шёпотом, румянцем осыпанную отчего-то, поглаживает щеку. Необыкновенное, утреннее спокойствие рушится постепенно, когда тёмно-болотные силуэты возникают за дверью. Хмурится от возмущения и вспыхнувшего недовольства. Осторожно перекладывает её на мягкие подушки, прикрывает лёгкой простынёй. Тянется за своей одеждой. Евнух Чон прокрадывается тихо-тихо, серой мышью, но как только взглядом касается Её Величества спящей, вздрагивает, пятится назад, отвернувшись. Сон замахивается сжатым кулаком, сжимая губы в полоску.
— В-в-а-ше Величество . . .
— Пошёл в о н, — цедит сквозь сжатые зубы раздосадованно, подталкивает нерасторопного евнуха к двери, а за ними слуги толпятся, склоняются под злобным, сверкнувшим взглядом. Одного достаточно, чтобы евнух Чон поторопился, вывел всех подальше от покрасневших вдруг, глаз. Передёргивает от возмущения. Хотелось спокойствия. Хотя бы до полудня. Спокойствия.
Возвращается, снова ложится рядом на бок, подпирает голову рукой, начинает рассматривать её лицо с открытым интересом. Время утренних процедур, умывания и завтрака.
А она спит, совершенно очаровательная, хрупкая, взывающая к желанию прикоснуться снова. Не хотелось врываться в её сон, наверное, мирный. Потому замерев, присматривается, всматривается, то наклоняется, то отстраняется выискивая нечто новое и любопытное в выражении разглаженного, светлого лица. Прикрывает собой же от прямой полосы солнечного света, дабы не светило в глаза. Дожидается, выжидает терпеливо, хотя время прошло в этом увлекательном занятии незаметно, пока зашевелится, начнёт просыпаться. Склоняется растягивая губы в особенной, ласковой улыбке, совсем близко, пользуясь правами, оставшимися после ночи.
— Вы знали, что спите очень красиво? Я ещё не видел столь красивых, спящих девушек, — кивает уверенно в подтверждение своих слов, сказанных с полной убеждённостью. — Доброе утро, Воль, — он, пожалуй, всей душой и сердцем желал сейчас услышать своё и м я в ответ и от этого желания, глаза сияют точно солнце за спиной. Он бы, пожалуй, многое отдал за своё имя на её устах. Ему это нравится, он это любит, как её глаза, как её губы. А можно вот так любить, частями? Странный-странный Сон.
— Будете одеваться? Мне отвернуться? — полностью искренне, забавно-искренне, всматриваясь серьёзно в её глаза. — Я понял, — рука сама тянется, подтягивает к её ключицам простынь белую. — схожу за евнухом Чоном, нам ведь, нужно позавтракать, — не меняя серьёзности, поднимается, делает несколько шагов и оборачивается внезапно.
— Вы же останетесь? Вы должны позавтракать со мной, не вздумайте сбежать, — окатывает взглядом серьёзно-предупреждающим, глядит пол минуты и наконец, скрывается за дверью. Шаг. Губы тянутся в улыбке. Второй. Душа подпевает птицам. Третий. Позабытое чувство радости. Х о р о ш о. Быть может, радоваться довольно р а н о, но Сон не знает как ещё ниже голову склонить, куда глаза светящиеся спрятать, как справиться с хорошим расположением духа, когда солнце так ярко, когда птицы на ветках так звонко щебечут. Теперь с вами всё будет хорошо? Вы станете . . . матерью? И, будете держать на руках с в о е г о ребёнка?
Подхватывает палочками кусочек обжаренного до золотистой корочки, мяса. Набивает щёки, точно ребёнок малый, смешок сдерживает, на неё поглядывает. На висках очаровательные завитушки появились, щёки всё ещё чудятся румяными, а в глазах мягко-сияющее отражение солнца. Засматривается молчаливо, своему улыбается, открыто. Не находится пока о чём поговорить утром после ночи, вместе проведённой. Очнувшись в очередной раз, он ещё один кусочек сжимает меж палочек деревянных, заботливо опускает на небольшую горку риса в её тарелке.
— Вы не должны чувствовать какой-либо неловкости, вспомните своё четвёртое условие. Если вам придётся прийти ко мне снова . . . — поднимает темнеющий от серьёзности, взгляд. — Вы — моя жена, полноправная жена. Я хочу чтобы вы относились ко мне именно так, как жена и чтобы другие видели в вас мою жену. Вы можете исполнить моё желание, верно? — улыбка плутоватая, серьёзность вновь таит в глазах.
— На мои смущающие фразы вы должны реагировать иначе. Если я скажу, что у вас красивые плечи, ответьте, что вы прекрасно знаете об этом . . . и гордитесь, такими плечами можно гордиться, — глазами улыбается, когда щёки снова набиты едой, а потом смешок вылетает, а наблюдать за ней ему нравится, ловить эмоции на лице, прислушиваться к разнородным нотам в мягком голосе. Ему безумно нравилось это утро, пока не треснула застывшая пелена радости и солнечности перед глазами. Возвращение с небес, где паришь свободно, на землю, по которой свинцовые тучи бродят.
— Ваше Величество! Вы должны немедленно увидеть это!
Сама паника и обеспокоенность врываются в покои вместе с высоким стражником, а за ним испуганный евнух Чон возникает, Ён подбегает, а тот крепко держит рукоять меча. Не враг. Защитник. Сон приказал докладывать обо всём, если срочно, если дела не терпят отлагательств. Если . . . Улыбка ползёт с лица, мрачнеет, взгляд заливается серьёзностью и настороженностью. Выпускает палочки из руки, смотрит на неё из-под сдвинутых бровей.
— Прошу меня простить. Мне придётся . . . оставить вас, — выговорит едва, образовавшийся ком глотая. И так будет в с е г д а. Ты всегда будешь уходить. Даже когда всё изменится, тебе придётся уходить. Извиняться. Вынуждать смотреть в спину. Но извинений тебе всегда будет мало.
Удивительно быстро пролетает время. Погружённый в бесконечные дела государственной важности, не замечает как погода меняется за окном. Он был во многом не согласен со своим предшественником. Нет, не с отцом, потому что отцу отдавал дань уважения при его жизни и не
потерял этого чувства после его смерти. Предшественник.
«Я могу ведь, могу не соглашаться с его методами?»
«Можете, вы можете создать собственный почерк, Ваше Величество».
Однако наставник У забыл упомянуть, что собственный почерк создаётся немалыми усилиями, порой, страданиями, головной болью, которую унять не могут даже лучшие, дворцовые лекари. А когда я навещал вас, в последний раз? Я всё ещё надеюсь, что вы хорошо заботитесь о наших птицах. Склоняется над горами бумаг, невольно хмурится. Тушь остаётся на дне. Ночь зажигается полной луной. Спина ноет от одного положения, в котором застывает на целый день. После собраний совета просит заварить травяной чай, успокаивающий пламя эмоций и досады внутри. Крепче сжимает кулаки, когда встречается со своими явными недоброжелателями, пылко доказывает, что этот закон необходимо принять и он будет принят несмотря ни на что. Поначалу помнил, держал в голове, что однажды должны явиться и сообщить ту самую, счастливую для всего [нет, не всего] двора новость. «Её Величество беременна». Однако никто не являлся, никаких слухов не ходило, лекари молчали. Неделя за неделей, месяц позади, в делах он и забыл обо всём. А ведь, о таком не забывают, да? Только окружающие перестали судачить, перестали напоминать о том, что наследник — единственное спасение из этой глубокой ямы. Поплыл слух о той ночи, о испачканной простыне, в кругах служанок и болтливых наложниц. Сон не замечает н и ч е г о. Только однажды, когда озарила, казалось, верная мысль, вспомнил что свою супругу видел довольно давно.
— Вы похорошели, я не пытаюсь шутить и льстить вам, вы действительно похорошели, — сквозь лёгкую пелену улыбчивости и непринуждённости, опускает на столик пустую чашку. Устраивать чаепития в саду прохладно, потому теперь зовёт в свои покои и отсылает всех куда подальше. Её общества недоставало, её общество более действенно, нежели травяные чаи для спокойствия. Взгляд скользнёт на живот, спрятанный в нескольких слоях пышных юбок, а мысли, наверное читаются в сияющих глазах.
— Как вы себя чувствуете? Как спите? — интересуется совершенно искренне, выжидает, прежде чем продолжить спокойным тоном. — Прошло немало времени, наше предприятие пора бы завершить и подвести итог. Я вот о чём подумал. Вы должно быть, хотите увидеть своего отца. У вас будет такая возможность. Мы отправимся к нему . . . с просьбой о помощи.
примите мою руку снова.
быть может, без вашей руки я здесь засыхаю.
Поделиться112018-02-06 19:20:02
«…я хочу ребёнка…»
Отрицание. Непонимание. Сердце, которое до этого и без того колотилось с какой-то устрашающей силой теперь остановилось, замирая в немом потрясении. Хочу ребенка. Хочу ребенка. Хочу… Ребенка…
Его слова, сказанные вроде как его голосом \точно не уверена\ проникают куда-то в душу и отдаются эхом в мгновенно потяжелевшей голове. Воль ухватится за край столика, чтобы не упасть \мне кажется сознание потерять мне ничего не стоит с е й ч а с\. Глаза темнеют болезненно сжимается что-то. Ты не веришь. Тебе сказали это вслух, тебя позвали сюда ночью, а ты не веришь. До последнего. Последняя на самом деле попытка.
— Почему вы… нет… вы хотите поговорить со мной о ребенке? Со мной? Я?... — глупо переспрашиваешь, ожидая снова всего.
И снова в голове тысяча и одна бесполезная догадка, которая закрывает простую истину, которую уже давно приняло сердце. Судорожный вздох, когда чашку убирает из цепко сжатых пальцев рук. Нос улавливает нежный аромат хризантем, мысль пролетит в голове совершенно глупая снова, что чай действительно получился хорошо.
«Мне сегодня спать нельзя».
Мотнешь головой.
— Вы хотите ребенка от… меня? — наконец справившись с дрожью по всему телу и с почти непонятном для себя страхом. Ребенка. От меня. Вы хотите не поговорить о нем, вы не собираетесь говорить о возможностях и, слава небесам не просите подыскать кандидаток на роль м а т е р и \в свое время их было очень много, а теперь что же?\. Но тебе все еще кажется, что ослышалась.
А быть может, мы с вами уже спим, выпив чая и это – жестокий, не похожий на реальность с о н.
Она часто представляла себе эту ночь в каких-то самых сокровенных из мыслей, представляла с каким-то потаенным трепетом и это казалось чем-то запретным. Королева-девочка, которая стала просто Королевой, благодаря осанке, повадкам, поведению, холодности с придворными и двором. Но королевой-девочкой оставалась всегда, ничего не зная о другой стороне любви, происходящей между мужем и женой. Доставлять удовольствие самой, ублажать самой – не знаешь, можешь только догадываться. Ты знаешь о чувствах, но мало знаешь об отношениях.
Ароматы начинают неожиданно кружить голову, становятся необычайно резкими, хочется присесть, но он так близко, что деваться просто некуда – сзади столик, в который с такой силой упираешься. Перед глазами он, его широкая грудь и в ушах звенит е г о голос.
«Доверить своего сына, или дочь, я могу только вам».
С губ не слетит тихое «почему», не успеет, потому что он объяснит, а у тебя в глазах исчезает это детское испуганное неожиданностью выражение и возникает непонятный металлический отблеск. Губы дрогнут, изогнутся, усмехаясь слабо то ли своей наивности, которая ничем не лечится, то ли восьми годам н и ч е г о. Мы бежали от этого, Ваше Величество. Мы считали, что без любви не выйдет, не получится. Мы пытались остаться мужем и женой, которые остаются при этом друзьями и не более того. Другие отношения все запутали бы тоже. Но выходит… зря бежали и от судьбы все равно не сбежишь.
А сердце глупое отзывается на слова, пропуская речь, которая все объясняет. Которая говорит совсем не о том. Отзывается на слова «хочу», «только вам», «как женщину». Всюду вставляет свои переменные вроде «люблю», хотя этого ни разу не произносится. Внутри что-то возрождается, а что-то обрывается.
«Я очень благодарен…»
— Я не сделала ничего такого. Вы ведь тоже… спасали меня, — глухо сорвется с губ, в глаза не смотрит, ловит задумчивый голос, а собственные слова отрывисто звучат. — Но, Ваше Величество… — поднимешь как-то несмело глаза, а в своих собственных разливается золотом металл. Уверенность в том, что все именно так и никак иначе. — То, что сделала я не было долгом. Я сделала это, потому что очень хотела вас спасти. И вы… ничего мне не должны. Это не тот случай, когда вы… мне задолжали.
Благодарность. Однажды в апреле, когда вишни покроются розовыми лепестками, это слово станет краеугольным камнем моей не_веры. Вы очень благодарны мне, благодарны настолько же, насколько же и чувствуете себя виноватым перед моей скромной персоной. И не сказать, что это то, что я хочу, чтобы вы чувствовали, но то, что я хочу невозможно, увы. Слишком большая благодарность – ребенка дарить. Ведь ребенок это не цветок, не платье.
Нет, Воль – не время. Нет, Воль – перестань.
«Наверное, у вас есть шанс . . . воспользуйтесь им».
И правда, почему бы не воспользоваться? Никогда не будет б о л ь ш е г о, а у тебя может быть ребенок, о котором ты мечтаешь уже давным-давно, еще когда на руки взяла того малыша, которого назвала Сону. Разве это не лучше, чем годы одиночества и смерть где-то в монастыре? Разве не лучше подарить ту любовь, которой у тебя через край, но которая не нужна своему ребенку, который уж точно это оценит. Не лучше ли перестать гнаться за фантомами и принять реальность, вместо того, чтобы собственной грустью потаенной упиваться?
Мне стоит стать такой, которая… не упускает таких шансов? Цинично. А вы действительно этого хотите? А вы действительно не превращаете это в обязанность передо мной? Я так не хотела, чтобы вы чувствовали себя о б я з а н н ы м.
Губы поджимаешь в тонкую полоску, вздохнешь, а руки как-то невольно сильнее в край столика вцепятся, до побелевших костяшек.
Нет времени сомневаться и рассуждать. Все правильно – больше шансов не будет, а ждать от моря встречного ветра не приходится. Хватит. Плечи распрямляются.
«Дама Шин вы, как обычно были чертовски правы, но все же с жасмином, как мне кажется переборщили».
— Дайте посмотреть вам в глаза. Я хочу удостовериться вы действительно… искренни со мной сейчас.
Подходишь сама ближе, осторожно за предплечье ухватишь, прежде чем в глаза заглянуть, скрывающее в тебе так много и боли, вперемешку со звездным светом, мягкими отблесками свечей. Которые таят в себе так много любви, которую можно было бы кому-то подарить. Все мы хотим быть любимыми и любить в ответ. И вы тоже. Всмотришься на пару секунд, кивнешь, потрясенная окончательно, сбитая с толку, все еще принимающая реальность, но уже на все решившаяся.
— В таком случае… я принимаю ваше предложение. Я принимаю ваше предложение, но у меня есть… условия. Ничего сложного, поверьте.
Прямо в глаза продолжает смотреть, стараясь сохранять последние ноты твердости в голосе. Ты на все решилась, остается только обговорить.
— Первое — вы будете любить этого ребенка даже несмотря на то что… не любите меня.
Знаете, как тяжело мне дается это легкое произношение слов «не любите меня». Это только выглядит так, будто не имеет ко мне отношения, будто мне безразлично. Да, я смирилась с этим, а все равно больно. И все равно. Знаете… как важно любить ребенка? Я так хотела бы, чтобы этот ребенок чувствовал любовь обоих. Хотя бы наш ребенок, который возможно родится. Его должны любить оба вне зависимости от тех чувств, что они друг к другу испытывают.
— Второе — вы останетесь со мной… до утра.
Смелость в глазах постепенно тает, но твердость в голосе не хочет исчезать. Это может показаться вам очень странным, а для меня это важно. С этим появляется иллюзия того, что это… особенная ночь. Что меня не просто используют и скажут: «Можете идти» \я слышала, как наложницы жалуются на это\. А я хочу представлять себя по-глупому особенной. А еще я устала уходить первой, а еще я каждый раз когда-то, когда как мне казалось вы видеть меня не хотели, уходила первой из ваших покоев еще до того, как вы проснетесь. А мне так безумно хочется просыпаться не в одиночестве, а наблюдать за тем, как кто-то другой просыпается.
— Третье — вы… можете звать меня по имени и на «ты». Хотя бы сегодня.
Потому что на «вы» в такой ситуации слишком сухо, будто это очередная формальность вроде приветствия утреннего или поклона головы. А это… а для меня это первая ночь, для меня это возможность ребенка завести. Я просто не выдержу сухого: «Ваше Величество». Я просто не хочу этого слышать. Оно убивает половину искренности, которою предполагает ситуация.
Вздох судорожный делаешь, прежде чем главное сказать, как тебе кажется.
— Четвертое… если ничего не выйдет — вы должны позвать меня снова.
Да, Ваше Величество – должны. Показать птицы небо, а потом закрыть в клетке только потому, что с первого раза не удалось взлететь – жестоко, не находите? И в конце концов только небесам известно – когда лекари скажут радостно головами кивая: «Вы беременны, Ваше Величество!». И только небесам это может быть угодно. Обезопасить себя или я просто… хочу, чтобы вы позвали меня к себе снова? Эгоистично?
— И пятое… ни за что не останавливайтесь. Вы не можете передумать.
Даже если попрошу, даже если сама испугаюсь и отступлю – не давайте и не отступайте. Пора перерезать уже эту нить, пора уже решить все. Не давайте мне испугаться, не давайте делать шаги назад – сделайте их вместо меня теперь.
А еще… я не сказала о шестом условии.
«Скажите, что любите меня. Обманите меня – мне безразлично, что это неправда. Мне безразлично, что это иллюзия – дайте мне прожить в этой иллюзии простого слова. Просто так, перед всем э т и м, чтобы я поверила. Дайте мне почувствовать эту ложь. Не хочу больше правды».
Воль сожмет мягкую, но такую тяжеловесную ткань платья белого руками и удержится от этого условия бессмысленного. Не стоит бередить чужую душу – ему наверняка это решение далось… тяжело.
— И если вы согласны то… я ваша. Давайте станем мужем и женой. На это время.
Настоящими мужем и женой. Давайте запутаемся еще сильнее, мне безразлично, но неожиданно совершенно… мне захотелось попробовать.
Взгляд старается удерживать прямым, чтобы всем своим существом доказать, что сомневаться не собирается ни секунды. Голос удивительно не дрожит, она и сама на месте замирает, когда он снова близко оказывается, когда ладонь щеки прохладной касается, теплая, пахнущая лавандой и книжными страницами.
— И… можете погасить свечи? Я слышала, должно быть темно… — и тут голос предательски дрогнет, выдавая тебя с головой, выдавая с головой всю твою невинность, вкупе с определенной неопытностью. Что-то запретное продолжает маячить в воздухе, но теперь совсем близко так близко, что грудную клетку сжимает, грудь, стянутая тканью белой опадать начнет и подниматься чуть быстрее, а дыхание сбивается уже.
И твоя уверенность твоя исчезает и тает также, как и свет свечек, которые потухают одна за другой, а покои окутывает полумрак, но твое белое платье видно отчетливо. Серебрится в свете луны, выглянувшей из облаков.
Окутывает темнота, вместе с дурманящими ароматами и все той же луной. Воль чуть было не отступает назад, когда он подходит ближе, но удерживается.
Это ведь… не долго? Это ведь… быстро закончится… ничего необычного?
Я знаю об этом слишком мало, я знаю об этом только в общем. То, что знать положено и не больше.
«То что наше я не любить не могу».
Взгляд к лицу взметнется и перестанет отступать уже теперь. Ваше Величество, вы когда-нибудь задумывались над тем, что говорили мне? Не говорите таких слов, вы же… влюбляете в себя еще сильнее. Я сразу забываю обо всем разумном, о реальности, я просто теряюсь в ваших глазах и хочу прокричать свое тихое л ю б л ю в лицо, сказать «я тоже», но не скажу ничего. Не говорите ничего, я передумала. Или говорите бесконечно, потому что это я могу слушать бесконечно. Путаете. Бесконечно путаете.
У нее взгляд остановился, у нее ноги подкашиваются, коленки на самом деле дрожат и пальцы невольно сожмут подол, когда снова касается щеки и по лицу скользит. Близко, вплотную, дыхание спирает.
«Зови меня по имени».
— Я… попробую, — хрипишь почти, глаза все еще не закрываются, ресницы подрагивают, но взгляд вниз опускаешь теперь уже потеряв последние силы, теперь уже совершенно определенно сил не остается, чтобы в глаза смотреть. Ладонь на пояснице, ближе, пальцами за подбородок – теперь отвести взгляд уже не получается.
Так каким был твой первый поцелуй?
Меня целовал Гон в щеку, пахнущую земляникой. Перед прощанием поцеловал в губы требовательнее обычного и я чувствовала всем своим существом горечь, будто поцелуй пах полынью.
Тошнотворно пытался поцеловать меня посол, после чего я думала только о том, что поцелуи и прикосновения это противно до ужаса.
Так какой из этих поцелуев был самым первым? Этот поцелуй легкий, осторожный, похожий на проскользившее по губам облако, на первый весенний ветерок. Будто кто-то коснулся перышком невесомым по самой кромке губ. Пахнет лавандой, пахнет весной. Успокаивает постепенно. Сама не заметишь, как глаза прикроешь, а потом, почувствовав, что такое желанное тепло отобрали, осмелишься все же их открыть. Только сейчас понимаешь, кажется, что… не дышала все это время.
— Я не посмею не прийти. Я приду… если позовете… Позовешь, — тихо, но неожиданно уверенно, не обещая ничего.
Даже если не так будет все – не скажу ничего. Я уже говорила. Только не отступить. Это действительно… мой последний шанс. А я почему-то верю, что все будет хорошо, пусть неизведанное и пугает темной птицей нависает. Я люблю вас, а значит верю вам. Вы не любите, но заботитесь обо мне. Значит, не сделаете мне больно настолько, чтобы я больше не пришла.
Поцелуй новый, который уже не остановится на губах, который уже не похож ни на какие из тех, что у нее были до этого. Поцелуй пробежится летним ветром по шее, оставляя за собой дорожку, которая отчего-то горит \разве такое возможно?\, на подбородке, собирает родинки в одну цепочку, в одно созвездие с шеи и подбородка, а потом снова к губам возвращается, которые постепенно приоткрываются, которые постепенно теплеют, мягкими становятся и податливыми. Ты и сама неожиданно под этими поцелуями и касаниями неспешными будто становишься чуть смелее, чуть более открытой и куда более пластичной, напоминаешь себе воск горячий, еще не застывший, с которым можно делать что угодно, особенно если руки умелые. Я, по сравнению с вами… не знаю ничего, для меня любой поцелуй – уже открытие, маленькое и незабываемое, будто дверь все шире открывается, а за дверью необъятный простор неба звездного, звезд сверкающих. Там должно быть счастливо, потому что мне… хорошо и в этом вы можете не сомневаться, а как не это показать не знаю.
Где-то на заднем плане слышит, как шуршит ткань ханбока белого, как под ногами зашуршит та самая накидка синяя, на вечернее небо похожая. Куда интереснее кажется теперь прикосновение длительное, томительное, по спине чувствует, как ладонь скользит, как сильнее прижимает, обжигая неожиданно. И по телу начинают разливаться искры огненные, похожие на те, что отскакивали от потушенных не так давно свечей. И ощущение неизведанные, будорожащие заставляют выдохнуть судорожно ему в губы, которые ее губы обхватывают теперь вновь, но крепче и смелее. Воль приоткрывает свои, чувствуя, какие ее собственные горячие стали, словно уголья в костре. И когда пальцы на подбородке с н о в а, позволишь себе глаза открыть осторожно, но все равно видишь слишком п л о х о. И выдохнешь горячо и слишком громко, сама себя смутишься при этом и словишь улыбку легкую.
Все хорошо? Или что-то не так делаю? Я ведь… понятия не имею. Наложницы, наверное правы были. Все чувства в новинку, в диковинку, твое тело тебе не подчиняется, но с радостью какой-то подчиняется е м у.
С губ слетает тихое «ах», когда на руках оказывается, только теперь запоминает все слишком хорошо, только теперь все видит, чувствует и ощущает. И правда на руках держите, а я в эти моменты кажусь себя такой легкой до невообразимости. Спина чувствует ровную поверхность постели, волосы темным покрывалом укроют надежно, с п р я ч у т.
Сквозь какую-то глубину теперь, эхом фразы доносятся до сознания. «Нравятся». Приятно, хочешь ответишь, но не отвечаешь, только шире раскрывая глаза, чувствуя, как потянется лента, как ослабится хватка, которая грудь сковывает, станет дышать чуть легче, как казалось, а к ней вернется тем временем чувство неловкости странной и детской, когда рукой пытаешься з а к р ы т ь с я, а он перехватит, поцелует руку в миг ослабевшую, а тебе теперь и сопротивляться больше не хочется. Под его ладонями пульсирует кожа, будто кровь, заговоренная, следует за его руками. Странно. Чуждо. Даже немного — страшно. Страшно вот так отдавать все. Страшно проваливаться. Страшно падать, когда не видишь и конца бездны. Страшно летать, потому что всегда по пятам идет липкое, скользкое сомнение — уверена, что летишь? Откуда уверенность, что вот сейчас не увидишь дно? Что не переломится хребет?
Но это же Вы… а я вам верю. Значит не сломаете, не разобьете. Я так боялась, мне казалось это что-то быстрое \наложницы уходили очень быстро\, а это… приятно неожиданно. Тело чувствует неожиданную прохладу, вмеремешку с чем-то горячительным.
Какой-то внутренний голос, от которого тоже только лохмотья остались подсказывает: «Помогла бы», она подчиняется несмело и медленно, но помогает, руками по плечам, чуть ниже, чуть смелее, освобождая от халата голубого и такого же легкого, как твоя синяя накидка. Еще ниже, ближе, она застывает, глаза спрашивают: «Хорошо?». И он отвечает ей, он целует её и этот поцелуй стирает все, что было д о .
Никто и никогда не целовал её так. Никто и никогда не будет целовать её так. Никто, кроме него. И она это знает. Не может не знать. Она доверчиво-нежно жмется, отвечает, как умеет, но неизменно с чувством, с волной, с л ю б о в ь ю, пока мышцы клокочут от напряжения. Она вверяет не тело, больше, намного больше, намного значительнее. Утыкается носом в ямку между ключицами, выдыхает томно, целует ласково. Затрепещет глупое девичье сердце, когда сомнутся одежды последние, когда кожа растертая недавно так, чтобы сохранить мягкость и ее приумножить коснется скользких простыней. Теперь ничего не скрыть, теперь кидаться наобум под этими губами, под этими касаниями, которые переросли из нежных и осторожных в более жадные, в более желанные и требующие от тебя о т д а ч и. Остается быть чуть смелее, не происходит ничего страшного, происходит что-то невообразимое.
Знаешь, л ю б и м ы й, для меня все ново. Эта головокружительная слабость. Эта истома сладкая. Эта страсть сжигающая. Это нежность губительная. Для меня все ново, странно, чуждо. Только ты проведешь кистью по щеке, и я — прильну, прикрыв веки. Я утону. Без сомнений, без повода, без страха. Потому что ты — это ты. И, кажется, любовь существует только там, где ямочки твои и волосы выбиваются. Все остальное — самообман. Если однажды стану твоей бедой, брось, но пока могу дарить тепло, улыбку — держи крепче, держи изо всех сил, держи до остервенения. Последнее, впрочем, пожалуй, лишнее. Та гадалка сказала, что «все вернется». Не знаю о ком она, но если обо мне все же… то ни за что не встречайся со мной в следующей жизни. В этой мы страдали оба. Просто не находи меня на свою голову.
А пока… позволь любить.
А тебе позволю… желать.
Лоб, брови, переносица, скулы, щеки, губы. Опускает взгляд ниже, пальцем — по кадыку воздушно, призрачно. Он же сокращает расстояние незаметно, резко, целует — и мягко, и грубо, и медленно, и мимолетно. Воль напрягается невольно, дрожит крупно, дышит рвано — прямо ему в рот. Обнимает. Обнимает так, будто хочет укрыть, будто хочет забрать, будто хочет удержать. Ладонью по груди осторожно, чувствуя под пальцами тот самый шрам от той чертовой стрелы \не прощу никогда и не забуду тоже\ мягко прочертишь. А тем временем внизу живота все стягивается в какой-то тугой узел, заставляя неожиданно для себя, будто не своим голосом простонать едва слышно \по крайней мере пока\, когда его теплые \а теперь кажется горячие\ ладони пройдутся по талии, задевая грудь, опускаясь ниже, ниже, по шелковой на ощупь коже бедер и ног, а твои руки невольно простынь зажмут. Ты не понимаешь себя, не узнаешь свое тело, которое воспламеняется в этих его касаниях. Не можешь понять, что происходит совершенно, но тебе нравится, просто и понятно н р а в и т с я и остановить даже не попробуешь. Поцелуи остаются на груди, захватывают кожи, влажные дорожки по телу пролегают, вжимаешься в подушку, прислушиваясь к этим ощущениям п о л е т а головокружительного, а мир трещит по швам. Громко бьется сердце в груди – остановить не сможешь, губы раскрываются и закрываются, все больше задыхаешься.
Остановится в ложбинке у груди – а у тебя сердца остановится.
Руками крепче удерживает, а ты уже на какой-то грани. Держите, боюсь, что улечу прямо… сейчас.
Мотнет головой, взгляд расфокусированный совершенно. Остатки самообладания теряются вместе с руками, растирающими плечи хрупкие, сохраняющих остатки твердости, которая исчезает слишком быстро.
Может быть я сдалась слишком быстро под в а ш и руки, не могу понять, но я ничего не могу с собой поделать, я ведь так… ждала.
Послушная до неприличия в его руках — приподнимается, выгибается в пояснице, чтобы почувствовать. Почувствовать каждой клеточкой тела жар его кожи, даже через шелковую ткань блузки. Почувствовать и вздрогнуть. Вздрогнуть от мыслей непрошенной, от опасений неожиданных, вздрогнуть от того, что все — через край, все — за рамки. Падает на простынь, любуется, рассматривает с непосредственностью и любопытством ребенка, несмело проводит пальцами по груди вновь. Не знает, как правильно и как принято, но ловит каждый его вздох, каждый его стон. Она учится. Учится любить, учится отдавать все, что имеет, учится понимать по малейшей судороге мышц, учится тому, как сделать е м у приятно, учится, как быть рядом всегда. Что значит, шуметь в голове, звенеть в сердце, трещать в ладонях, стрекотать в коленях, шелестеть в душе — звучать, звучать, звучать в нем. В с е г д а. Она трепещет, она замирает. Её колотит. Колотит безбожно. С каждым поцелуем — мурашки и стоны. С каждым касанием — все забыто, все предано, все сожжено. Сожжены страх и боль. Сожжены давно сомнения. Она отдается чуть больше, чем полностью. Без остатка. И она сама делает шаг к краю, чтобы раскинуть руки, растопырить пальцы, пропуская пушистые облака и синь неба, чтобы протянуть ему раскрытую ладонь. Она доверит. Она доверит ему жизнь и смерть, горе и счастье. Он сожмет кисть до хруста. Она улыбнется беспечно, подставляя лицо под порывы северного ветра, и будет ступать смело по краю бездны так, будто это не бездна вовсе, а поле с цветами.
Я не знала, что любовь может быть… такой. Я вообще ничего не знаю. Я не знала, что этим можно наслаждаться – все было сокрыто от глаз какой-то пеленой таинственной, ширмой расписной. Все это оставалось за дверьми ваших покоев, за горящими свечами.
Поцелуй на запястье, а ты наконец позволишь себе раскрыть собственные глаза и со взглядом встретиться, со взглядом, в котором звезды, но такие неожиданно мягкие, что можешь и с любовью спутать.
Ей неожиданно нравится, когда поцелуи долгие оставляет на животе, когда ладонь под спину, поцелуи, которые казалось уже не станут горячее – горячими становится, а руки все более властными, поцелуи жгут, прожигают кажется дыры на теле, которые сразу же цветами становятся.
Я не знала, не ведала, что любовь может быть такой… сладостной. Для меня это любовь, простите меня.
Целует отчаянно, отвлекаясь от боли клокочущей. Потом — утыкается носом в ключицы, жмурится, шипит, держится за его плечи широкие. Больно, пронзает, плавит, а потом разливается по телу потоком сверкающим, звездным и невероятным.
Я дышу. Дышу глубоко, рвано, сбито, часто, тяжело. Дышу... тобой.
Я болею тобой.
Я тобой — н а с к в о з ь, совсем, совершенно, абсолютно, полностью, нацело и целиком.
Я тобой — сплошь.
Я тобой — всецело и навсегда.
Я тобой — д о к о н ц а.
Она поднимет глаза затуманенные, мутные.
И что теперь?
Умирать?
Рождаться?
Я бы предпочла в о с к р е с а т ь.
У нас с тобой чувства разные рождаются, но и что с того? Я просто теперь точно уверена, что мое так просто не пройдет и что оно настоящее.
На полу – лунные дорожки.
На теле – дорожки из поцелуев.
Больно – не страшно, даже боль сладостной становится. Не страшно совершенно ничего, а из груди продолжат стоны и хрипы рваться птицами, а руками со свойственной себе нежностью проскользишь, почувствуешь тепло, жар практически и захочется улыбнуться легко, но вместо этого новый порыв, а за ним еще и еще. И грудь особенно чувствительной становится под этими поцелуями, все тело наливается чем-то, заполняется звездным светом – еще немного и засияешь непременно.
Невероятно мягкие губы, невероятно нежные, а ты как знала, еще когда лечила, что они будут такими, но не представляла что настолько. Ласковость граничит с безумием страсти. Пылкость с нежностью. И каждый раз, когда в глаза удается заглянуть – тонешь и взлетаешь одновременно. Невероятное чувство.
Кожа будто соткана из звезд, астероидов и из частиц разбившихся друг об друга планет, ее глаза сияют ярче лунного и солнечного света, собранного на черном атласе неба, ее сердце бьется так громко и пылко, что вот-вот выйдет наружу, облеченное в алое одеяние.
Вроде бы все закончилось, но еще чувствуешь поцелуи по шее, чувствуешь дыхание у груди тяжелое, рваное, сама дышишь также, а рука сама собой в волосах запутывается, поглаживает. Ты его успокаиваешь или себя? Ты поощряешь, «спасибо» говоришь, потому что пока и слова вымолвить не можешь, пока еще не очнулась окончательно, только голова метаться по подушке в агонии перестала. Кожа размягченная и все еще горячая после поцелуев не хочет остывать никак, только мягче кажется стала еще.
Вздрогнешь, когда прикосновение к плечу почувствуешь, как за руку возьмет, неожиданно крепко, неожиданно приятно. Мир постепенно лишь прекращает плыть, но вокруг кажется все еще парят вишневые лепестки, оседающие и прикрывающие кожу обнаженную. Дрогнут губы, которые кажется болят от бесконечных поцелуев сладостных, пухлые, покрасневшие. Улыбнешься вымученно, а голос такой же, как и у него – хриплый и севший. Не узнаешь свой голос.
— Ты научился… делать комплименты, — слабо усмехаешься, поведешь этими самыми плечами, на которых утром обнаружишь слезы покрасневшие, заметные, которые одежда надежно скроет. — а что еще? – спросишь неожиданно, осмелев будто, улыбаясь этой его задумчивости, улыбаясь самой себе, а сама не можешь толком двинуть ни рукой, ни ногой, даже голову повернуть не можешь – кажется расплескаешь звезды, собранные по крови во все те же созвездия. Ночь медленно течет молоком млечного пути сквозь пальцы.
Она чувствует на себе его взгляд, теперь вроде бы скрывать нечего, смущаться тоже и можно прямо смотреть, можно тоже развернуться к нему полностью, всем телом, подкладывая под голову руки.
— По ночам? И со всеми, ты бывал разговорчив? Ночью, – голосу постепенно возвращаются жизненные ноты, постепенно начинаешь его узнавать. Это не ревность, это было бы глупо. И не кокетство – разве я могу… или все же немного? Ресницы дрогнут, полуулыбка застынет на лице. — Он безнадежно остыл, боюсь нужен новый. Он усыпляет только горячим. А мне не нравится засыпать в тишине…
Будь моя воля – я бы не засыпала вовсе, смотрела бы в ваши глаза до исступления приятного, запоминала бы, рядом была бы. Мне нравится, что вы держите меня за руку, мне так неожиданно спокойно. И приятные мурашки пробегут по телу, станет еще теплее, когда жар постепенно схлынет – еще одно к руке прикосновение. Как я люблю – на кончике крыльев чувств.
— Это будет мальчик… — прикрывая глаза устало, но голос неожиданно уверенно звучит. — Это обязательно будет мальчик.
«Иначе небеса слишком жестоки. А еще та гадалка обещала мне сына. Я чувствую, что если у меня родится ребенок, наш ребенок, то это будет мальчик. У вас будет сын».
— Может мне стоило поставить условие, что если это будет не сын, то нужно попытаться снова… - шутишь глухо уже сама, краем распаленного разума понимая, что нужно ценить каждое мгновение сейчас. Оно может не повториться. — А я бы хотела сына похожего на тебя. У тебя очень… красивые глаза. Я говорила? Не помню… — голос глохнет, падает, потом снова поднимается следом за грудной клеткой.
Быть может нам просто нужно родить двоих детей? Когда-то я хотела четверых. Я бы хотела и дочку себе т о ж е, чтобы она понимала меня. Я бы хотела себе сына, чтобы он защищал меня. Я бы хотела себе семью, которую дворец не мог подарить. А вы сделали очень много сегодня. Так и хочется рукой подтянуться, смахнуть все еще сверкающие в лунном свете капли с виска. У тебя и самой волосы до сих пор липнут к шее, струятся по рукам. Он сказал, что ему нравятся твои распущенные волосы. Если так – я бы и вовсе никогда из не забирала, но я хорошо знаю правила. А сегодня правил н е т.
Нос снова защекочет запах лаванды \которая теперь стойко ассоциироваться будет с вашими губами и ладонями\, Воль улыбнется снова, поежится – щекотно.
— Это не моих рук дело, я сделала только чай, — тихо, чувствуя, как веточка щекочет шею, опускается по чуть выпирающим ключицам еще чуть ниже по грудной клетке, вырисовывая узоры и опускаясь к груди, не закрытой тонкой тканью простыни \летние ночи теплые\. И тогда все тело как-то предательски, до этого разомленное под молоком лунного света, напрягается с н о в а. Уже нельзя, а реагировать иначе не можешь. Напрягаешься, коснется позабывшейся истомы внизу живота, расслабишь мышцы. Не. Сейчас. Спокойнее.
Да и ночь подходит к концу, увы.
А когда оказывается ближе, когда нависает слегка, подкрадываясь неожиданно, разум твой запоминает лишь «я хочу…», а потом сердце тает, таешь с ним и ты. Воль кажется, что это эти объятия уже ни с чем не сравнимы. Держа в руках, так близко, чувственно и в то же время защищенно. Будто оказываешься в гнезде, будто становишься еще более хрупкой и маленькой, чувствуя вместо подушки его руку. Ваше Величество, мне ведь и одной ночи похожей на сказку хватит, чтобы привыкнуть. К теплу рук, к биению сердца, которое, прижатая к груди слышишь и это баюкает. К взгляду, к голосу. Привыкнуть и не захотеть с этим расставаться. Это выше… моих сил.
— М ы станем прекрасными родителями… - сонно, утыкаясь носом куда-то в грудь, вдыхая ароматы лаванды и амбры с наслаждением потаенным.
Ты ведь веришь в это? Что станем?
— Спасибо… - совсем глухо. — Сон…
Не мой. А как хотелось бы это добавить, совершенно эгоистично.
Я никогда наверное не спала так крепко, так сладко, нежась какое-то время в лучах, словно разморенный на солнце котенок – еще немного и заурчишь, выгибая слегка спину, прячась от солнечных лучей, жмурясь и, кажется улыбаясь во сне, в котором не снилось ничего, но было безумно хорошо. Чмокнув губами пару раз, совершенно непосредственная, совершенно милая и совершенно не королева, с волосами темной копной разметавшейся по подушкам. Улыбнется чуть шире, сквозь сон, чувствуя, что-то приятное, бормочет что-то не разборчивое. Никогда не спала так крепко, но если бы знала, что проснулись раньше – не стала бы спать. Я бы тоже смотрела на вас или… может и хорошо. Что заснула.
Как вы смотрите на меня? Я не смогу читать ваше «прости» в глазах, потому что не хочу слышать и чувствовать, как вы извиняетесь передо мной. Чувство вины. Только не его. Не извиняйтесь, не чувствуйте это, когда смотрите на меня. Позвольте побыть… счастливой. А сейчас я абсолютно забылась и счастлива тоже абсолютно.
Воль не ворочается во сне, замирает, только ноги прижимает к груди, будто так уютнее. Чувствует, как сон постепенно отходит, просыпаться не хочет, но как только сквозь щелку приоткрывшихся глаз видит размытый силуэт, встрепенется мгновенно, даже не сразу понимая где находится, но вспоминая в с е быстро. Вспоминая, чуть было не краснея \щеки все еще сохранили оттенки а л о г о, после той ночи\, мешкая.
Наверное, увидеть вас у т р о м было для меня каким-то благословением, поэтому на улыбку, в которой хочется купаться, неожиданно ласковую улыбку, хочется улыбнуться в ответ. Еще немного и выполните мое желание. Поверьте, у меня хорошая… память.
— А вы долго так меня рассматривали?... А сколько девушек вы видели? Никогда не задумывалась над этим… — мягкий, тягучий голос, томный после сна, с нотками хрипотцы.
«Доброе утро, Воль» - и поют птицы.
«Доброе утро, Воль» - и есть шанс на спасение.
«Доброе утро, Воль» - и хочется жить, смеяться и радоваться.
Хочется л е т а т ь, а вы, когда этой сладко-звездной ночью держали меня под спину казалось, что хотите выискать крылья. Мне кажется они там были.
А вы всего лишь пожелали доброго утра и назвали по имени.
— Доброе утро… Сон, — будто читаешь мысли. Солнце очерчивает на фигуре золотой ореол, контуры золотистые поблескивающие. Жмуришься. Осознание собственной наготы, впрочем, приходит далеко не сразу. Не сразу, но слишком с большой силой – сама потянется было к простыни поспешно. Подтянешь к груди \Воль, не смешно, все уже было… показано\, присаживаясь на кровати, простынь снова падает, волосы спадают вперед, скрываю то, что должно быть скрыто и радуешься, что достаточно длинные, просыпаясь окончательно. — Да, я… позавтракаю, — уже успевая смутиться, наблюдая внимательно, пока отвернется, пока скрывается за дверью. Но вместо того, чтобы найти ханбок нижний, белый, порядком измявшийся впрочем, позвать даму Шин \одевайся самостоятельно\ ты падаешь на постель, сохранившую душистые ароматы н о ч и, падаешь, прикрывая ладонями губы, перекатываешься с боку на бок в каком-то не понятном счастье.
Усмехаешься самой себе, смущаешься саму себя, прокручивая все в памяти с новой силой невероятной. И никак не может перестать ребячится, пряча лицо под одеялом вовсе и кажется краснея от собственных мыслей, на миг превращаясь в юную семнадцатилетнюю девушку, которую впервые кто-то поцеловал. В душе будут петь птицы, так громко, что глохнешь.
Мясо хрустит на зубах, подцепляешь палочками пару зеленых листьев, в которые можно его завернуть вместе с рисом. Вашу еду проверяют заранее, на я д дегустаторы, но сейчас о таком не задумываешься, а просто ешь, аккуратно пережевывая, посматривая на него и отворачиваясь к еде. Успела забыть как бывает приятно завтракать вдвоем?
— Сразу вспоминается время, когда я стала вашей соседкой, Ваше Величество. Да-да, боюсь придется снова называть вас т а к. Тебе неожиданно легко, легко ровно до тех пор, пока не услышишь: "Прийти снова". Закашляешься, схватишься за стакан, наполненный водой, выпьешь.
"Я хочу чтобы вы относились ко мне именно так, как жена и чтобы другие видели в вас мою жену".
А как относится ж е н а? Уважает. Я уважаю вас давно, вы знаете. Что значит быть женой? Если я начала понимать это совсем недавно. Если вы видите во мне друга \все же именно друга\, то не противоречит ли это... жена может быть другом, но остается женой. Голова кружится, пожалуй.
Подберешься, приосанишься.
— Тогда вам придется придумать что-то новое. Но я могу потренироваться. Вот скажите мне это, а я... - делаешь лицо, которое частенько видела у наложницы Хэ. Изображаешь, пусть и знаешь, что он серьезно. — Скажу что-то вроде: "Ах, мне это и так известно, но ваши слова заставляют биться сердце быстрее. А что вы скажите о..." - хлопнешь ресницами длинными пару раз, а потом усмехнешься самой себе. — Если вы будете делать это часто дайте... привыкнуть. Прошу.
Смогла развеселить. Все кажется таким безмятежным но... это же дворец. Здесь не может быть все хорошо вечно. Здесь обязательно что-то случается.
А мы расстаемся снова.
И будем расставаться еще.
А я должна... ж д а т ь.
Бордовые шелковые одежды лекаря главного мелькают перед глазами, а ты смотришь куда-то сквозь, с безразличием обреченного, чувствуя внимательно-ожидающий взгляд дамы Шин, а сама при этом предательски не ощущаешь ничего. Необходимая процедура, когда суховатые, пахнущие всевозможными душистыми травами руки лекаря осторожно берутся за запястье, переворачивая хрупкую руку и проверяя пульс. За окнами звенит лето, полностью вступившее в свои права уже давно, но не сдающее позиций. Воль равнодушно поводит плечами, лекарь хмурится, осторожно опускает тонкое запястье, а оно как-то безвольно упадет на пышные яркие юбки, расшитые золотыми нитями внизу и отливающие в свете солнца насыщенными красками дорогих тканей. Ты уже знаешь, что он скажет и на этот раз даже не б о л ь н о, скорее привычно. Но лекарь все равно мнется слегка, лицо отражает оттенок вселенской печали так, будто это ему сказали, что у него не будет детей. Впрочем, ты опять услышишь…
— Мне жаль, Ваше Величество, но я не слышу пульса ребенка.
«Мне жаль, но Вы не беременны».
Прошел какой-то месяц, но проверять вздумали по нескольку раз, сначала объясняли это тем, что в некоторых случаях «можно понять сразу», потом «что время подошло, но в некоторых случаях нельзя определить и понять», а теперь это будто последний шанс утопающего, но ты уже все знала. Ты знала все, такое чувство с самого начала – ты не ч у в с т в о в а л а, а была уверена, что своего ребенка обязательно почувствуешь. Сердце билось также, а под ним оказалось пусто.
— Можете идти, — голос звучит спокойно, внутри все тоже удивительно спокойно, почти что пугающе.
А если и вовсе детей иметь не можешь, может уже слишком поздно? У детей министров в ее годы уже несколько детей, мальчиков и девочек, некоторые к ее годам успели раздаться в боках, а Воль все также и остается миниатюрной королевой, невысокая, худенькая \некоторые даже завидуют, но ч е м у завидовать в ее жизни?\.
С другой стороны за ней остается шанс прийти с н о в а. А вы, Ваше Величество, очень заняты.
Учитель Нам, беседующий с тобой обо всех политических делах посматривает на тебя с любопытством, когда речь заходит о наследнике престала снова, передавая новости с советов и собраний, рассказывая о том, что происходит в городе и на базарных улочках, где крикливые торговцы раскладывают свой товар, где благородные и не очень \кисэн падки на все блестящее\ дамы разглядывают выставленные отношения, а хозяйка трактира пытается сторговать для себя овощей подешевле. Где у порта, куда причаливают лодки и большие торговые корабли из Японии \а другие японские корабли тем временем умудряются пиратствовать и с ними нет никакого слада\ и империи Мин причаливают к берегу, привозят совершенно особенные ткани, украшения и фарфор \но я точно знаю, что в наших гончарных мастерских создается совершенно замечательная керамика\, а вот собственные торговцы душатся налогами до ужаса, да и конкуренция слишком сильная.
«Я слышал в Японию увезли нашего мастера, Ваше Величество – выкрали. Вернуть – нет никакой возможности».
«Сейчас вопрос о наследнике пока закрыт, умолкли разговоры…»
Взгляд умный, неожиданно кажется через чур плутоватым. Будто намекает на что-то, ты улавливаешь, но игнорируешь .
«Мой муж еще жив. А на совете только и делали, что обсуждали, кто должен наследовать трон, будто он дряхлый старик. В стране и без того не мало проблем, но наши министры предпочитают обсуждать то, что происходит у нас в спальне, словно базарные девки на улице?»
Твой голос в такие моменты звенит каким-то недовольством, неожиданно поднимается и ты допускаешь для себя эмоции, слишком пылко вырывается, теряешь самообладание, вызывая улыбку пожилого человека, который знает в с е.
Нас с вами, Ваше Величество, обучали многому. Двое умных людей, которые возможно однажды сговорились. Или мне только кажется, а правду я никогда не узнаю?
Учитель Нам один из твоих немногих собеседников. А с кем говорить еще? Дама Шин и без того знает все \но может лишь догадываться о главном\, наложницы в гареме до невыносимости болтливы, но запросто с тобой не поговорят, а ты проводишь четкую грань между своим положением и их, потому что выбора увы, нет. Если хочешь оставаться Королевой его н е т.
А вот от слухов избавиться как-то не удалось. Может быть их разносили проворные служанки, которые заправляют постель и относят простыни и одеяла в прачечную во дворце, где те в большом котле длинными палками кипятят, предварительно полощут. Может быть это стайки младших евнухов, которые подслушивают за старшими, которые все знают.
Это может быть кто угодно, но Воль чувствует изменившиеся взгляды. И все бы ничего, если бы к этим взглядам не добавилось более красноречивое – взгляд на живот, будто должно было случиться чудо, в которое хотелось верить. Нет, для чудес видимо нужно еще постараться.
А вы, Ваше Величество все еще заняты…
Даже Соль при вашей очередной встречи за чашкой теплого, ароматного чая, поддерживая подросшего, и норовящего засунуть в рот то палец, то кусочек кураги и имбиря с расписанного тонкими мазками фарфорового блюдца, смотрела на тебя и н а ч е, улыбаясь до невозможности лукаво, а круглое хорошенько личико принцессы так и светилось немыми вопросами.
— Соль, не смотри на меня так, мне хватает этих взглядов от кучи женщин в нашем дворце, — не выдержишь, отставляя чашку с чаем, успевая вовремя выдернуть из мягких пухлых губешек островатый имбирь, от которого будет все жечься. Ук надувается, раздувается словно шарик, повторяет несколько слогов непонятных, из которых можно разобрать только «да-да-да-да», потом переходит на совсем детское лепетание, а потом снова повторяет, смотрит обиженно по-детски на мать, тыча пухленькими пальчиками на отобранный имбирь. — Ничего т а к о г о, не произошло.
— Ук говорит «дай». Но мы не будем ему давать, у него режутся зубки, с ним нет никакого сладу, я думаю я его разбаловала совершенно. А еще я думаю, что ты изменилась, Воль.
Вытрешь губки малыша, который не может смириться с потерей желанного, посмотришь на подругу искоса.
— В какую сторону?
— Стала красивее?
— Куда уже красивее. Ну, хорошо прощаю, — пошутишь, отмахнешься от назойливых, но ужасно ленивых июльских мух, которые умудряются кружить где-то над ухом сонно опускаясь в блюдце с янтарным гречишным медом. Отгоняешь, как и пчел, за которыми тянется ладошка Ука – укусят. — Но если об этом знаешь ты, то слухи… ненавижу слухи.
— Таков дворец. Здесь зачастую не о чем поговорить.
— Я бы предпочла разговаривать о трактатах трех императоров или любовной лирике, о чем угодно, но всех интересует другое.
Соль улыбнется солнечно и понимающе, сожмет теплой \наверное у всех в вашей, именно вашей семье теплые руки. Наверное и у вашей матери они были теплыми\ твою прохладную, оставаясь все такой же уютной и домашней, кажется не изменившись ничуть. Может потому, что вовремя ушла из дворца. Может потому, что никто на нее на наседал лишний раз. А потом маленькая принцесса, «принцесса-крошка», не удержится, подтянется к тебе поближе и совершенным заговорщическим тоном:
— Но ты довольна?
— Чем? – искреннее недоумение, а верхняя губка принцессы задрожит забавно, ямочки очаровательные заиграют на щечках-яблочках. Соль глядит лукаво, склоняя голову к плечу, а тебя заставляя хмуриться.
— Как провела… время. Когда-то я мучила Су, расспрашивая ее о поцелуях, а теперь…
Воль машет на нее рукой, отворачивается резко, когда смысл фразы наконец доходит. А Соль продолжает улыбаться мягко, скажет напоследок:
— Не расстраивайся, если что. С первого раза редко получается. Мы также пытались с мужем, когда ждали Ука.
Воль кивнет рассеянно, зачем-то сама задумывается над тем, насколько приятно ему было целовать любимую девушку. Взгляд грустнеет неожиданно, а сердце сожмется, пропуская удар и предательски тяжелея.
Я бы хотела совсем другую тяжесть под сердцем.
А еще я бы хотела любить, но с каждым днем мне кажется, что я все больше и больше запутываюсь в самом понятии любви.
А лекари твердят все одно и то же.
— Я хочу побыть одна, дама Шин, — звучит холодно-задумчиво, а из покоев, после визитов лекарей удаляются все. Только молчаливо-строгая фигура Сухо, тенью маячит за дверью. Так просто не уйдет, стойко останется стоять на своем.
По крайней мере с тех пор, как он появился в ее жизни стало спокойнее. Или я просто многого не знаю. Того, что происходит з а дверьми.
Поднимешься, оправляя тяжелые многочисленные юбки, подходя к плетки с проворными певчими птицами, в а ш и м и птицами. Они тебя выучили за это время, подойдешь ближе – защебечут громче, подскакивая чуть ближе. Знают – обязательно выпустишь. Эти птицы никогда не улетали далеко, как та же Хвин, порхающая где-то в небесах – оставались рядом, мостились на плечах, а иногда с удовольствием расхаживали по столу, когда ты занята д е л а м и \вдовствующая императрица может сказать, что я ничем не занимаюсь, но ей знать необязательно\.
Ты осторожно прикоснешься к тоненькому острому клюву птички, поцелуешь будто, а она замашет маленькими желтыми крылышками, перепархивая с пальца на плечо. Вечерами, эти птицы заводят дивные трели. Настолько дивные, что из окон разносятся, что случайных людей привлекают – заслушаешься. Пожалуй, птицы твои главные собеседники. Они ничего не выдадут, может быть ничего и не поймут, но выслушают.
Ваше Величество, вам бы посмотреть на них, как вы и хотели когда-то. Но вы, очевидно очень заняты, а в груди поселяется предательское чувство, будто кусочек того неба, которое удалось рассмотреть безвозвратно пропадает за толстыми железными прутьями. Показав небо – не подрезайте крыльев. Иногда я начинала сомневаться в том – была ли и эта ночь правдой или же приснилась мне. Да, вы заняты и я даже знаю чем именно. Но иногда мое одиночество наводит на меня до нельзя странные мысли.
Иногда \в самом начале\ я представляла себе н а ш е г о ребенка. Каким он будет? Каким он вырастет? Как приятно должно быть держать его на с в о и х руках, как приятно должно быть ловить улыбку первую и услышать первое слово. Каким оно будет? Будут ли у нашего сына ваши глаза?... Будет ли он… единственным?
Оправляет одежды, щурится от солнца яркого, крепче сжимая в руках лук. Высокий, вырвавшийся ввысь за какое-то лето так, что его сестра, мешающаяся под руками постоянно встает на цыпочки или опирается на плечи. Мешает. Отвлекает, дует в ухо, вытягивая губы в трубочку. Отмахиваться пытается, а ее это будто только раззадоривает и она продолжает настойчиво играть в только ей понятную игру, отбирая в конце концов стрелы, бессовестно показывая язык.
— Если не познакомишь, то я останусь здесь и продолжу тебе мешать! – Ё Уль сверкает глазами из-под загнутых кверху ресниц.
Чжон, наследный принц, которому не так давно исполнилось четырнадцать, вздохнет до невозможности тягостно для подростка, внезапно ощущая всю тяжесть мира, свалившуюся на плечи в виде старшей из младших сестер. Он пытается сдерживаться, строить серьезное выражение лица, глаза темные же выдают раздражение, а сестра, младше его всего на два года хорошо знает, что не сдержится. В этих темных, ониксовых глазах загорается упрямый огонек. Солнце касается волос – вихрастый, с «двумя затылками». Волосы мягкие, чуть волнистые, к его четырнадцатому дню рождению подростковая угловатость и вовсе прошла.
Чжон замахивается – сестра пролезает под рукой ловко, прокружится на месте так, что фиолетовые юбки пышной волной поднимутся, а рукава напоминают крылья бабочки крупной.
— Не буду я тебя ни с кем знакомить! Я опозорюсь, если себе подобное позволю! Я буду краснеть из-за тебя!
— А я хочу! — категоричное заявление, в глазах не менее упрямый огонек загорится. Два совершенно похожих взгляда. — Он твой новый друг – он очень красивый. Он подал мне руку, когда я упала, а ты сказал, что я неуклюжая медведица!
— Ты неуклюжая медведица – как была так и есть, — звучит суровое, сдвигая брови, хмурясь до нельзя.
Сестра невыносима, слишком привязывается к тебе постоянно и что еще хуже – к твои друзьям. А она девочка, девочка, которой скоро будут подбирать жениха. Впрочем, не так скоро как тебе невесту.
Сестра выросла с тобой, рука об руку, привыкла общаться с теми, с кем и ты. А когда сын одного из ученых окончательно с тобой сдружился, Ё Уль будто окончательно сошла с ума, а все из-за какой-то «поддержки». Все девчонки, д е в у ш к и ужасно глупые, вот что ты думаешь.
— А я знаю на кого ты засматриваешься сам! Я все расскажу, если ты мне не поможешь!
Ты хорошо знаешь, что она никому не рассказывает, Ё Уль не жаловалась на него никогда. В детстве не жаловалась, когда старший брат с утра пораньше подкладывал прямо на подушку забавно квакающих лягушек, мокрых и склизких или же слизняков с деревьев снимал с гусеницами, пугая ее – Ё Уль не рассказывала.
Не рассказала и тогда, когда с другом сумели сбежать из дворца, бегая по прогретым улочкам. Ё Уль видела, но прикрыла. Она вообще-то свой парень, но невыносима все равно.
Ё Уль знает, что Чжон наизусть дорогу до дома министра финансов знает, потому что в том доме живет совершенно необыкновенная девушка. Подсматривать плохо. А она очень красиво смеется, пожалуй. Хмурится сильнее.
— Что расскажешь, солнышко?...Воль, годы не щадят никого и ты не являешься исключением, удерживая руки на плечах младшего сына – худенького удивительно, большеглазого и бледного \твоя бледность\ такого серьезного. Все постоянно хотят развеселить младшего из принцем, вытащить из задумчивой отрешенности, скромный, робкий почти и до невозможности тихий. Глаза-вишни, на этом бледном, но очень симпатичном личики, может показаться, что часто болеет, но это не так. Просто кожа на солнце не загорает совсем, а еще он слишком привязан к своим книжкам и рисункам. Вот и сейчас, сосредоточенно водит кисточкой по бумаге, приложенной к бамбуковой дощечке – он пытается зарисовать то, что видит. Рука еще детская, еще зачастую не твердая, но у него очень красивый почерк, пожалуй лучший и учителя его любят – нрав больно кроткий. Иногда ты беспокоишься излишне – у мальчиков должны быть друзья, а у него только сестра-двойняшка, от которой молчаливо не отходит. У всех твоих детей удивительно густые волосы, только разные. У Чжона кудрявятся слегка, у Ё Уль прямые, гладкие, поблескивающие. У двойняшек обоих мягкие тоже, шелковистые больно, чуть тоньше и легче, чем у старших будто.
Чжон поцелует руки обе, а Ё Уль поспешно прикусит язык, лучезарно улыбаясь – они вечно спорят не переставая, слишком близки по возрасту и по характеру тоже, впрочем. Чжон погладит младшего брата по голове, тот улыбнется снова будто застенчиво, продолжит рисовать, старший поинтересуется: «Что там, Ён?», а младший не отвечает \некоторые все спрашивают постоянно умеет ли ваш младший г о в о р и т ь, но на самом деле умеет, просто не любит, зато память потрясающая\. А Чжон с самого детства жить без лошадей не может, в свое время ты боялась безумно – а вдруг упадет. Сломанные кости не научились сращивать, а ведь в любом другом случае – останется хромым. Но Чжон не остался, приобрел осанку, блеск в глазах залихватский.
— Да ничего такого! Братец сказал, что познакомит меня со своим другом. Вы наверняка слышали — сын ученого Чхве!
Чжон метнет в сестру возмущенный взгляд, покажет кулак из-за спины достаточно крепко сжатый, а маленькая плутовка пожмет плечами.
Обе твои дочери растут удивительно смелыми, удивительно активными. Только Ё Уль опаляет, а Ён Э скорее согревает, постоянно брата за руку держит, защищая от слишком активных старших. Эти двойняшки, совершенно неожиданные, вечно продолжают фразы друг друга, будто мысли угадывают. Чудеса.
— Ничего я тебе…
— Матушка, вы слышали о Ким Со…
— Учитель сказал, что я делаю успехи в стрельбе! – прерывает сестру порывисто, краснеет отчего-то, а ты догадываешься и сама от чего именно. — И да-да, я хотел, чтобы они нашли общий язык… Хотя с ней не сладишь… - под нос бурчит.
Он хмурится совсем как вы. Он улыбается совсем как вы. У него даже тон голоса совершенно такой же, будто смотришь на отражение в зеркале, но с небольшими мазками своевольными и собственными.
— В стрельбе ты итак постоянно успевал, а вот с уроков философии тебе стоит перестать сбегать, не маленький уже, — журишь, Чжон поджимает губы упрямо, считая философию чуть ли не бесполезной и скучнейшей в мире. Не хочет обещать, не обещает. — Ваше Высочество, или Вы хотите, чтобы на следующую охоту все поехали без вас, а вы занимались трактовкой «Искусства войны» дальше?
Чжон мотнет головой – в нем хорошо и складно все, так уж получилось. Так уж получилось, что ты дался нелегко сынок, а вырос таким прекрасным, пожалуй намного прекраснее, чем я когда-нибудь представляла. Я помню твои первые шаги, улыбки, слова, заявления. Я помню, как держала тебя на руках, а сейчас ты можешь сам подхватить на руки своих младших, горячо любимых \я до сих пор помню, как вы с сестрой спорили, кто должен родиться, а в итоге угодили вам… обоим\, а в воздухе будет переливаться всеми цветами радуги смех переливчатый Ён Э, которая обожает старшего брата и привязана к младшему.
Я помню, как когда наш первый сын был еще ребенком, бессовестно отрывался от рук евнухов и слуг, открывал с потугой тяжелую дверь главного дворца, пробираясь любопытным носом в щель, ударяясь о спины министров и чиновников, когда внутри оказывался. И ведь знал, что нельзя отвлекать, что есть правила, а все равно пробирался, заставляя приставленных к нему бледнеть от ужаса и извиняться: «Мы заслуживаем смерти, Ваше Величество!». А Чжон смотрел с хитрецой в глазах, несся вперед только завидев и звонкое, совсем не для дворца: «Паапаа» разносилось по сводам величественным. Раскидывал руки, отвлекал, бессовестно снова забираясь на колени – невозможный наследный принц, которого тогда наследным и не объявляли, а он и не знал что это толком такое. Ловить лягушек и целовать лошадей в нос, сидеть на плечах – нравилось больше.
Хмуришься – хмурится в ответ. Грозишь пальцем – грозит пальцем себе сам. Говоришь, что нужно уходишь, что дела, что не хорошо, так не должно, но улыбается слишком обезоруживающе – сладу не было, благо исправился чуть позже.
Чжон. Болтающий ногами на троне, смеющимися глазенками такими отцовскими, сейчас посерьезневшими правда, а тогда вечно с каким-то плутовским выражением. Повторяющим «паа-паа», будто первое слово которое выучил и никак не мог забыть.
«Вы должны называть своего отца, Ваше Величество – давайте, повторяйте. Ваше. Величество».
«Папа».
«Ну, Ваше Высочество – не упрямьтесь вы так, так нельзя. Давайте снова. Ваааше. Величество».
«Пааапа».
Кивая головой, будто очень внимательно евнуха Чона слушает, а лепечет свое. Евнух бледнел, принц надувал щеки тем временем.
С возрастом все же научился.— Промазал!
— Это ты виновата!
— Ён, так красиво вышла бабочка, подари мне рисунок!
— Там отец…
Голос младшего, тихий, мелодично-твердый, соединяется с сестринским \снова одновременно говорят\ прерывает все эти цветущие голоса юности, которая у нас отцвела, а у них еще все впереди.
Они привыкли вас обступать – старшие уже более сдержанно, но улыбаясь довольно. Младшие без зазрения совести под руки, чтобы по голове погладили.
— Мы ведь поедем охотиться?
— А мне сошьют новое платье. Из тех тканей, которые привезли купцы, непременно из них!
— А Ён нарисовал…
—… бабочку.Я ни о чем не жалею. Восемь лет ожидания, стоили того, чтобы шагнуть и оказаться здесь. Это лучше любой мечты и любых представлений. А когда-то это казалось чем-то… из сна. Быть может я сплю?
Нет-нет, ладошка Ёна была слишком теплой, а Чжон хмурится одновременно с вами все еще. Старые привычки.
Нет, у нашего сына ваши глаза.
Воль рассматривает книги бухгалтерские, хмурит брови с н о в а, устало потирая переносицу двумя пальцами – это становится действительно невыносимым и ничего не меняется. Растраты слишком большие, а ведь содержание внутреннего двора не требует таких финансов. Если убавить количество закусок, зарплату наложниц и траты на церемонии и приборы, то казну удастся пополнить в два, а то и три раза. Этим распоряжаешься не ты, Воль и это, безумие, но Её Величество все еще владеет печатью. А ты не можешь. Птица доверчиво сядет на руку с кистью, которой водишь по бумаге. Птичка не слетает, наоборот остается неподвижной, «ездит» вместо с рукой по бумаге – не прогоняешь.
Письмо от пары мастеров, которых удалось найти и уговорить помочь. Хорошо, если детям удастся научиться у них. Заниматься всем этим практически в одиночку – невозможно, слишком трудно и голова идет кругом, к тому же пока все идет под эгидой секретности, а это тебя занимает от совершенно и н ы х мыслей. Забыть бы, но не должна. Четвертое условие. О чем ты думаешь? О растратах. У вас очень нежные губы были. О чем ты думаешь? Конечно же о письмах и жалобах наложниц. Да-да и ни о чем л и ш н е м.
Громкое, возвестительное: «Ваше, Величество!», в котором узнаешь голос евнуха Чона, чувствуешь его походку семенящую. Сердце встрепенется, глупое, птица вспорхнет, самостоятельно к л е т к у свою отыщет, усаживаясь на жердочке с соседом.
— Его Величество хочет… меня видеть?
Вы хотите меня видеть с н о в а? Как тогда? Я глупенькой вам кажусь, наверное, я наивная до ужаса. Я жду. Я быть может слишком долго ждала, а надежда похожа на сорняк – очень трудно вытравить, увы.
— Его Величество…
Удар. Взгляд внимательный, пристальный, буравящий макушку евнуха.
—… желает выпить с вами чаю.
Удар. Разбиваешься. Пытаешься сохранить самообладание. Нет-нет, я ни капли не разочарована, ей богу.
— Чаю… Конечно. В такую погоду хорошо пить чай вечерами. Чай. Я приду.
«Что же вы еще можете хоть, если не ч а й».
Руки спрятаны под тканью нагрудной, с кругом золотым в центре. Зайдешь, поклонишься легко, пропуская улыбку губами, едва-едва, на кончиках. Ловишь носом аромат чая, понимаешь окончательно, что это действительно приглашение, но совсем не четвертое условие, что-то и н о е. Что-то, что уже проходили. Впрочем, этого не хватает тоже. Изящно, двумя руками, не обнажая рук возьмешь чашку, отпивая. Сколько времени прошло, Ваше Величество? Но, по крайней мере вы захотели меня увидеть. И это к лучшему.
— Приятно снова увидеть вас и… в добром здравии к тому же, — мягко прозвучит, отставишь чай. Приятный вкус.
Вы в хорошем расположении духа, вы очевидно хорошо себя чувствуете, вы были заняты, я тоже, но вы, в отличие от меня наверное не думали… это я склонна вспоминать, верно? Это я склонна ворочаться ночами, сжимать одеяло, пить собственный чай из хризантем, который не помогает, мучиться от бессонницы, разгуливать по саду, страдать головной болью по первости и мучиться от воспоминаний достаточно сладостных, для того чтобы не заснуть вовсе.
— Я слышала новый закон удалось… продвинуть. Я могу вас поздравить? Это наверняка было нелегко.
Нелегко говорить обо всем этом, когда в голове совершенно лишние мысли потоком скребутся.
— У Ука через несколько месяцев праздник, Соль готовится заранее, так переживает. Вам стоит задуматься над подарком. Ох, а знаете его первое слово? – подберешься, улыбнешься открыто, тепло, чуть нахмуришь брови, вспоминая забавное выражение лица его племянника. — «Дай». Я думаю, он вырастет прекрасным, — смеясь, отвлекаясь.
«Я думаю, вы бы могли позвать меня и раньше».
Непринужденность, которой когда-то между вами не было и быть не могло – не можешь позволить этому чувству потеряться, отдаешься этому чувству почти в полной мере. Почти.
Рука с чашкой застывает в воздухе, когда слышишь следующую фразу, улыбка застывает на лице чисто по инерции, не успевает сползти. И не сказать, что неожиданность, но замираешь, взгляд проскользит по чашке, по чаю, снова с его глазами встретишься. Улыбку удержишь, а сердце затрепещет птицей, как обычно пойманной. Будет ли этому конец?
— Вы не первый, кто говорит мне об этом за это время, — кивнешь головой, брови изогнутся, в глазах мелькнет огонек и растворится в былой безмятежности. Почему не уточнить, кто тебе это говорил. Скажи, что это Соль или наставник Нам, которому глубоко за 60. А услышать это от Вас приятно, улыбка по неволе шире становится, но уточнять ничего не станешь. Женщина проснулась? Как глупо Воль. Сама же знаешь… что… ничего этим не добьешься. — Мне приятно знать, что за это время я стала только лучше. В ваших глазах.
Пожалуй, что я красивая женщина мне удалось… убедиться. Или не совсем? Привлекательная, но не настолько, чтобы позвать снова? И все равно улыбаешься.
А потом закашливаешься судорожно, на вопросе про сон. До нельзя неловко, когда еще несколько минут назад думала о своем режиме сна, проклиная женскую натуру и свои эмоции, чувства и память. Отставишь чашку, в глаза посмотришь внимательно, изучающе будто. Поймаешь взгляд, слишком красноречивый \научилась я что-то читать в ваших глазах, начала вас читать\, который по животу скользнет.
«Нет, Ваше Величество, он все такой же плоский. Я все еще не беременна. Не смотрите так. Когда так делали все вокруг – пускай, но вы… Это то, чего я тоже хочу, но здесь чуда недостаточно».
Бровь дернется, когда кашлять прекратит, взгляд останется прямым, впрочем.
— Нет, Ваше Величество я… плохо сплю.
Я плохо сплю с некоторых пор, как бы не занимала себя.
Я плохо сплю без вас.
Мне нужно сказать прямо?
Я чувствую себя двояко – хорошо и отвратительно.
Разве мой взгляд не говорящий т о ж е?
— А вы, очевидно неплохо спите так?
«Лучше, чем я».
Услышишь про предприятие, о котором помнит. Приятно. Вы и правда помните. А потом облачко удрученности скользнет по лицу. Твой… отец. Отец, который жив, который остался с некоторых пор один и все, что ты знаешь – это где он теперь. И то от учителя Нама, поддерживающего с ним связь.
— Ваше Величество… вы хотите вернуть отца в столицу?
Не во дворец, но ближе к дворцу. А если он не согласится? Если столица опостылела. А я бы хотела, чтобы он был здесь. — Если я правильно понимаю, то вы хотите, чтобы он помог нам со всем, что мы затеяли. А вы… уверены?
В свое время вы не особенно хотели общаться с моей семьей, в отце наверняка видели того, кто согласился на все, чтобы вес приобрести в обществе, перевес силы.
— В таком деле вам нужен тот… кому вы доверяете. Как бы мне не хотелось, чтобы отец вернулся… Вы ведь хорошо подумали? Если да, то я напишу ему письмо. Если он ответит согласием, то я думаю можно… поехать к нему. Если вы не против – личная встреча и правда… так будет лучше. И я попытаюсь его уговорить.
Я отца не видела столько времени, что не знаю сдержу ли слезы. Отца знали многие, уважали многие. Вернем отца – уговорим половину бывших ученых, выразивших протест его уходом и ушедших в отставку вернуться на свои места. Остается понять согласится ли он. Сам.
Воль поднимется, юбки оправит, взглядом покои обведем.
— Ваше Величество, а разве рабочий стол не нужно содержать в порядке? – что бы снова чем-то себя занять и не замолкать сейчас, потому что мысли снова не о том.
Бумагами и книгами завален так, что сомневаюсь, что вас за этой горой можно вообще разглядеть. Вы определенно были очень заняты. — Говорят, что такой же беспорядок будет в мыслях.
В стопку сложишь, зашуршит бумага податливая в руках. Книги в стопку ровную, выдыхаешь удовлетворенно, а потом взгляд случайно на заколку упадет. Птицы золотые. Та самая, потерянная еще в безумстве той самой н о ч и. Нашли. У меня есть привычка такое чувство терять украшения.
— О, а я думала, где я ее потеряла… Почему вы раньше ее не отдали? Забыли, наверное… — с улыбкой легкой. — Я ее заберу, все же. Она ведь моя. Надеть не хотите? Это же ваш подарок. Мне.
Я не флиртую, я не думаю, что умею, пусть фальшивую улыбку научилась надевать, пусть научилась холодно разговаривать. Нет, я не флиртую. Что же я делаю… сама же застываю, словно соляной столб, когда касаетесь. А в этом касании… нет ничего такого. Как обычно.
— Спасибо, — выдохнешь. — Если вы больше ничего не хотите… — пауза недолгая, чтобы не стала многозначительной через чур. —… то я пойду. Отдыхайте Ваше Величество.
Я не знаю почему уходя улыбаюсь. Потому что вспомнили обо мне? Потому что отца хотите вернуть? Потому что заколку надели? Не знаю но мне неожиданно хочется… танцевать.
Поделиться122018-02-06 19:23:04
— Дама Шин, там ведь полнолуние?
— Да, Ваше Величество.
Ветерок гуляет по пустоте тронного зала. Колонны, днем освещаемые солнцем насыщенного винного оттенка при свете лунного света становятся призрачно-темными. Ночью все выглядит как-то иначе. Тронный зал кажется больше обычного, слишком пустой и слишком покрытый налетом тишины. Ночью здесь не слышно голосов разношерстных чиновников, возмущений и споров. Никто не бросается к подножию трона с просьбой о помиловании и не слышно этого тошнотворного: «Одумайтесь, Ваше Величество!». Вместо этого девственная тишина, а в конце зала на возвышении трон с шелковыми подушками поверх и резной спинкой.
Воль накидывает на голову белоснежную накидку на голову, закрываясь покрывалом этим легким, будто облаком, надежно скрываясь, усмехаясь самой себе и своей совершенно детской шалости. Шуршит тихонько белая юбка за тобой следом, нос щекочет запах вереска и меда, которыми пахнет шелковая вуаль. Еще ближе, еще пару шагов в место, куда просто так тебе нельзя – трон не для тебя. Приглядываешься к нему, поднимаясь к самому возвышению по ступенькам, которые предательски поскрипывают под ногами в шелковых туфельках легких.
— Нет, Ваше Величество… пожалуй, это действительно самый неудобный стул из всех возможных, — улыбнешься грустно, покачивая головой, еле различимым шепотом прошепчешь.
Трепещет белоснежная ткань накидки, подхватывает ветер-шаловливый и более плотную ткань платья. На лунных косых дорожках, отбрасываемых из широких оконных проемов витают пылинки, серебрятся в этом свете. Лунные ночи всегда были особенными. Где-то за стенами величественного главного дворца слышится гулкий стук сапог – ночная охрана. Мелькают за окнами фонари, прицепленные к длинным деревянным палкам, которые несут несколько придворных дам – дворец, такое чувство не имеет привычки засыпать. А ты будто вспомнила о собственной привычке, о собственной невозможности заснуть в л у н н у ю ночь. Остаешься на возвышении, привставая неожиданно легко на носки, плечами поводя, растворяясь в тишине и сумраке этого зала, который нарекают священным и в который тебе так удачно удалось пробраться незамеченной.
Это странное состояние, давно забытое, но вновь воскрешенное, а воскресили его, В ы. Я обещала когда-то, что танцевать никогда больше не буду, я была уверена, что душа забудет и о полете и о певучести, а вот сейчас… это просто маленькая шалость, это просто лишняя возможность почувствовать себя Сон Воль.
Юбка белым мягким облаком опустится вслед за тобой, как и накидка, которая слегка съезжает с головы, пока безумно плавно прокружишься, присядешь, будто в поклоне, будто наклоняясь за цветком или платком, который уронила будто бы невзначай. До этого ты ощущала себя потяжелевшей, а сейчас все же можешь порхать, скользить грациозно и до невозможно и з я щ н о. Вон однажды возмутился, когда услышал: «Вы бы были лучшей кисэн, если бы танцевали так» от женщины, что учила ее танцевать \и в этом деле ей определенно не было равных\. Но что-то мимолетное все же изменилось, появилось в движениях что-то и н о е. Будто слеза бирюзовой каплей застыла где-то, легкость есть, но не та, поддернутая чем-то неясным. Беспечности стало меньше, ей на замену пришла какая-то томительная женственность, которой не могло быть у той девочки, что тоже танцевала под луной. И эта девочка действительно уже никогда не вернется. Не возвращай, время прошло.
Свечи на высоком подсвечнике многочисленные задрожат от очередного порыва ветерка, доносящегося из-за приоткрытой двери. А ты подрагиваешь, словно то же свечное пламя, пританцовываешь наподобие этого свечного огонька, пальцами длинными дотрагиваясь до воздуха. Перед глазами мелькают все те же высокие колонны, вазы искусной работы по углам фарфоровые. Если голову поднять, подхватывая спавшую на плечи длинную накидку, то увидишь дракона золотого – всегда над троном. Королей называют драконами, драконы всегда изображаются на королевских одеждах, запечатанные в круг \чтобы не улизнули, очевидно\. Дракон мелькает этим расплавленным золотом в глазах. Ты удерживаешь накидку в руках, покрывало легкое, газовое, достающее до самого края платья. Покрывало подкидываешь вверх, успеваешь поймать, чувствуя, как оно касается лица, как накрывает будто первый снег. Длинные рукава непослушные, снова напоминают крылья бабочки, но которая уже не полетит к огню. Которая уже давно сама в огне летает. По плечам все еще змейками прикосновения, которые не забудешь так просто, которые воскресают с каждой такой ночью – обнимешь себя за плечи, паря в этой лунно-пьяной летней ночи, покачиваясь снова, будто вот-вот упадешь.
Первая ступенька вниз – шаг легкий. Еще ниже спускаешься, не забывая при этом разворачиваться то и дело.
В груди томится что-то, ожидание чего-то. Я думала, что танцевать во дворце невыносимо. Может быть и так, но пока никто не видит, если душа требует этого танца – почему… не попробовать? Почему не дать себе такого шанса? Сладко-томительно расправляя руки, поднимая их к верху, напоминая какой-то белый зимний ветер, голубку в распахнутые окна залетевшую.
Это ничего не значит. Никто ведь не смотрит. Не смотрит, как руки протягиваешь, а стены постепенно растворяются, оставляя вместо себя дом богатый, праздник летний \кстати, наверняка в столице снова будут праздновать, как и т о г д а\ и разноцветные юбки девушек разноцветные. Ленты парящие в воздухе. Думала, что за это время тело забудет все движения, но вместе с тем, как тело узнало о прикосновениях оно вспомнило в с е, приобретая для себя нечто неуловимое, с чувственностью, пробегающей по кончикам пальцев.
Я действительно забылась и забыла о том, что в главный дворец знающие люди могут попадать и через другие входы. Я действительно не ожидала, что кто-то может увидеть, опьяненная этой ночью точно также, как и той, что была месяц назад. В собственном забытьи, находясь в противоположном конце зала, развернешься, придерживая рукой вуаль \мне не хотелось, чтобы кто-то не дай боже узнал, но так хотелось выскользнуть из собственного душного дворца и на несколько мгновений птицей стать\. Далеко, но силуэт узнаешь, сама напоминая то ли призрака, то ли видение. Глаза раскроются от удивления, со взглядом встречаясь далеким, но даже отдаленно узнаешь – в отличие от тебя ему нет смысла скрываться. Ты опомнишься быстро, спустя несколько мгновений этого взаимного погружения во взгляд с растопленными в нем звездами и отблесками горящих свечей. Ты поспешно накинешь эту белую накидку на голову, закрываясь окончательно.
Я действительно хотела оставить это за собой и еще… это слишком неожиданно, нельзя так, сердце выпрыгивает и не могу понять почему, потому что могли меня видеть, потому что возможно наблюдали, потому что узнать могли или просто… потому что это, увы, вы. Я бы с удовольствием напугала своим видом королеву, которая падка до суеверий и не брезгует шаманками и так называемой черной магией своим видом. Но вас… так удивлять не планировала.
Дернешься – он за тобой. Несколько шагов вперед, прежде чем остановиться – нужно успеть до двери раскрытой добежать.
Кто я?
Вы знаете ответ на этот вопрос.
Если узнаете меня – остановлюсь.
Назовите мое имя, скажите мне кто я – я остановлюсь, дам догнать себя, дам в лицо заглянуть без накидки, без вуали и все расскажу.
Но вы ведь… не узнаете, подумать об этом не можете, поэтому все лучше оставить так, как есть и не путать лишний раз.
И может быть мне сейчас лучше превратиться в сон или то же видение, ночной сладкий бред, лучше изящно и будто бы беспечно проскользить чуть дальше, не давая приблизиться достаточно, чтобы вуаль и накидки не спасали, оказываться где-то рядом, напоминая сонный флёр. Может быть лучше изобразить, что не боюсь вовсе, спокойно кружась где-то рядом, но сохраняя расстояние необходимое для собственной безопасности. Танцуя, полностью этой накидкой белой скрытая, танцуя где-то рядом.
Воль за колонну, слышит шаги – за другую. В какой-то момент становится все слишком опасным, в какой-то момент чувствует, как край накидки пробороздит по пальцам. Ты кажешься ненастоящей в этих странных прятках, не отзываясь на голос настойчивый, удачно ускользая в лунном свете, а сердце трепещет при этом. Глупое, невыносимо глупое сердце.
Я убегаю, ускользаю в каком-то странном танце, не давая поймать, не давая узнать, предпочитая оставаться сном. Сны должны оставаться снами, я напугана почти… я бы хотела, чтобы вы меня узнали, но не узнаете. Не можете предположить, что такая как я может танцевать вот так в зале, куда ей определенно нельзя? Или просто не видите во мне в королевских одеждах, в своей жене что-то и н о е, вот такое легкое, похожее на серебряную паутинку.
Брови дернутся под белой накидкой, укутывающей с головы до ног – я позаботилась о том, чтобы скрыться, губы поджимаются. Между колоннами танец, все дальше и дальше, выигрывая свою игру в прятки, выигрывая эту погоню друг за другом. Двери тяжелые приоткроются приветливо, а ты выдыхаешь рвано, прежде чем поспешить п р о ч ь и быстрее – на площади около Главного дворца прятаться уже негде. Из темноты выплывет фигура Сухо, который от тебя привычно не отходит, пока не скажешь, что так надо. Если бы кого-то увидел идущем в сторону дворца – предупредил бы, а вы, Ваше Величество зашли с другой стороны, а я упустила из виду эту возможность.
Что-то в спину подгоняет, что гонит быстрее. По дороге накидку с головы скидываешь, по дороге снимаешь вуаль с лица, вдыхая запахи ночные, шебурша юбками по дорожками, прибавляя шаг, спотыкаясь о какой-то камень случайный.
Остановишься только тогда, когда оказываешься на женской половине, около своего дворца, руки к груди прикладывая. Никто вроде бы не гонится. Поверили ли вы в невозможность происходящего?
— И почему вам постоянно не спится по ночам? Я думала со сном у вас, в отличие от меня проблем нет! – в сердцах, смахивая прядки волос непослушных с лица, выдыхая, стараясь дыхание унять – не получается. И все из-за сердца, которое успокоится никак не хочет. — Вот ведь. Интересно, что бы сделали, когда узнали? Наверное, сказали бы, что я очень привлекательно танцую. И с чего я взяла, что это должно что-то значить? Может Вы бы разочаровались. Не интересно, если это ваша жена, верно? — отпинывая из под ноги камень, о который снова спотыкается в сердцах.
На что ты злишься? Почему ты вообще злишься, если не случилось ни-че-го? Именно поэтому и злишься? Или жадной становишься, потому что хочется хотя бы раз такой же взгляд поймать только при свете дня, только себе, только на свое лицо, а не на лицо призрачной безымянной девушки?
Кажется, Воль, тебя слышат только птицы.
Дама Шин встретит вопросительным взглядом, пока пройдешь в свои покои, а накидка летит куда-то в угол.
— Ваше Величество, что-то случилось?
— Не случилось. И не могу понять это хорошо или меня это раздражает, — отвечаешь резко и отрывисто, усаживаясь на пол, встряхивая волосами.
— Кто-то вас видел? Узнал?
— Не знаю. Вроде бы видел, но меня ли видел? Или кого-то другого, кого напомнила? А узнать не узнал.
— Смею предположить, что… в таком виде трудно узнать Вас. Вы очень постарались, чтобы этого не случилось, Ваше Величество.
Воль бросит недовольный взгляд на извечно рациональные размышления дамы Шин, отворачиваясь.
Странная ночь. Сама не поняла – не оказалось ли это всего лишь сном, в который сама себя погрузила.
— Спокойной ночи, Ваше… Величество. Спокойной ночи, Сон. Простите, что ввела в замешательство.
Если бы я только знала… я бы не убежала и мы бы узнали обо всем раньше. Но, быть может, так даже лучше, разве не так? Потому что в будущем… вы бы могли полюбить меня не за события из прошлого, а просто за то… что это я. Я ничего не понимаю. Пора спать.
Воль смахнет волосы со лба, пока будет разбираться с седлом тяжелым, которое тянет к земле. Расседлывать лошадь на самом деле совершенно не обязана, но тебе захотелось и теперь только понимать начинаешь насколько же у тебя слабые руки. Чьи-то сильные руки перехватят, спокойно опуская седло, а ты вскинешься.
— Ён! – прозвучит удивительно радостно для тебя, лицо в улыбке плывет, отряхиваешь поспешно руки.
Откуда-то сбоку вынырнет любопытствующее лицо Суна, взгляд лукавый по лицу скользнет. Обычно принято, если встречаешься – глаза опускать. Смотреть в лицо женам короля нельзя. Как и мне ездить верхом – это не положено также. Они оба выше тебя на голову, ты между ними смотришься совершенным ребенком. Во дворце ушей лишних очень много, но вокруг вроде бы никого. Кто-то может распустить слух об и з м е н е, как бы абсурдно он не звучал. А королева, даже удалившись в паломничество на самом деле никогда не сдавалась. И все хорошо об этом знают.
— Ваше Величество, мне все же кажется, что я единственный здесь, кто может оценить вашу красоту. И как мне кажется, вы одна из самых красивых женщин, которых мне удалось видеть, — пока идете по нагретой солнцем тропинке прочь от конюшен.
— Сун, вот мне интересно, вы говорите так потому, что я королева или действительно так считаете. Не льстите? — лукаво усмехнешься, получишь лукавую усмешку в ответ.
— Ну, я ведь сказал «одна из». А значит, не преувеличил.
Воль хохотнет в кулачок, сдержанно, потому что не пристало смеяться в голос. И вдруг интересно становится. Когда-то вас тоже было трое. Вы, Ваше Величество, Ён и Су. Наверное, вы были хорошими друзьями. Наверное хорошо иметь таких д р у з е й. Наверное я кажусь в этой компании немного лишней, но мне н р а в и т с я.
Ён вздохнет тяжело, после очередного весьма изысканного комплимента, а Сун в какой-то момент времени выдаст:
— Хотя, может я очень рискую. И кому-то все это не понравится.
— Почему? – совершенно искренний вопрос, а тот улыбнется улыбкой лисьей, голову к плечу склоняя и поглядывая на нее слегка прищуренным взглядом.
— Потому что вы замужем. А не понравится… а вы действительно плохо мужчин знаете.
«Заканчивай», послышится серьезное сзади, голос Ёну принадлежит очевидно. Воль поравняется, совсем низенькая по сравнению с ним. Ён, пожалуй, в свое время я была благодарна тебе больше всех.
— Жаль, что теперь мы будем видеться реже. Я даже думаю, что мне будет вас не хватать. Кто будет играть со мной в бадук? Вы были первым человеком здесь, кто заставил меня улыбнуться.
— Он-то? – Сун встревает, недоверчиво поглядывает снизу вверх.
— Да, вы процитировали следом за мной стихотворение. Я так обрадовалась, что разулыбалась.
— «Молчание любви».
— Вы помните! – совершенно искренне вырвется, почти что восхищенно, во все глаза смотришь. Есть у тебя привычка смущать своей искренностью. Ему ты доверяешь.
Рассмеешься очередной шутке, не заметишь как тень на лицо упадет. Собственно к Вам, Ваше Величество я и шла. Собственно я немного забылась, но это ведь не страшно? Мне удивительно просто общаться с ними, но совсем не так с вами. Потому что с вами все иначе, потому что с вами… Я вру, меня ведь не устроит теперь роль простого друга днем. Улыбка стягивается немного, но все равно остается приветливой, в голове невольно вспыхивает ночи лунные, в одной из которых сгорала под губами требовательными и другая, в которой белоснежным облаком ускользала из рук. Передернешь плечами.
Да, пожалуй узнать меня… у вас не было никакой возможности, верно? И сейчас я снова ваша… жена, к которой вы привязаны, которую вы уважаете и… у которой привлекательные плечи. И почему я продолжаю злиться? Что со мной?
— А они быстро ушли… — смотрит вслед юношам, развернется к нему. — Я хотела сказать еще утром, но вы были заняты, поэтому не было возможности, решила сходить в конюшню сама. Мне не привыкать. Я получила письмо от отца, Ваше Величество. И он нас ждет.
Ласточки носились над землей слишком низко, выкрикивая что-то свое, будто предупреждая о чем-то. Воль остановится, вглядываясь в пока безоблачное и спокойное небо, с легкими, бегущими по нему облаками, похожими на оторванные кусочки хлопка. Слишком быстро бегут по небу.
— Наверное, дождь пойдет. Птицы слишком низко над землей. Стоит поторопиться, Ваше Величество. Через лес должно быть быстрее, — обращаешься к нему, лошади фыркают, будто в подтверждение твоих слов.
До монастыря Хэинса можно было бы добраться к ночи, если нигде не останавливаться, но у погоды были свои коррективы на этот счет. Верхушки деревьев виднеются уже перед самым носом, за ними синеют горы, если обернешься назад туда, где скрывались загнутые к верху уголками резными крыши домов аристократов и соломенные крыши крестьянских построек, туда где сиял своим великолепием д в о р е ц – небо совсем темное, наверное там дождь уже шел. Где-то совсем далеко слышатся отдаленные раскаты грома, глухие и тревожные, будто рычание разбуженной собаки в конуре. Воль передергивает плечами, ускоряя шаг.
Духота и напряжение жаркого дня нарастали. Стали появляться тучи, они быстро неслись по небу черные и серые, лохматые и страшные. Черное облако быстро перекрыло сияющее до этого солнце и стало гораздо темнее. Что-то зловещее чувствовалось в воздухе.
Темнеющее грозовое небо давит на голову. Ветер, гуляющий по кронам деревьев, теперь спускается к самой земле, прижимает к ней травы. Хлестко накрапывает зачинающийся дождь, грозящий перерасти в настоящий ливень. Испуганно, где-то на ветке крикнет птица, затихнет мгновенно. Гулкими ударами от земли к небу - стук, нарастающий, отдающийся в ушах. Звучно и раскатисто поднимается к самому небу, и опускается стремительно обратно на землю.
Испуганно взбрыкивает лошадь, с которой придется, наконец, спрыгнуть – ехать верхом дальше как минимум не безопасно. Кобылка пошевелит ушами, заводя последние назад, ржет как-то предупредительно, упираясь и с большими усилиями и уговорами разрешая повести себя дальше.
Воль поднимает голову к небу, с каким-то отчаяньем всматриваясь в уже пугающую черноту стремительно расползающуюся над головой. Ты никогда не боялась грозы, а сейчас отчего сердце так тяжело и испуганно бьется? Не успеете.
В лесу бурелома слишком много, на макушку, сквозь ветки деревьев успевает попасть несколько капель, ускоряешь шаг еще – не обогнать.
— Может стоит где-то переждать? — обернется, поводья сжимая крепче в ладони. — Не похоже, что все на этом закончится! Это похоже на бурю, Ваше Величество! Время года такое, в этом месяце постоянно идут дожди…
Животные не любят грозы, всегда их пугаются, топчутся на месте неизменно, становятся нервными, будто чужими.
«Только где?».
Стоит смотреть под ноги, Воль. С очередным приближающимся будто из неоткуда громовым раскатом, нога как-то совершенно неловко подворачивается, заставляя потерять равновесие. Здесь – местность холмистая, с постоянными подъемами и спусками, подчас слишком крутыми. И лес прячет в себе слишком много ловушек в виде оврагов и слишком крутых склонов, по которому ты и так неудачно п а д а е ш ь вниз. Слишком торопилась, все с л и ш к о м неосторожно происходит. Успеваешь только испуганно вскрикнуть, собирая на одежду и волосы палые листья, чувствуя носом запах чуть влажной от первых капель дождя земли, коры деревьев, бороздя плечами по ней же, скатываясь и перекатываясь, пытаясь ладонями ухватиться ходя бы за что-нибудь, замедлить падение в н и з.
«Будь ты беременна твоя оплошность стоила бы тебе в с е г о». А так… максимум пара ссадин или синяков – не больше».
Откуда-то сверху послышится голос. «Ваш голос». Вы, наверное, пожалели обо всем, когда взяли меня с собой, но отца уговорить без меня не выйдет и вы чертовски правы, когда говорили о том, что я хочу его увидеть. О, да, Ваше Величество, я очень хочу его увидеть, а сейчас кажется вся жизнь мелькнула перед глазами снова, когда больно ударяешься затылком о какой-то поваленный ветром сук. Щелкает что-то в голове, отключая на мгновение сознание, чернота мелькнет перед глазами, а потом рассеется, чувствуя настойчивое над ухом с в о е имя. Кто-то потряхивает за плечи \насколько я отключилась? Показалось, что совсем ненадолго, а вы меня успели из оврага в ы т а щ и т ь\. Воль тихонько мотнет головой, почувствует как жжет где-то на боку, неприятно пробороздившем землю \хорошо, что в лесу так много листьев и травы и земля мягкая – не так страшно\.
Потерять меня – на самом деле легко, Ваше Величество. Потерять меня – сущий пустяк, даже несмотря на то, что всегда была рядом. Секунда – вне поле зрения. Секунда – какая-то ошибка – полетишь куда-то вниз, в какой-нибудь овраг.
Глаза открываются, веки поднимутся, посмотрит на его лицо – близко совсем. Ресницы почти что щекочут, затрепетав, руки за шеей сцепленные. Выдохнешь, вдохнешь снова, как-то отдаленно ощущая всю ту грозу, которая обещает скоро разрастись в б у р ю. Наверное, сейчас на море шторм. Такой же шторм где-то в душе разрастается, а в сознании, которое видимо еще не совсем пришло в себя, появляется шторм точно такой же с н о в а. И хочется, хочется прямо сейчас и так неуместно прикоснуться легко к щеке мягко и чтобы непременно прямо сейчас.
У всех свои желания.
Прикрывая глаза вновь, подчиняешься совершенно некстати этому порыву, просто легонько прижимаясь, будто еще находясь без сознания \а быть может это и так, я все еще точно не знаю, Ваше Величество\, едва-едва касаясь щеки все еще теплыми губами, вобравшими в себя запах леса. Это то самое прикосновение, которое почти и не ощущаешь, но от которого мурашки по всему телу проносятся стайками, которое хочется повторить, продлить. Глубже, ближе, пользуясь тем, что у п а л а, не отвечая ни на что, выдыхая легонько в плечо, склоняя к нему голову. Все еще держите. Все еще крепко в руках держите. Как же… х о р о ш о. Сама говорила поторопиться, а теперь что же?
— Я в порядке, оступилась, Ваше Величество, — Воль поежится, передергивая плечами, разрывая это странное мгновение, стараясь, чтобы голос не дрожал. — Я могу… — опускается на землю, чувствует, что синяки на завтра будут определенно. Ломит. Осторожно наступает на подвернувшуюся ногу – терпимо, пусть и неприятно. —… идти самостоятельно, но мне кажется до темноты все равно не успеть и лошади напуганы.
Темный бархат высветлен золотым зигзагом. Добела раскаленный символ, неровная кривая. Желтый мазок на темноте старого потемневшего от времени холста, холста неба и ночи. Нестройный танец одиноких капель дождя. Одна за другой, они опадают, отражаясь в холодных переливах лета. Бесцветные, обжигающие, как лед одинокие, растворяются в бархатной темноте неба, и исчезают внезапно, равнодушно, потерянно. Капля за каплей, капля за каплей....И вот уже монотонный, безостановочный шум, внезапная, дружная симфония. Шум дождя. Свет дождя. Дождь повсюду. Капли на лице, мокрые следы на щеках. Дождь - это немые слезы лета, гроза - его плач навзрыд. Плакало небо с громкими стонами, ощутимыми выкриками, плевками прямо в лицо. Скрипели деревья под натиском налетевшей стихии, как-то зловеще отдаваясь этим скрипом в сердце. И кажется, благодаря этому темному, почти черному небу, что уже далеко за полночь – слишком легко сегодня потеряться во времени. Черное небо вновь раскололось надвое изогнутой сияющей молнией, быстрой, как раздвоенный язык змеи. Нащупав краешками полыхающих усиков поверхность земли, она, как будто попробовала на вкус ее черную, рыхлую плоть, и тут же спряталась. Раздался оглушительный грохот. Мелкий дождь продолжал свою торопливую песню, капли постепенно становились все крупнее, одежда тоже умудряется намокнуть, намокают и волосы. Сквозь темные стволы деревьев мелькнет бревенчатый силуэт д о м а. Смаргиваешь капли дождя с ресниц, перекрикивая всеми силами разбушевавшуюся стихию.
— Нам нужно переждать там! Ваше Величество, там дом!
При рассмотрении ближе, дом оказался скорее домишкой, но хорошо сколоченным. Бревна крепкие, высокое крыльцо, еще пахнет свежим деревом – построен, очевидно, совсем недавно. Виднеется коновязь под навесом неподалеку, с настилом сосновых веток. Пахнет молодыми сосенками, теплотой и с п а с е н и е м так необходимым им сейчас. Если дернуть за дверь та, по какому-то скрытому волшебству откроется – замок еще попросту не успели сделать, пусть дверь и закрывается пока только на засов снаружи – тяжелую дубовую доску, которую отодвигаешь с определенными усилиями, выдыхая рвано, ощущая себя уже почти в безопасности, почти что в тепле \одежда промокла безнадежно, прилипает неприятно к телу\ и сухости. Остается только лошадей привязать окончательно испуганных, нервно ржущих, взбрыкивающих постоянно.
Воль прошмыгнет в открытую дверь, подождет пока зайдет за ней, дверь плотно захлопнется, а Воль навалится спиной, устало прикрывая глаза, смахивая рукавом, потемневшем от неожиданно большого количества влаги, дождевые капли с лица. Болят немного плечи, хочется помыть руки \благо краем глаза замечаешь воду в большой деревянной кадушке\. За окнами и за стенами дома продолжает с нарастающей силой гроза бушевать. Определенно ш т о р м.
А у тебя снова волосы кудрявятся безбожно. Мокрые, отяжелевшие, как и вся одежда. Тепло касается щек, продрогших от холодной неожиданно воды конечностей. Здесь не так уж много места, но все построено хорошо. Даже очаг есть, очевидно, чтобы на готовить на улице. Пара больших керамических сосудов, быть может с соей и рисом. Оленьи рога над дверным проемом \еще даже не успели сделать перегородку, перекрывающую маленькую комнатушку, где можно отдохнуть, от более просторной комнаты.
— Похоже на охотничий домик, — заметит Воль, задумчиво оглядываясь, отходит от двери и поводит плечами.
Дождь забрасывает в оконца брызги дождя, заставляя ставни трепыхаться испуганно и натужно. Дверь без замка пока еще держится, а Воль как-то невесело хмыкает и мрачно шутит:
— Надеюсь, дерево на нас не упадет, такой конец слишком бесславен.
Просто такое чувство, что все больше и больше расходящаяся гроза за стенами так из ниоткуда появившегося охотничьего домика становится только сильнее, только пугает. Мир за этими стенами будто бы сошел с ума, трещит по всем швам. Помещение полутемное, но постоянно ярко освещается все теми же безумными вспышками молний. Продрогли, вымокли, задержаны здесь неизвестно насколько – видимо, до темноты. А идти в горы, когда темно – занятие неблагодарное и опасное в конце концов. Да и горных львов никто не отменял здесь по ночам. Правда, в такую погоду все будут стараться спрятаться.
Воль подходит к очагу шарит руками по грубо сколоченным полкам \после дворца все будет иметь свойства г р у б о г о\ и находит длинные, слегка отсыревшие спички. Нахмуришься, чиркая – не горят. Еще парочка неудачных попыток, прежде чем наконец зажечь свечку. Так теплее, светлее, а еще лучше было бы зажечь очаг и хотя бы немного высушиться. Потому что так недалеко и до простуды. Впрочем, за себя ты не переживаешь. Ты ведь еще никогда не болела. Только когда Вон…
— Это дом похож на чудо, верно? Появился посреди леса. Чудеса случаются, — встряхиваясь, от так некстати охватившей ее задумчивости. Капают капли крупные на деревянный настил, стекают по рукавам и одежде подсыхающей постепенно. Повертится вокруг себя, выворачивая руки, чтобы посмотреть насколько сильно испачкалась и отчаянно радуясь, что догадалась взять сменную одежду с собой. — Я заметила, здесь есть полотенца. Можете мне их подать? Очевидно, рост хозяина выше моего. Я не дотянусь.
«Кто угодно будет выше меня – больше скажу».
А из-за одежды, которая теперь плотно к телу прилегает, прилипает, делает тебя еще большей худышкой и еще более миниатюрной. Воль командует снова бессовестно, будто и по дружески – огонь все же стоит развести, присаживаясь рядом на корточки, вспоминая неожиданно – как выглядела кухня в и х доме. Доме, которого нет. Может быть отец правильно поступил, что после смерти матери не вернулся в столицу \он даже в ссылке не находился\, а удалился куда-то далеко. Видеть, как все изменилось – невыносимо. А ты? А ты не изменилась? Ты очень хочешь его увидеть, но…
— Повернитесь ко мне лицом, да, вот так, — настойчиво и с какой-то только ей присущей легкостью разворачивая к себе, удобно устраиваясь напротив лица, в руку полотенце берет. Вы должны помнить, что дружба для меня это возможность заботиться. Вы не должны узнать, что забота для меня это любовь. Меня лишали этой возможности, лишали человечности. Очередной удар грома, дождь усиливается и не думает заканчиваться. Всегда казалось, что такие дожди обычно быстро и легко кончаются. Заканчиваются также неожиданно как и начинаются. А этот. Вздрогнет невольно при очередном ударе, ежится. Никогда не боялась грозы. Встряхнет полотенцем в руках, по лицу проведет, промокая капли воды на лице, стирая их тканью с лица, снова проводя, снова промокая. Пару раз в глаза посмотрит, внимательно-сосредоточенно, а потом снова нахмурится, к шее спустится, по которой прозрачные капли влаги стекали. — Нужно будет позже поблагодарить хозяина. Если получится узнать – кто он. И извиниться за столь неожиданное вторжение. Но пока мне не хочется отсюда уходить. С лошадьми все хорошо будет, так? — разговариваешь параллельно и параллельно все также заботливо по лбу, по щекам, вытирая насухо. — Я всегда хотела увидеть отца после всего, что случилось. Но я тут подумала… насколько изменилась и будет ли он рад меня видеть. Он запомнил меня совсем другой… — улыбка грустная скользнет по губам, растворится в глазах. Свечки дрожат и пританцовывают будто, отбрасывая тени причудливые. — Надеюсь, я не слишком его разочарую, в любом случае. Никогда не знаешь хорошо это или плохо – в о з в р а щ а т ь с я, — Воль снова в глаза посмотрит чувствуя, как тепло постепенно возвращается к ногам и рукам. Прикрывает лицо ладонью, зевает. — Я бы сказала вам раздеться, потому что одежду нужно высушить, но решайте сами, — закончив с полотенцами и отворачиваясь к огню, внимательно следя за всполохами пламени. Это была бы прекрасная атмосфера, если бы не пугающие вспышки за окном и потряхивающаяся тяжелая дверь. Сама было берется за полотенце, лежащее здесь же, рядом, сухое, но опережает ее руку. Воль посмотрит удивленно, пока полотенце по ее собственной шее, пока делает то же, что и она.
Ты бы могла переодеться в сухую одежду, которую взяла, чтобы не показывать перед отцом в каком попало виде, могла бы, но теперь, остаешься в этой же мокрой одежде, поглядывая на мешок где-то в углу – интересно не намокли ли вещи. Не должны были.
Воль замирает, спина выпрямляется невольно, дыхание задерживается вместе с биением сердца и ты боишься. Ты боишься, что снова слышно. Так не должно быть, потому что в своей обычной жизни вы друзья. И ты это хорошо знаешь. Друзья почти все время не испытывают ничего такого.
«Ваше Величество… другом… были вы. А я играла свою роль. А я надевала половинчатые маски, скрывая одну сторону личности. Вуали… надевала».
— Слышали про театр теней? — голос кажется каким-то слишком тихим, опустившимся, да еще и прерывается постоянно взрывами грома. А гроза ни на шутку разбушевалась. Все хуже и хуже с каждой секундой. Дом построен очень хорошо. Сдерживаешься. Ты сдерживаешься, чтобы не обернуться, чтобы улыбку не стереть с лица, чтобы не быть серьезной, потому что выдашь непременно все. Все, что тебе хочется, все, что так хочется почувствовать вновь. Месяц прошел. И он не прошел без того, чтобы не думать. Чего сейчас хочу я и насколько это рознится с тем, что я делаю?
Воль протянет руки, осторожно перекрестит два больших пальца между собой – голуби. Взмахнешь легко ладонями, волосы и одежда тем временем подсыхают спокойно и медленно. Вспышка – молния. Спокойно. В сердце тоже молнии жгутся. Свеча отбрасывает свет на стену слабый, но твоих голубей все равно разглядеть можно. Забавно. Сменишь, складывая ладони между собой, но снова перекрещивая большие пальцы – морда лошади.
Она поглядывает на него украдкой, улыбается уголками губ.
Она играется, словно малый ребенок.
Что я делаю? Дурачусь, чтобы хоть как-то скоротать время. Чего я хочу? Совсем другого, вы же так б л и з к о. Вы так близко, что хочется дотронуться, но не по-дружески, не забавляясь, совсем не так.
Что я делаю? У меня в небеса голубка за голубкой взлетают, а еще удается изобразить лебедей \если локоть согнуть и кисть наклонить\ и собак с открытыми пастями. Удается изобразить смех, когда все существо, неожиданно оказавшееся в замкнутом пространстве взывает совсем о другом. Я стала жадной. Чего я хочу? Я сдерживаю все, что я хочу. А хочется снова руками по плечам, а хочется снова близко, чтобы растворяться. А хочется запредельно близко, чтобы до исступления. А хочется снова задохнуться. Это как вкусить запретный плод – потом захочется еще. А мы в самом эпицентре б у р и, в самом её оке. Говорят корабли шли ко дну, когда в этой воронке оказывались.
— Вон научил меня когда-то, еще в детстве, — покачивая головой, потом уже своими руками к его, складывая в правильном положении.
Мои холодные руки обжигают, наверное, потому что у вас они теплые. По позвоночнику пробегают мурашки. Сдерживаешься. Все это глупо. Ты должна ждать. Ж д а т ь. И пока в одну из очередных душных и уставших от полуденного зноя ночей в твои покои не придут. Ты должна быть терпеливой, потому что ты ж е н щ и н а. До этого момента ты д р у г. — Хорошо получается, что скажите. Но это больше похоже на собаку, чем на лошадь, Ваше Величество, простите за откровенность, — усмехаясь, подшучивая, в душе же разрываясь на атомы, на частички мельчайшие только бы не рассыпаться вовсе. Какая же ты хорошая актриса, Воль. Какая же лживая, выходит у тебя дружба.
Каждый видит то, что хочет видеть. Верно?
— Думаете, веду себя как ребенок? — усмехаясь снова, как-то лукаво, поглядывая искоса, а неожиданно захотелось вновь. И н о г о. — Когда это все закончится, буду серьезной. Скорее бы все это закончилось…
Интересно, ты это о грозе или о своей невыносимо сложной и запутанной жизни, которая год за годом становится все… сложнее? Она становится сложнее, когда мы сближаемся и она становится невыносима, если отдаляемся. И пока не отдалились, я запутаю все окончательно. Я использую все шансы, пока я могу быть б л и з к о.
Завывающий ветер с силой ударит в дверь, из щелей случайных холодом повеет и этот порыв ветра ледяного мгновенно практически затушит редкие свечи, которые удалось зажечь. Даже свечку в маленьком подвесном фонарике, который задрожит. И мгновенно мир уже вечерний погрузится в темноту, практически пугающую. Сразу холоднее в разы, отчего мурашки по плечам под влажной одеждой, по спине вниз по позвоночнику п р о ч ь. Слишком темно, слишком мир задрожал.
Воль только губами успеет прошептать: «Ваше Величество», как на одну секунду все пространство перед ней осветилось ослепительно-яркой вспышкой, а потом небо от грохота будто раскололась. Грохот такой сильный и мощный \видимо гроза наконец в свои права вошла и добралась и до нас\, что кажется в самое сердце проникает. Дверь подрагивает, но все еще держится.
Я… испугалась, наверное.
По инерции какой-то дернешься, сжимаясь в комок, больно ударяясь и без того пострадавшим за сегодняшний день плечом об пол, теряя равновесие то ли от испуга, то ли от усталости. А вокруг все та же зияющая темнота, освещаемая вспышками молний секундными.
Я… не знаю, почему схватила вас за руку, почему мне так отчаянно нужна была защита, хотя я не боюсь грозы и это правда – не боюсь, но в этот раз все и н а ч е, неожиданно и страшно. Я держала крепко, утягивая куда-то за собой, куда-то на уровень земли \а мне казалось, на уровень н е б а\.
От деревянного пола сквозит прохладой, спиной прижимается, но где-то на лопатках чувствуется его ладонь – сегодня ты слишком часто падаешь, Воль. А вы все же пытаетесь не дать упасть. Плотно зажмуренные глаза открываются не сразу, открываются медленно, привыкая к темноте не сразу. И первое, что видишь – глаза. Лицо то и дело вспыхивает белоснежными всполохами.
Удар грома – удар сердца. Раз. Два. Три.
Глаза в такой темноте кажутся совсем темными, черными, лицо неожиданно бледнее обычного, \а мое, наверное, и вовсе как полотно, верно?\. Но дело не в том, что ты испугалась неожиданной близости теперь. Дело в том, что ты неожиданно испугалась, что упускаешь свой шанс. А тонкие пальцы по все той же инерции сильнее сжимают плечи, мнут все еще слегка влажную ткань одежды. Хочется вздохнуть – не хватает воздуха. А задыхаться еще рано. Дыхание близко, скользит по щекам мягким теплым потоком воздуха, но вместо этого обжигает. Грудная клетка поднимется, опадать не хочет, становится каменной, будто воздуха не хватает. Бушует мир, бушует сознание воспаленное неожиданно. Месяц прошел с той ночи, которую не забыть вовек \если я объятий забыть не могу и привыкнуть к ним не могу, то что можно сказать об этой ночи роковой, когда узнаешь какой может быть л ю б о в ь между мужчиной и женщиной\. Месяц прошел, но никогда еще за весь этот месяц не возникал образ этой ночи перед глазами.
Вспышка молнии и такой же вспышкой осознание – не отпустишь не сможешь. Вспышкой понимание: «Почему я должна сдерживаться?». Я сдерживалась изо всех сил долгое время, но почему я обязана это делать? Потому что женщина? Мне говорили, что женщина должна быть покорной. Женщина должна ждать. Что хорошего вышло из ожидания? У меня появился ребенок? Нет. Я стала полноправной королевой? Нет. Я стала любима. Нет. Я ждала бесконечно долго, но что из этого вышло? Ничего не вышло. Я больше не буду ж д а т ь.
Я ведь уже знаю, что вам со мной х о р о ш о, верно? Так давайте считать, что так и должно быть. Так давайте считать, что за этим никогда не будет стоять любовь, это останется на границе слова ж е л а ю. А мы желаем и это так глупо отрицать. Просто я еще и… люблю, но мы опустим и это тоже.
Мне кажется, наши корабли потонут сегодня в этой б у р е
Да будет так.
Ноги чуть согнутся в коленах, взгляд серьезнеет, становится глубже и темнеет также. Убегать от себя… ни к чему. А ты уже будто и грозу не слышишь, ты вообще ничего не слышишь – у тебя вместо грома в ушах собственное сердце бьется. Лошади заржут испуганно, ретиво – нужно проверить как они, пожалуй. Сон пытается подняться, а Воль неожиданно крепче за плечи ухватится, неожиданно пальцами за ткань, оставаясь все также на полу лежать, только лицо теперь еще ближе. И губы раскрываются, слова тихо, гортанно срываются с губ. Голос низким становится снова:
— Простите, Ваше Величество, но думаю сегодня я не смогу вас отпустить… — повторяешь когда-то сказанную фразу, когда спиной повернуться не дала. И сейчас тоже не отпускаешь.
В глазах утонешь, сама толком не осознаешь, что говоришь, но говорить это определенно хочется. Это то, что хотела сказать все это время, а быть вот близко то, чего хотело сердце. Только в моем случае все дело не только в желаниях. Просто мое сердце отчаянно взывает к вашему. Опустим и это.
Пальцы медленно, будто нехотя отпускают плечи, ладони прохладные оказываются на щеках, обхватывая лицо, а глаза всматриваются все также пристально. Где-то на дне моих глаз живет л ю б о в ь. Но вокруг такая темнота и такое безумие, что, наверное, не разглядеть. В ваших глазах я читаю то же чувство, сносящее голову. Точно такое же читала и в первый раз, потому что дали прочитать. Или влечение скрыть… невозможно. Так зачем себя обманывать?
Большой палец проскользит по щеке, очерчивая скулу, поглаживая. Воль смотрит безотрывно, ничего не объясняет, не отвечает ни на что. Голос тонет в громовых раскатах и хлестком дожде.
— Уже ведь вечер, так? Значит мое четвертое условие… в силе, — замолкает, чувствуя, как в груди несчастное сердце плавится, по всему телу пробегает волна, а в кровь будто намешали расплавленного железа.
Какая разница кто к кому приходит?
Какая разница, что вокруг и что это совсем не дворец \может так и лучше?\
Какая разница, что все должно быть по любви?
Почему… мы должны сдерживаться? А вдруг это последняя ночь на земле? Судя по происходящей снаружи катастрофе все именно так. А если это так… то я хочу воспользоваться этим именно т а к. Если завтра не наступит никогда почему не подарить себе н о ч ь. Мы ведь оба этого хотим.
Почему все так усложняется, если все просто? Если вы хотите этого – получаете. А я чувствую, всем своим существом чувствую, что хотите.
—…и вы простите меня, — шепотом шелестящим и горячим, сокращая последние миллиметры расстояния на этот раз самостоятельно, притягивая лицо к себе руками, лишая равновесия, а себя лишая рассудка \буду собирать по крупицам, мне он понадобится, но только не сейчас\. Нам не нужен разум с е й ч а с. Считайте, что сошла с ума. Думайте что хотите. Считайте, что требую исполнения договора и напоминаю о себе. Безразлично, но небеса знают, как же приятно целовать… ваши губы.
Поцелуй легкий вроде бы, ненавязчивый, спрашивающий разрешения, источает плохо изведанную \ведь я живу моментами и одной единственной ночью мне некогда научиться у меня все на… интуиции\ чувственность. Веки прикрываются под какой-то тяжестью, за ними сверкают белыми яркими вспышками зигзаги ослепительных молний-драконов. Где-то на периферии сознания открывается: «А вот гроза ему сопутствовать будет». Забудется также быстро, как и появилась не до того сейчас.
Я знаю, что у вас чувствительные губы \а хочется назвать их чувственными, да… да\, а мои захватывают мягко, будто просительно. Я так много хочу вам рассказать, но вместо этого просто… целую. Наверное, если вам было бы неприятно вы бы оттолкнули, разорвали бы, но это не т а к, я же знаю. Так давайте с этим смиримся. Прошу, дайте себе смириться с этим, а я… поцелую еще.
Дыхание спирает, выдох теплый, долгий в губы, когда тебя возвращают в вертикальное положение \сама бы не поднялась\. Рука все еще на твоих лопатках, опускается на поясницу, а лицо все также близко, только от пола больше холодом не веет. Бог знает, что вы обо мне подумаете, но этим вечером и этой ночью мне, пожалуй, действительно все равно. Мне хватает того, что в ваших глазах можно у т о н у т ь. Лбом прикасаешься, а голова кругом, мир плывет и сверкает, грохочет, но совершенно не громко – свое сердце грохочет куда сильнее. А губы снова находят чужие, целуя без всякого на то разрешения просто целуя, все настойчивее и тем не менее не можешь избавиться от нежности. Нежность, наверное идет не от страсти, желания получить свое. И ты не можешь от нее избавиться, когда целуешь. Мягко целуешь верхнюю губу, целуешь нижнюю, то ли берешь в свои руки инициативу, то ли наоборот покоряешься постепенно и неумолимо. Ты не умеешь, ничего не знаешь, не знаешь толком как нужно, но внутри загорается огоньком: «еще». Не остановиться. Назвать по имени. В такие моменты невозможно иначе.
Поймите, когда человек целует т а к, разве может это быть сухое исполнение странного д о г о в о р а. Не задумывайтесь, впрочем. Руки сами собой заводятся за шею теперь уже, прижимаешься, будто прячешься и одновременно все еще обжигаешь своими касаниями, своим поцелуем длинной в ночь. И никто из вас оторваться не может, подогреваемый эмоциями, чувствами, разливающимися по телу. Судорожно выдохнешь и оторвешься с а м а, оторвешься первой.
Я хотела проверить.
Глаза стали еще темнее. Все правильно.
Потянется – отпрянешь, пусть и первой все это начала, но недалеко, все еще находясь в досягаемой близости от него. Осторожно коснешься пальцем губ.
Я бы могла утонуть в том чувстве, которое затопляет. Я бы могла подарить вам в с е, потому что я уверена, меня бы хватило.
Загорается что-то еще. С каждым касанием распаляется, сносит, как тот самый ветер за окнами маленькими домишки хрупкого. Загорается и горит в этом буйном пламени. Сгорает до пепла. Это очень странная игра и очень опасная. Игра в которой сердце не выдержит – г о р я ч о.
Поцелуй на шее там, где у тебя родинка чувствуешь, чувствуешь все требовательнее и требовательнее. Сама ветки в костер подбросила и дороги назад нет, увы. И ты забываешь о боли в плечах, которые умудрилась ударить, когда сжимает. Не уйти, но и не хочешь.
Волосы, завязанные лентой на макушке и закрепленные шпильками позволяешь распустить, чувствуешь прикосновение к голове, к волосам, чувствуешь, как шпильки черные и тонкие постепенно выпадают из прически, а волна темная накрывает плечи. Влажные, пахнущие теперь уже не благовониями вовсе, а лесом и разнотравьем, безумным дождем и сосновыми отзвуками. Выдохнешь еще раз, выйдет как-то хрипло, собирая остатки разума.
Вам определенно нравятся мои распущенные волосы.
Остановишь в очередной раз, чувствуя как дернется завязка на одежде, длинным концом грубоватого материала на поясе. Встретишься с вопросительным взглядом своим, тяжелым уже, мутным. Поцелуешь легко, встанешь на ноги, пошатываясь.
Я не думаю, что вы позволите этому закончиться так легко, я не думаю, что буду извиняться.
И снова шепотом в губы, запечатлевая поцелуй вновь:
— Не все сразу, — глаза загораются, огонь обжигает и холодит одновременно. Будешь медленно отходить назад шаг за шагом, исполняясь какой-то уверенности в том, что делаешь и будто играешь, зовешь, манишь. За спиной вспышка разрезающее небо. Сколько времени прошло? Гроза не кончилась еще…
Пространства слишком мало, чтобы уйти далеко, поэтому п о й м а т ь тебя, словно птичку, пытающуюся выпорхнуть – легко. Поток этого чувства уже давно с н е с, поэтому даже если бы хотели не поддаваться – не выйдет. Подталкивает – нужно еще, нужна новая порция. М а л о. Чертовски мало. Я не боюсь, что вы решите отпустить.
Оказываясь в объятиях, поцелуй короткий – вырвешься снова и снова будешь отступать куда-то вглубь, в темноту. Твоя фигура очерчивается этими разнородными молниеносными разрядами, будто подсвечивается, как и кожа – блеск призрачный. И с каждым таким твоим маневром поцелуи, которые роняет на кожу все настойчивее, все быстрее уходит нежность, оставляя место чему-то обжигающему без меры, неизведанному до конца тоже. Но… желанному. Требовательнее сминаются губы и выпорхнуть из рук с каждой секундой этого танца все сложнее и нестерпимее. Горишь, все стягивается в какой-то тугой узел. Не страшно. Останавливаясь, поджидая. Голос томный, будто уже и не твой вовсе. — Вы… ты, — Воль вновь переходит на ты, потому что этими ночами можно, потому что после таких поцелуев было бы просто смешно использовать В ы. Ночью я могу называть вас по имени. Ночью все меняется. — не можешь просто забыть кто мы? Разве мы не можем быть просто двумя людьми, которые… желают друг друга? И не думать… — выдыхая в губы воздух, пахнущий сосной. Скрипнет доска под ногой. —… ни о чем?
Вообще ни о чем. Даже о том, что как бы хорошо было бы иметь детей. Что весь этот договор создан ради ребенка. Мне кажется в этом и проблема. Слишком сложно, слишком много условий. Мы могли бы о них забыть лишь однажды. Мы решили не наслаждаться и делать все п р а в и л ь н о. Может быть в этом и проблема. И раз это чувство принято называть страстью, то разве его определяют не как силу влечения, которое затмевает разум? И что плохого в наслаждении, скажите мне? Что плохого в том, чтобы отбросить вообще все – здесь никто не видит, не услышит, а это останется в стенах этого охотничьего таинственного дома. Ведь все вполне объяснимо – вы мужчина, а женщина, которую называли сами привлекательной. Мне сегодня не нужна мораль. Отпустите себя, как и тогда. Только сильнее. Не любите – и не нужно \я бы могла любить, я бы многое могла\, но никто не запретит вам хотеть.
Земля уходит из-под ног? Так расправь крылья и лети. Воспаленное сознание порождает кошмары? Так грей озябшие руки на этом огне. Смысл жизни исчерпал себя и дорог больше нет? Так ступай по бездорожью, где воздух так тонок. И как бы трудно не было — смейся над этой жизнью, потому что жизнь — смешна. Потому что невозможного — нет, потому что все пути открыты, потому что вода течет с небес, а в чистых руках — власть творить чудеса. Сделав этот шаг — ты уже никогда не захочешь останавливаться.
Отступать дальше – некуда, а ты слишком далеко зашла в этой игре уже сама еле держишься от разнородных эмоций с пометкой «еще». Воль упирается спиной в твердый косяк, затылком в дерево, прижимается.
Я в каком-то бреду и это неизлечимо.
Вы мужчина, который хочет женщину. А я женщина, которая влюблена. Наши чувства разные, но оба имеют право на существования. Не думайте обо мне. Мы можем побыть эгоистами? Так глупо и так… хорошо, когда за подбородок возьмете, приподнимете, а я почувствую теплоту подушечек пальцев. Кем-то движет желание. Кем-то движет любовь. Но я сотру границу между двумя понятиями, так легче будет, правда? Я сотру это границу точно также, как вы стираете остатки здравого смысла между нами. У нас страсть окрашена в цвета ночи, темная, глубокая, на омут похожая. И если в ту ночь лунно-пряную она была похожа на звездный всплеск, то теперь это действительно похоже на то, что мы падаем куда-то, волны над головой смыкаются, а мы не пытаемся выбраться. Обволакивает эта темнота, освещаемая молниями, освещаемая бурей, которая грянула. Не остановиться, пока поцелуи по шее, а сопротивляться и продолжать и г р а т ь больше нет, да и отступать некуда – дальше только проем второй комнаты откроется. И шепчешь слабо уже, плечи расслабляя, руки сами собой скользнут за шею, позволяя себя еще ближе прижать, окончательно теряя инициативу, выгибаясь слегка. Нос окутывает отчего-то запах хвои, мягкой и свежей по-настоящему зимней. С каждым поцелуем этот хвойный запах кружит голову сильнее, проникает под кожу, застревает в голове, въедается в волосы.
Поцелуете шею белоснежную, зацеловывая все возможные открытые участки кожи, заставляя задохнуться, задерживая дыхание, губы в поцелуе сминаются, поцелуе ждущем, требующем ответа. Отвечаешь, сцеловывая этот хвойно-горький аромат, губы и без того пухлые вспухают, краснеют - не заметите, теперь все становится безразличным. Без шансов.
— Только… — каким-то усталым от короткой борьбы шепотом, поддаваясь натиску совершенно полностью. —… умоляю… — хвоя кружит голову, подкашиваются ноги, желание все равно возьмет верх над здравым смыслом. —… не жалейте ни о чем.
Я не хочу, чтобы об этой ночи вы жалели, считали правильно это или не правильно, можно ли так поступать или нет. Просто поцелуйте меня сильнее.
Гром и молнии. А мы сходим с ума.
Обоюдно.
Скажи мне, что хочешь меня. Нет, мне не нужны твои слова, я слишком хорошо изучила тебя словно механизм: по миллиметру кожи, наощупь, на вкус, по запаху. Твое тело выдает тебя. Оно рассказывает мне больше, чем могут рассказать слова. Неуловимое напряжение мышц, скомканная волна дрожи, меняющая твой запах, горячая кожа, ставшая тверже и одновременно нежнее, — ты ждешь. Я отстраняюсь, ответом будет досадное расслабление, едва слышное изменение ритма дыхания и сердца — это твое разочарование. Конечно, я вернусь. И все начнется опять. Скажи мне, скажи вздрогнувшими необычно длинными ресницами закрытых глаз, скажи полуоткрытыми губами, скажи неосознанно скользнувшей к теплу рукой, скажи блеснувшей в ночи капелькой пота на виске, скажи скрытым желанием прижаться, скажи, что ты хочешь меня. И ты говоришь. Да… ты говоришь мне об этом.
Пространство второй комнатушки маленькое – то и дело задеваешь плечами какие-то предметы случайные и стены деревянные. Выдох в губы, языком по губам, руками по плечам, чувствуя вскипающий безумный огонь, поглощающий шаг за шагом. Не отпустит. Рваным движением дернуть за пояс, который не поддается и вместо этого завязывается в какой-то узел, а он неожиданно бережно твои руки отстранит, целуя тыльную сторону ладоней. Развязывается пояс, руки всегда теплые скользнут под одежду, отзовешься каким-то тихим, будто не своим вовсе стоном. А потом никто уже не станет спрашивать, а потом одежда по всем швам затрещит, какие-то нитки порвутся. Безразлично. Сбрасываете, снова находите мягкие, но уже серьезно опаленные губы – целуете. Падаете. Гром. Молнии. Мира нет. Ничего нет.
От следующего поцелуя разверзаются небеса. Дыхание спирает, потом оно восстанавливается, а потом снова. Это похоже на танец, безумный какой-то слегка, пьянящий до изнеможения, до дрожи прекрасный. И все, на что хватает разум, все, на что хватает повторять бесконечно мысленно одно и то же, словно молитву какую-то. Он сводил ее с ума своими прикосновениями, близостью и умопомрачительным запахом.
Дальше костяшками пальцев обежал линию плеч, как бы случайно очерчивая контуры тела. И только после этого самыми подушечками пальцев провел по спине.
Глубокий. Влажный поцелуй с новой силой, по коже пробежит ветер. Удар грома – новый поцелуй. За окнами треснет какой-то сук, упадет ветка – у тебя треснет всяческое терпение, разум молчит, затуманенный, а вы оба повинуетесь совершенно иным желаниям. Не думать ни о чем. Разве что о том, как же это невыносимо хорошо. И губы разомкнуты, пропуская свободно, беспрепятственно, г л у б о к о. Губы, слитые в простом касании, приобрели жар, упругость, рождая страстный поцелуй. И языки сплетаются и пальцы руки переплетаются, а её рука прижимается к жесткой, свежей поверхности постели, всецело отдаваясь ласкам, наслаждению, теряя контроль над сознанием. Уже не важно, кто кого, целуя, жадно вбирает в себя губы другого, отдаваясь всей страстью и жаждой этому поцелую. А ты ведь и понятия не имела, что взгляд такую страстность может отражать, метать собственные молнии, вулканами взрываться за каждым новым поцелуем губы тянутся сами.
Кровать слишком узкая, заставляющая н а в и с а т ь, а от этого быть еще ближе, не давая друг другу упасть, чувствуя обнаженной спиной жесткую поверхность постели. Практически до скрипа вжимаешься в матрас, чувствуя тяжесть чужого тела, видя в сполохах молний контраст белоснежной молочной кожи, лишенной всяких признаков загара и солнечного света, жемчужной в своей прозрачности, перламутром отливающей и его, поддернутой золотом, чуть темнее твоей. Они оба чувствовали этот трепет, страстную самоотдачу тел, прижимающихся, сплетающихся в объятьях друг друга. Этот поцелуй был полной противоположностью их первому, их тела охватывал жар, и они были в плену собственных чувств.
Ощущать вес его тела на себе невероятно. Я ощущаю его – всего его – прижатого ко мне плотно. И дорожки поцелуев, захватывающих опускаются чуть ниже, а потом еще и еще.
Удар. Стон. Поцелуй.
Вспышка. Руки заводятся, придерживаются и прижимаются властно к постели. Поцелуй снова.
И вместе с танцем молний на небосводе… почему не станцевать с вами? Когда-то мы уже танцевали, я хочу с н о в а.
Мы назовем это наваждением, но отдадимся ему
Всецело
Этот танец, похожий на странную борьбу, в которой тела перекатываются, переплетаются, а твои длинные волосы грудь щекочут, когда в какой-то момент времени сама уже не разбираясь как оказываешься н а д, а потом снова на спину переворачиваясь. И руки везде, везде, везде побывали, заставляя подрагивать и заставляя сорваться с влажных, напухших губ и м я:
— Сон.
Только такими ночами, я могу называть тебя по имени, ты, пожалуй смелее. И только крепче прижимаешься теперь, раскрываясь, перелистывая страницу за страницей, прочитанная такое чувство наизусть и полностью. Руки на талии, очерчивая фигуру снова, властно, а все родинки на твоем теле уже давно соединены в созвездия.
Этот танец, в котором нет победителей или проигравших, где я покоряюсь каждому шумному выдоху, вперед подаваясь и чувствуя, как перед глазами все плывет, как рука путается в волосах, заводится за шею, массирует.
Вся её кожа пылает. Расцветает алыми гвоздиками. Вспыхивает бархатными розами. И боль \случайные ссадины после сегодняшнего неудачного падения\ тоже кажется сладкой, пока придерживает бедра двумя руками, а она податливая, пылающая все, подается. Вспышка. Разрыв. Сумасшествие. Никто не узнает.
Этот дом сохранит эту ночь.
Если захотите – забудете. А пока.
Еще.
Губы с жадностью скользят по ее шее, плечам, груди, ладонью по её животу и обратно и так, кажется до бесконечности. Захватив губами его губы, упиваешься их сладким и таким родным неожиданно вкусом, сохранившимся еще с первой и единственной ночи \эта станет второй\ и едва балансируешь на грани блаженства и безумства. Его тело отзывается на каждое движение рук, которые с движением желания потеряли ласковость, но приобрели силу, властность. Она целует его грудь, ключицы, скользит пальцами по животу и снова поднимает их на спину, в беспамятстве водит ладонями по стройной мужской спине. И так тесно прижимаетесь друг к другу, будто желая стать с ним единым целым. Дорожкой быстрых поцелуев убегает вниз, заставляя судорожно выдохнуть, закрыть глаза, увидеть вспышку под опущенными веками.
Ближе, еще ближе, до бесконечности близко, плотнее и глубже, чувствуя всем телом, самоконтроля нет, эта почти что безжалостная страсть, томная и тяжелая, когда сжигаете друг друга, когда все звезды сгорают в одном и том же костре, когда движения становятся резкими, когда не до бережности, когда каждый шепчет другому е щ е.
Грохот чуть слабее. Сильнее движения. Рокотание. Хриплые выдохи.
Стон. Ветер шумит где-то там, в другом мире. Поцелуи на животе, на груди, кожа пылает красноватыми отметинами, а все равно. Вдребезги разбиваясь, разлетаясь на осколки, растворяясь в её сущности, утопая в жаре поцелуев. Воздух дрожит, подёрнутый тонкой плёнкой нашего сладострастия. Видишь легкие лепестки огненные, когда он к плечам поднимается, целует их, спускаясь обратно к груди — чтобы до последней капли, до последнего глотка…
Капля пота на лбу, стекает по виску, а все тело наливается, напряженное и совершенно разгоряченное, пока ваш собственные разрыв не прогремит. Поцелуями мокрыми, дыханием частым, прикосновениями тел — желать друг друга, не останавливаясь. Чтобы до дрожи, до исступления, до покусанных губ, до онемения — даже на кончиках пальцев.
И голова заметается по подушке низенькой, сползешь куда-то вниз, лишь вцепляясь пальцами чуть крепче, чувствуя, как тело все дрожит, предвкушая. Кусая губы, комкая руками простыни, шепчет, шепчет имя, цепляется пальцами за волосы, хватает за плечи, тянет к себе — нет смысла больше ждать. Причудливый танец бабочек вторит танцу наших тел на узкой постели, совсем не предназначенной для д в о и х. И возможность падения будоражит будто бы больше. И по телу капли пота и так желанна эта безумная близость посреди бури, о которой оба забываете совершенно, зацелованные, забывшееся.
Гром. Толчок. Ближе. Приподнимешься.
Молния. Разрыв. Тело расслабляется.
Все цветы распустились. Все цветы снова сорваны.
Сознание потерять.
Это не та красивая любовь и не любовь вовсе. Это поглощение. Затмение. Безумие. Мы находимся в своих параллелях жизни днем, соединённые сейчас этой тонкой синей нитью, опутавшей наши тела безумным танцем страсти. Когда гаснет свет свечей, и замирает сердце, когда выстраиваются планеты в ряд, когда очередная вспышка появляется ярким пятном на солнце, многое начинает обретать свой новый смысл.
Я отдала все, что могла сейчас, но я не жалею.
И я ужасная эгоистка, наверное, во всем этом безумии так и ни разу не подумала о… ребенке. Я не думала ни о чем, кроме как о том, что любить – х о р о ш о.
Нам нужно выплыть на поверхность
В штиль
Гром отдаляется неспешно, как и буря, унося за собой сломанные сучья, перевернутые горшки и корзины. Где-то в городе будут долго судачить о безумной стихии, которая не мало ущерба нанесла. По крыше стучат замедляющиеся капли дождя, а с ними замедляется ритм дыхания, спокойнее будет опадать грудная клетка, сознание будет медленно возвращаться. Размереннее дождь – мягче поцелуи, спокойнее дыхание, тише стоны. И сама не осознавая того, приходя в сознание уже, подтягиваясь снова, обхватывая, в лоб поцелуешь легко. Карты раскрываешь. Не узнаете. Не поймете.
Воль приоткроет глаза, встретится с его взглядом, почувствует ладонь на щеке. Несколько медленных поцелуев будто бы вторящих движению капель дождя – все то, что осталось от бури, будто жалкое напоминание. Удержишь эту ладонь, спросишь:
— Злишься? Ты злишься на меня? – голос сиплый прорывается, на родинке на подбородке поцелуй еще один. — Прости, но... решила, что сам не позовешь... Я иногда теряю терпение это мой грех...
Вы оба устали, вымотали друг друга, друг друга не узнавая при этом. А сейчас пытаешься очнуться постепенно.
Ладонь скользнет по его груди к плечу, затем спустится вниз по мускулистой руке, а потом опять к груди. Брови дернутся болезненно, когда шрам увидишь.
— Ты все еще считаешь, что шрамы украшают мужчину? – усталый голос звенит, пока пальцами по груди, а потом руки под голову подкладываешь, в глаза посмотришь. Дрогнут ресницы. — Я просто надеюсь, что ты будешь в порядке. Чтобы мне больше не пришлось тебя спасать… — голос глохнет, а глаза прикрываются, но ресницы трепетать продолжают.
Развернется сама на спину, все еще чувствуя на себе его взгляд. Ты очнулась после забытья совершенного, щеки бледные поаалели, но неловкости особенной не ощущаешь, вдыхая полной грудью, которая такое чувство все еще ощущает пальцев и губ прикосновений, потяжелевшая. — Ты когда-нибудь думал о том, как бы хотел назвать сына? Нет? Ни разу? А подумать с т о и т.
Потому что в этот раз появилось странное, почти мистическое чувство. И я ни капли не преувеличиваю.
— Кстати ты спрашивал тогда… люблю ли я все еще Гона. Так вот мой ответ… нет, — прямолинейно, продолжая разглядывать потолок дома низенький. Помолчишь какое-то время, а потом продолжишь:
— На твоем месте я бы засыпала. Мы ведь задержались, а завтра нужно встать раньше, — развернешься к нему лицом, снова, поерзаешь лицом по подушке, которая тоже одна на двоих. Пытаешься звучать буднично. Здесь особенного выбора нет – здесь только в объятиях, иначе один будет упираться в стену, а другой и вовсе упадет на пол. — Спокойной… ночи. Сон.
Это последний раз, когда я смогу назвать тебя т а к. Завтра все будет уже иначе. И скоро иначе будет в с е.
Спокойной ночи, я надеюсь нам будут сниться хорошие сны и мы будем спать крепко.
Спокойно ночи, я надеюсь дождь кончится.
Спокойной ночи я так… не хочу засыпать.
Поделиться132018-02-06 19:23:33
С листьев деревьев и крыши домика капли падают на землю одинокие, барабанят успокаивающим ритмом. Где-то в лесу птицы запели, радуясь утру неожиданно мягкому и солнечному. Перепархивают с ветки на ветку, отряхивают мокрые перья, а где-то в траве застрекотали шустрые кузнечики. Невероятное умиротворение вокруг, убаюкивающий ритм дождя за маленькими оконцами – спутаешь, дождь уже закончился, а это все еще капает с крыши и вниз стекает.
Край облака порозовел от утренних лучей.
Солнце, зажмурившись, медленно выплыло из-за горизонта
Горы сбросили с себя заспавшиеся тучки, и те, все еще тяжелые, плоские снизу, налитые влагой, слегка приподнялись и сонно потянулись куда-то на запад. Постепенно, под солнцем они распушились сверху, посветлели и заглядывались по сторонам.
Горы, чистые и промытые, стояли поутру строгие, торжественные и холодные.
А зелени новые краски придала влага. Земля пересытилась этим дождем, влага через край переливается.
А ты… просыпаешься. Просыпаешься из-за этого солнечного луча, пробивающегося через резные ставни маленького окошка. Просыпаешься, из-за игривых солнечных зайчиков на лице появляющихся. Ты просыпаешься и мгновенно его лицо видишь в этих лучах теплых. Он спиной к окну – ты лицом к нему.
Воль дыхание зачем-то задерживает, не шевелится почти, с немым интересом разглядывая лицо, которое близко и до которого теперь, наверное, все же можно дотронуться. Спит, необычно крепко спит.
Осторожно потянешься, пальцем обведешь контур бровей, чувствуешь фактуру, чувствуешь форму, точно также губ форму прочертишь большим пальцем, запоминая. Запоминая сама не зная зачем, будто прощаешься. Нежно-нежно трогаешь, трепещешь сама.
— Доброе утро… Муж.
Всегда хотела это сказать.
Пока вы не видите, я могу вас л ю б и т ь. И смотреть на вас вот так. Я могу и любить и желать. Но мне нужно ждать. Мне нужно ждать, а я подтянусь еще ближе, глаза прикрывая на секунду, целуя осторожно в уголок рта нежно и ласково.
— Как бы я хотела… чтобы вы меня полюбили. Но как Су... вы любить не будете никогда и никого, верно?
А я не смогу требовать. Я обещала это не требовать.
Я этой ночью на самом деле это поняла. Я поняла совершенно определенно, что я не смогу быть настоящим другом – я могу только притворяться. Я поняла совершенно определенно, что это быть может последний раз, когда мы были вот так б л и з к о. Я никогда не узнаю – когда все закончится, вот и хочу запомнить это чувство, ваше лицо, губы, брови, нос, скулы и ресницы длинные.
Воль осторожно из под руки выберется, которая о б н и м а л а во сне, кажется. Босыми ступнями по деревянному полу, не боясь занозу схватить, вытаскивая из мешка, забытого с вечера платье, разбираясь с волосами, вновь убирая их, заплетая в косу тяжелую, шаря руками в поисках шпилек и находя только несколько. Цокнешь языком, а руки дрожат предательски. Поднимаешь одежду с пола, встряхнешь, разгладишь руками и осторожно положишь перед ним, расстелешь – так одеваться гораздо удобнее.
На крыльце пахнет лесом, листвой и травами многочисленными. Спрыгнет легко вниз, ощущая под ногами влажную землю после дождя. На макушку с навеса упадет пара капель прозрачных, сморгнешь. Невдалеке ржание послышится просительное встрепенешься.
— Вы в порядке? – встречаясь с умными темными глазами.
Что Парам, что гнедая - оба в порядке и навес бурю выдержал. Напоить бы, а еще лучше накормить. Благо с сеном в этом охотничьим домике проблем нет. Извиняешься – влажное немного, пальцы запутаются в гриве темной, невесомо лбом прикоснешься к теплой морде. Парам фыркнет куда-то в щеку, обдавая теплым дыханием, пахнущим все тем же сеном и травами.
— Скажи мне… он же больше не придет, если у нас появится ребенок? Все закончится, да? — Парам махнет мордой, подтолкнет легонько. Забавный. Улыбнешься слабо, грустно. От собственной улыбки захочется плакать, шмыгнешь носом, чувствуя, что сердце л ю б я щ е е какой-то тяжестью наливается. Ты ведь сама хотела, чтобы так было. Но никто не говорил, что претворяться легко, Воль. — Я ужасная, да? Может поэтому, у меня еще нет детей. Но, по крайней мере, меня любишь ты. И будет любить наш ребенок. Наверное, мне стоит закончить с этим первой.
Конь фыркнет весело, хрумкает сено вместе с подругой, а Воль сотрет совершенно непрошенные слезы с лица.
Находится кадушка с дождевой водой – умываешься, стараясь смыть в с е. Прохладная вода пахнет небом, до этого таким грозным, а сейчас таким безмятежным. Быть может удастся приготовить завтрак? Пока никто не проснулся. Ты же еще вчера видела здесь кое-что съестное.
Это новый день. В который все снова… станет по-старому.
На огне удалось сварить рис, в доме оказалось возможным найти вяленое оленье мясо, а в лесу собрать дикой малины, не забыв про листья – можно попробовать заварить чай. От чая костром отдает, а ты таки умудряешься запачкать слегка атласную красную пышную юбку, а переодеваться вроде как больше не во что. Готовить здесь сложно, к тому же и еды здесь совершенно не много. Наверное мужчины охотятся и едят пойманную добычу, а без риса просто обойтись на крайний случай нельзя.
Чашки деревянные, миски с небольшими трещинками. Находится одна керамическая, коричневая – в нее рис наложишь, оставишь.
Потираешь палец с занозой после сбора малины, пока чашки расставишь на столе маленьком, на котором они едва помещаются, хотя их здесь раза в три меньше, чем обычно приносят во дворце. Воль как раз заканчивает со всем, когда шаги слышит за спиной. Плечи напрягаются невольно, а глаза серьезнеют. Перед ними ночь грозовая мелькнет, перед ними снова поцелуи расцветают немыслимые. Перед ними снова… вы. Воль выдыхает тихонько, встряхнет руками и развернется. Улыбка приветливая скользнет по лицу, кивнет на стол накрытый, руки спрячет за спину.
— Доброе утро, Ваше Величество, вы хорошо спали? – вопрос будто невзначай, буднично, будто и не было ничего, склоняя голову, непосредственно.
Мы снова на вы, мы снова Король и Королева, друзья, муж и жена, если хотите. А я буду улыбаться добродушно.
Была ли эта ночь сном и нашей выдумкой на двоих? Или это слишком жестоко заставлять поверить в такое?
— Я использовала то, что удалось найти здесь. А еще собрала немного ягоды, раз уж мы в лесу. Нам стоит поторопиться, если хотим успеть хотя бы к полудню, Ваше Величество. Это совсем немного, но с ягодой каша должна быть вкуснее. Поешьте, — самостоятельно несколько ягод положишь, пожимая плечами. — И почему вы так внимательно на меня смотрите? У меня что-то на лице? Вы должны сказать, как я выгляжу. Отец должен знать, что со мной все хорошо…
Воль пробует кашу на вкус – вроде бы даже не переварилась. Мясо немного жесткое, а чай кисловат, но зато малина сладкая и тоже душистая. Дикая малина темнее обычной, меньше, но намного ароматнее. Набиваешь щеки едой, стараясь выглядеть как можно более непринужденной, прокашляешься в итоге, потому что воздуха все равно не хватает.
— Съедобно вышло? Не похвалите меня, Ваше Величество? Что не дала нам умереть от голода?
У тебя волосы забраны, а когда-то распущены были, а когда-то он их распускал. Было ли это?
У тебя одежда привычная, уже не тот костюм черный, в котором добираться планировала, переодеваясь уже в монастыре непосредственно до встречи с отцом, которая все следы скрывает надежно.
У тебя лицо безмятежное, а внутри все застынет и расплавится как только подумаешь об этой ночи. В которой будто и не ты была вовсе. Мы же утихомирили все свои желания?
Это вам стоит сказать – была ли эта ночь или нет. Или вы устали от видений, на реальность похожих?
И только оказываясь уже верхом, опираясь на руку, чтобы от земли оттолкнуться ты, все еще улыбаясь \будто улыбка к моему лицу пришита, ей богу\ скажешь будто мимоходом:
— А я рада, что пошел дождь. Мне нравится… дождь.
Благодаря этому дождю я пережила ночь, которой быть может и не будет никогда вовсе. Благодаря этому дождю я, быть может, приобрела для себя бесценный подарок на земле о котором пока не подозреваю даже. Но который у меня уже е с т ь.
В полуденном солнце золотые статуи Будды в горном монастыре, спрятавшимся надежно среди массивных скал, покрытых редкой растительностью, поблескивают, г о р я т, ослепляют. Здесь повсюду растут кедры суховатые, с пожелтевшими иглами. Дорожки здесь узкие, постоянно осыпающиеся, так что непосредственно к монастырю можно пройти только пешком, увы и только друг за другом, удерживая лошадиные поводья.
По каменным дорожкам медленно и размеренно расхаживают монахи в непривычно ярких оранжевых одеждах вперемешку с серыми, перебирая тяжелые бусы на груди. Здесь удивительно тихо, слышны мерные удары гонга, отдающиеся эхом горных вершин и оседающие где-то под сердцем. Несколько построек, главный храм со святилищем и примыкающие к нему беседки. Слышится откуда-то однотипный и вводящий в транс голос одного из монахов.
А к вам навстречу спешит настоятель – сухонький совсем, сгорбленный, подслеповатый слегка, с добрым старческим взглядом из-под нависших густых бровей. Глаза постоянно прикрывает, но слышит вполне хорошо. Сгибается чуть ниже, опираясь на толстый гладкий посох.
— Добро пожаловать, Ваши Величества, — хрипловато, потряхиваясь слегка. — Я благодарю, что вы посетили нашу обитель. Проделали такой долгий путь сюда…
Воль кивнет, голос держится мягкой волной, но настойчивой. Вас могут приветствовать целую вечность. А вечности у вас н е т.
— Благодарю Вас. Я слышала монахи лучшие лекари. Я бы хотела посмотреть монастырскую кладовую с травами. Быть может найду для себя что-то новое. Мастер… можете проводить нас к моему отцу?
Тот закивает понятливо, потряхивая подбородком, опираясь на посох, а рукой подзывая к себе нескольких молоденьких еще мальчишек, кивнет на лошадей – нужно покормить, дать отдохнуть. И те молчаливо послушаются, не желая спорить с настоятелем. На вид сухонький, а рука тяжелая, особенно когда берется за розги.
— Сейчас господин Сон на уроке, но я думаю можно его потревожить, — шелестит настоятель, подходя к одному из зданий недалеко от главного храма.
— Урок? Отец не говорил мне об этом в письме…
Она не видела его казалось вечность. Как только открылась тяжелая дверь, как только настоятель пропустил вас внутрь в небольшое, залитое светом помещение, в котором слышится веселый перезвон детских голосов, взгляд сразу находит родное лицо. Кто-то обернется, посмотрит любопытными, горящими глазенками, но отвернется также быстро, возвращаясь вниманием к уроку.
Отец постарел слишком заметно, чтобы она не обратила на это внимание с их последней мимолетной встречи несколько лет назад, когда Вона уже… не было. Тогда кажется он не был таким седым, а в уголках глаз не пролегли такие глубокие морщины, будто оттенком печали на коже. Бывший министр церемоний указывал рукой на крупный иероглиф, написанный на большом полотне бумаги, иногда сухо покашливал и… определенно увидел вас. Глаза отца остались такими же – безмерно теплыми глазами, которыми он наградил их с братом. Только у Вона они постоянно темнели, а твои сохранили эту природную светлую теплоту. Это определенно… твой отец.
— И кто скажет, что значит этот иероглиф? – обращается к детям, вверх взметнется пара рук, кто-то будет беззастенчиво перебивать другого, а отец подождет пока детские голоса замолкнут, поднимет рукой мальчика худенького совсем, сидящего в сторонке. Единственного, кто руку не поднял. — Скажи мне, Хёну.
— Вода, мастер Сон, — отвечает тихо, шмыгая носом, будто не уверено.
— Верно, этот иероглиф означает воду. А если, — дернет за веревку тонкую, с кисточкой на конце, полотно с иероглифом сменится, на другое, а дети восторженно захлопают в ладоши. Им интересен не столько иероглиф, сколько процесс его смены. — Вот этот иероглиф?
— Доброта, — ответ безукоризненный прозвучит, а отец Воль удовлетворенно кивнет.
— Правильно. Иероглиф «шань». Мы знаем его как иероглиф слова «доброта». Состоит из двух частей: верхняя - "овца"; нижняя - "речь, разговор", — отец произведет какое-то движение руками, а Воль вспомнит тот самый «театр теней». Появится на белом полотне бумаги бледное изображение, похожее на овцу. Дети снова смеются довольные, смотрят во все глаза. — Раньше разделяли звуки, издаваемые животными, на добрые и злые. Овца считается очень покладистым и смирным домашним животным. Хорошо или плохо с ней обращаешься, она всегда только протяжно блеет. Поэтому, но и стало ассоциироваться с понятием доброты и вошло в состав этого иероглифа. Все вы помните как звучит блеяние овец?
Крестьянские детишки овец в своей жизни как раз и видели, многие из них наверняка принимали на руки ягнят, так что с особенным усердием принялись изображать собственно блеяние, спорить, кто лучше показал. Детям нравится. Подойдешь к Сону ближе, шепнешь на ухо:
— Когда мы были маленькими с братом. Он часто устраивал подобное.
Воль смотрит на него не отрываясь, а он смотрит на нее поверх детских голов. В глазах отца мелькнет какое-то болезненное выражение тоски, которое он поспешно спрячет за улыбкой усталой. Урок закончится и тогда он, наконец, подойдет ближе. Снова прокашляется, склоняя седую голову, а у тебя неожиданно заноет сердце. Нет, отец, не кланяйся, не стоит, не мне.
Взгляд поднимет.
— Я переживал из-за вчерашней бури. Рад, что вы добрались в целости и сохранности, Ваши Величества.
Нет, отец, только ты так не называй. Это ведь я, все еще я. Твоя Воль. Я не хочу думать, что изменилась настолько. А у тебя будто ноги к земле приросли под этим внимательным взглядом родных карих глаз с оттенками ореха. Я бы хотела тебя обнять, отец, так почему не могу сделать н и ч е г о. Настолько привыкла сдерживаться?
— Пройдемте ко мне. Здесь будет слишком шумно вести разговор, — кивнет, голос остался все таким же глубоким, спокойным с нотами разве что какой-то усталости от, такое чувство самой жизни. Но если бы ты действительно устал, отец, ты бы не занимался с детьми. Нет.
Комната в монастыре, отведенная отцу была небольшой, без какой-либо мебели кроме низкого письменного стола, ширмы расписанной и матраса, убранного в угол и расстилаемого под вечер. Многочисленные книги из монастырской библиотеки составляют пожалуй главное убранство всей комнаты. Отец остается верным себе. Развернется к вам, а ты не садишься, а ты всматриваешься в родное лицо до болезненности, испещренное морщинками.
— Отец, не хочешь меня обнять? Это же я, — умоляюще почти, болезненно, до хрипоты.
— Знаю, милая, знаю дочка, — оказавшись вдалеке от людских глаз раскрывает, наконец, объятия. От отца все также пахнет свечным воском и тушью, его объятия по прежнему теплые, только грудь иногда заходится в глухом кашле. Целует ласково, как когда-то в детстве в висок, ерошит волосы на голове. — Мама твоя была бы рада тебя увидеть. Ты стала совсем взрослой.
Мама умерла, ослабела после смерти сына и так на ноги и не встала, а он похоронив ее в солнечном месте где-то среди так любимых ею цветов, удалился из жизни суетной вовсе, лишенный возможности общения с дочерью какое-то время, потерявший сына, ушедший добровольно от всех государственных дел и поселившийся здесь – средь синеющих горных пиков и сыпучих узких горных тропинок.
Ладонь отцовская по спине, а ты неожиданно для себя расплачешься, как ребенок, как несчастные ребенок. Я снова плачу в объятиях. Сначала ваших, Ваше Величество, а теперь и отцовских. Отец пожурит: «Королева же, перед мужем плакать удумала?», а ты лишь упрямее вжимаешься, отпускать не хочешь.
Ты так давно его не видела.
— Дочка, разреши мне поговорить с Его Величеством наедине теперь. Мы с тобой обязательно поговорим еще… Не переживай.
Бывший министр Сон, а ныне Сон Ын Хек, «мастер Сон», покашливать продолжает \здоровье в последнее время ни к черту\ заводя руки за спину, смотрит в еще молодое лицо м о л о д о г о короля, угадывая в нем черты несколько стершиеся – его отца, которого знал много лет и которому оставался верен. Может поэтому после гибели сына ты и ушел в отставку, не желая создавать лишних трудностей. На совете об этом все равно бы говорили. Как-то невольно вспоминает басовитый-непреклонный тон Его Величества, говорящий: «Вы не обязаны уходить», но ты тогда качнул печально головой, стоял на том, что: «Я неправильно воспитал сына, Ваше Величество и так будет лучше». Огонек задумчивый зажигается. Смолчит какое-то время, а потом предложит неожиданно:
— Играете в бадук? В последний раз я играл с сыном, а это было давно. Мне не попадалось достойного соперника, увы.
С сыном. Образ Вона все еще маячит перед глазами, хотя хорошо знает – какое неблагодарное занятие возвращаться в прошлое мыслями, которое уже закрыто. Вздохнет тяжко, скрещивая ноги перед доской деревянной.
— Вы наверное думаете для чего нам личная беседа, верно? Не переживайте Ваше Величество, я не буду говорить о… том, чего возможно ожидаете. Это… ваша семья. И вы и без меня, старика, знаете все. Готов поспорить, что во дворце вам говорят об этом каждый день. Не хочу вмешивать дочь в политику на самом деле, пусть я и понимаю, что поздно и она давно… вмешалась.
Ты слишком хорошо знал этот дворец. Ты слишком хорошо знаешь всех въедливых министров, слишком хорошо знаешь, что такое династия без наследника и слишком хорошо знаешь – сколько претендентов на лакомый кусок ничем не закрепленный. А еще ты знаешь, каким не защищенным цветком была твоя дочь. Таким остаться значит на гибель себя обречь.
— Иероглиф «дэ» означает "нравственность", "добродетель", что считают главным подспорьем правителя. Вы знаете. Он переводится, как «десять глаз смотрят на поступки одного сердца». Вы Король. За вами всегда будут следить, как и за… вашей семьей. Никогда не принадлежать себе, ваш отец тоже считал эту ношу тяжелой в свое время… Остается только смириться, а прислушиваться только к дельным речам.
Ты отдал во дворец д о ч ь, дворец погубил твоего сына и в этом есть твоя вина. Кому-то ты очень сильно мешал. И ты догадываешься кому именно.
Передвинешь пальцами черный камень, еще горсть в ладонь возьмешь задумчиво.
— Не стану поучать Вас, простите, Ваше Величество. К старости я стал слишком много размышлять, а Вам сейчас нужно совсем не это, вы пришли по делу, а давать советы вам могут многие. Вам нужно не размышлять, Ваше Величество. Солнце поднялось, можно начать действовать. Моя дочь… ваша жена, — кашлянет, постучит по груди, отопьет немного травяного чая. — В письме рассказала обо всем. Это хорошее дело. И когда-нибудь его стоит придать огласке. Нельзя скрываться вечно, Ваше Величество. Я всегда был тем, кто занимался образованием, дальше лезть не хотел. Но знаете… чем образованнее человек, тем больше вопросов у него появляется к миру и к правящему миром. Некоторые считали и считают во дворце до сих пор, что крестьяне должны оставаться безграмотными. Так безопаснее. Я думаю, если вы готовы идти на такие изменения, то готовы к последствиям. Вам нужны единомышленники и однозначно сильнее, чем я. У меня есть только книги и старые воспоминания… — передвинет камень на другую линию, окружает.
— Есть еще одно… Вам нужны талантливые люди, верно? Которым вы бы могли доверять. Вам нужны новые люди. Человек талантлив от рождения или же просто трудолюбив – не важно. Важно то, что это не зависит от его положения. Я всегда ценил талант. Нынешняя система образования для молодых чиновников… Ваше Величество, талантливые, но бедные молодые люди будут использовать свои таланты не в том русле, а все потому, что в Сюнгюнгван по правилам набирают детей на самом деле даже без экзамена. Экзамен устарел, как и его система. Изменив систему, возможно получится изменить и… людей. А пока они будут писать письмена с требованиями изменений, призывами к бунту и прочему, обиженные несправедливостью. Я думаю, вы слышали о таких письменах. Один человек не может уследить за всем, вы просите помочь меня в том числе. С этим я смогу вам помочь…. С детьми… Но…
Министр Сон поглядит на него. Вон был бы в его возрасте, если бы остался жив, если бы когда-то послушал его и был осторожнее, не навлекая подозрения. А может быть, даже если бы и послушал бы – результат был один и тот же.
— Думаю, во дворце я вам не нужен, Ваше Величество. Это вызовет лишнюю путаницу. Нынешний министр церемоний решит, что вы хотите его заменить, переметнется чего недоброго на другую сторону. Люди же в министерстве не буду знать, как ко мне относиться – как к простому чиновнику или министру. У вас достаточно проблем, Ваше Величество, а если вдруг захотите спросить что делать… я скажу вам и без этого. Пожалуй, для дворца я себя изжил. И еще на вашем месте, я бы перестал защищаться, — кивает на доску для бадука, по которой рассыпаны камни черные и белые в комбинацию замысловатую. — Еще пара ходов и вам стоит атаковать. Не упускайте момент.
Выйдете из твоих маленьких скромных покоев наружу, на солнечный свет. Оглядишь двор, внимательно, глаза потеплеют, когда завидит дочь, успевшую поймать за руку Хену, отряхнуть ветхую одежонку и заговорить с ребенком о чем-то своем. Она вроде как улыбается, но в улыбке, которую знаешь с детства появилось что-то тебе незнакомое. Она выросла. Без тебя. Воль наматывает бумажного воздушного змея на катушку \мастерили монахи для все тех же ребятишек из горной деревеньки, которые любят сюда приходить\, заигрывается среди детей, щеки краснеют.
— У меня будет просьба, Ваше Величество, точнее две. Я бы хотел узнать, где похоронен мой… сын. И… еще одно… — посмотрит на развлекающую детей дочь, которая пожалуй родилась и выросла слишком удивительной. Не для дворца. Но поздно. — берегите ее. У меня больше никого не осталось. И мне больше некого об этом просить. А она любила танцевать в детстве. Танцевала ночью, когда никто не видел – смущалась постоянно. А сейчас танцует?...
Министр Сон знает ответ.