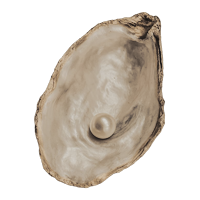***
давай сыграем в прятки
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться22024-06-25 23:08:35
10 сентября 1733 года
В трактире стоит духота, запах кислого вина и не менее кислой квашенной капусты. Мужики то и дело рвут глотки, а офицеры сидят за столами чинно, тихо, боясь лишний взгляд в сторону бросить; авось за стеной какая «крыса» канцелярская сидит или прямо в зале, да наблюдает, прислушивается, записывает под диктовку в маленькую записную книжку огрызком угля. Неспокойное нынче время, уж точно не для разговоров откровенных. Молчи, если жизнь дорога — так говорят умные, образованные люди. Они разместились поодаль, в самом тёмном углу, чтобы разговор вести хотя бы на полутонах. Встречаться здесь не столь опасно, можно затеряться среди пьяной толпы, таких же офицеров и солдат, пришедших молча запить свою кислую жизнь кислым вином. Однако можно ненароком под шпионский взгляд попасть, под наблюдение, и тогда ничего доброго не жди.Кирилл залпом допивает пиво из кружки, чтобы не отличаться от всех остальных, кто пришёл сюда нахлебаться. Главное, не отличаться, не привлекать внимания не только лишнего, но и какого-либо. Нынче слишком тихие выглядят подозрительно. Всё кувырком, всё противится человеческим законам. Они-то и людьми себя перестали ощущать.
— А я говорю, не может такого быть, — упрямится Еремей, уже довольно подвыпивший. — Не мог он оставить завещания... — все мигом переменились в лице, заставив его и голос понизить, и осмотреться по сторонам. — Не мог на кого попало! Сами подумайте, близкой родни не то, чтобы много, никого не осталось кроме неё. Не конюху же великую державу доверять.
— Не люблю я эти разговоры, господа, — Володя звучит как неизменный голос разума, спокойный и отрезвляющий. Но на сей раз Еремею удалось закинуть то самое зерно сомнения, которое станет прорастать всё стремительнее с каждым новым днём. Гриша вовсе молча наблюдает за друзьями, заодно за всем пьяным обществом, которое грозится устроить в кабаке погром.
— Господа, как же вы не понимаете, ежели там стоит имя цесаревны... — теперь шёпотом говорит, склоняясь над столом. О таком вслух — и впрямь всё одно что подписать смертный приговор.
— Тогда она в большой опасности, — задумчиво заканчивает Кирилл. Её до сих пор цесаревной зовут, пусть ныне здравствующая императрица и потрудилась сделать всё, чтобы перестали. Зависть губительна и зачастую для тех, кому завидуют. Кириллу этот разговор не нравится не меньше. Не нравится, что говорят о ней — его жене, его любимой женщине, матери его ребёнка в конце концов. Говорят так, словно имеют право распоряжаться её жизнью. Идея посадить на престол Лизу, которая нынче тайно гуляет по полкам, не нравится ещё больше. Он вовсе отказывается её принимать / воспринимать как реально существующую. Этого не должно произойти.
— Если об этом знает канцлер наш и государыня наша, — переглядывается с друзьями, пытаясь добиться их поддержки и понимания, — она совсем нежелательна не то, что в столице, а в любом государстве, в любом захолустье. Потому что всегда будут те, кто захотят ею воспользоваться. Законный наследник — это причина к восстанию и перевороту.
— Верно, и государыня наша этого так не оставит, — Володя поддерживает первым.
— Уже не оставила. В этом деле нужно правильно рассчитывать силы, а сейчас это невозможно и, если хотя бы кто-то начнёт подталкивать её к этому... — сжимает крепче кружку, поджимает губы упрямо, по спине холодок пробегается, — я готов на месте застрелить этого человека, — заканчивает стисну крепко зубы. Внутри он пылает праведным гневом. Их первое дитя появилось на свет в изгнании. Слава Богу, роды прошли благополучно и подле оказался надёжный лекарь. А они говорят о каком-то завещании. Теперь этого недостаточно. Недостаточно ткнуть бумажку с подписью императорской после того, что пережила Россия.
— В таком случае, гвардия и сама по себе восстанет.
— Она уже восстала и чем это закончилось? Кому-то стало легче жить? Нет, только хуже. Сейчас время неподходящее.
Припав к стене, посапывает Сафонов, что-то невнятное бормочет во сне. Пьянеет быстро — слабак. Теперь на барабанах он разве что похоронные марши выбивает. Они все точно, как на похоронах, то ли готовятся к своим собственным.
— Но в одном я должен согласиться, — Кирилл поднимает внимательный взгляд на сидящего напротив Еремея, — эту бумагу нужно забрать.
Володя на пару с Гришей оживают мигом, уставляясь на него недоумённо. Должно быть, тоже пьян. Только Кирилл после кружки пива более чем трезв. Ему пьянеть никак нельзя.
— Я догадываюсь, кто может её хранить. Французы богу души отдали, когда пошли на сделку с нашим канцлером. Собственными глазами видел, клянусь.
Перед ними за столом дрыхнут какие-то мужики в тулупах. Еремей оборачивается снова, проверяя нет ли поблизости того, кто может услышать этот смертельно опасный разговор. Возможно, они могли бы выбрать место более безопасное и менее людное, впрочем, оттого более вызывающее подозрения.
— Этой бумаги быть не должно.
Прости Саша, но кажется всё зашло слишком далеко.
— Было бы неплохо спросить об этом цесаревну, — снова Володя, разве что менее уверенно на этот раз. Даже он, столь разумный, поддаётся сомнениям.
Кирилл резко качает головой. Кирилл боится. (Его тоже боялись). А если она сделает выбор не тот? Нет, разумеется, нет, Лиза не может пренебречь семьей; но Лиза и завещания не видела, не знает, что Саша её преемницей оставил.
— Я не могу спокойно спать, зная, что за ней могут в любой миг прийти.
Зато придут за тобой.
Ты хотел как лучше, а своими же руками всё разрушил.
Ты виноват, Кирилл.
Ты виноват, виноват, виноват.
Кирилл отрывается от подушки в холодном поту. Кругом тёмно-синяя ночь, два острых луча лунного света, колотящееся сердце в грудной клетке. Хватает воздух отчаянно _ жадно, будто целую ночь находился на дне, под толщей воды. И вовсе не чувствует влаги на щеке, обросшей жесткой щетиной давно. В таком же холодном поту он проснулся в первую ночь в изгнании, в таком же холодном поту просыпался после и падал на землю под градом ударов, когда пытался бежать. Просыпался от кошмаров ночных, в каких видел её; она то в пропасть летит, то на эшафот восходит, то в четырёх стенах, высящихся до небес, монастыря заперта — и всегда, всегда в голове стучало одно «это только твоя вина». Отчего-то не тронулся умом, сам не знает. Давно пора бы с такими снами. А в каких-то он пускается в бесконечные поиски по бесконечным тёмным лесам, крича одно и то же имя. Маша. Со счёту сбился, сколько было этих снов, этих ужасов, в которых их д о ч ь терялась в лесу, и никто не мог её найти. Кирилл был уверен в том, что победил самого себя, но потом появился Семён во дворе его дома. Появился и напомнил обо всём. Глаза так и блестят предательски, предавая ту бесчувственную личность, какой удалось обзавестись за годы в ссылке. Впрочем, ему с детства говорили, что плакать мужчинам непристойно, не положено, стыдно. А если мужчина потерял всё, разве ему что-то ещё остаётся?
Зачем ты искала меня, Лиза?
Не проще ли было всё забыть?
— Ты этого заслужил, — слышится позади голос. — Ты должен прожить счастливую жизнь, — можно подумать, ангельский голос льётся с распахнутых небес. Хочется даже улыбнуться. — Подумай, она искала тебя два года. Всё будет как прежде.
— Ничего не будет как прежде, — он упрямится, ведь согласиться с тем, что счастье где-то близко — то ли слишком просто, то ли слишком невозможно; более того, эгоистично, а он достаточно побыл себялюбцем и ничего хорошего из этого не получилось. Несколько разбитых судеб — это цена его мимолётного счастья. Поэтому он не согласится никогда. — Мы все изменились. Стали другими людьми. Я даже представить не могу, какая она теперь.
Он знает лишь то, что Лиза должна измениться. Быть другой. Может быть, Лиза его ненавидит, а ведь стоило бы, заслуженно.
Она искала твою могилу.
Она искала тебя.
— Не будем об этом. Лучшей жизни заслуживаешь ты. Мы поедем, чтобы тебе вернули доброе имя, и Алёша мог иметь более счастливое будущее, чем имел до этого. Он уж точно не виновен ни в чём.
Он попытается снова заснуть, но кажется, до самого рассвета будет лежать в постели с открытыми глазами.
Собраться в дорогу обязались за день. Впрочем, собирать особо нечего, если отправляешься в новую жизнь, где тебе обещают вернуть всё, что было потеряно. Они решили оставить многое нажитое трудом непосильным местным, руководствуясь тем, что в столице впрямь необходимое для жизни получат. А местные жители продолжат выживать, никто не вызволит их из этого заточения, да они и сами-то не хотят. Кириллу казалось, целую вечность бродит по полу опустевшей избе, словно из неё вдруг вынули саму жизнь. Каждое бревно здесь было срублено его руками и уложено под внимательным надзором опытных строителей. Подобным образом почти что всё поселение было построено — руками новоприбывших ссыльных. Зато ощущаешь себя весьма полезным, не дураком, который ничего не умеет. Более того, ему удавалось долгое время не думать о своей несчастной судьбе, скорее о судьбах других людей, которым предстоит здесь поселиться. Они все были печальны до того, что мочи нет. Мало здесь рассказывают счастливых историй, однако люди будто бы постепенно становится счастливыми. Их счастье заключаются в самых простых явлениях: солнце вышло, снег перестал валить, охота удалась, рыба в сети поплыла или редька в огороде прорвалась из земли наконец-то. Все диковинности цивилизации, какие путешественники привозят, для них — истинные чудеса. Совсем не то общество, которое обитает в центре империи и куда предстоит вернуться. Впрочем, Кирилл не особо уверен в том, что вернётся на службу. Может быть, отпросится в какое-то загородное имение, где будет своими руками что-то мастерить и зарабатывать на жизнь. Будущее — сплошные догадки. А расставаться неожиданно тягостно с тем, во что даже душу вложил. Казалось, души больше нет. Теперь понимает, что какая-то, пусть израненная и слабая, была. Кирилл никогда не думал, не представлял как возвращается назад, потому что с первого дня уразумел — это невозможно, к чему зря душу травить. Всё, что происходит сейчас — дикость настоящая.
Кедровые и еловые брёвна всё ещё пахнут лесом, утренней свежестью, топями; их нынче отправляют на постройку кораблей да в петропавловскую гавань, где строится новый город. Этого города ему уже никогда не увидеть. Ладонью коснётся гладкого бревна, прежде чем в последний раз попрощаться. Оказывается, что-то живое осталось. Проститься и люди пришли, если не весь острог, то определённо добрая часть жителей. Кирилл каждому пообещал поддерживать их предприятия хотя бы через путешественников, которые бывают в Петербурге или хотя бы неподалёку от него. Совесть не позволяет бросить их всех на произвол, а самому отправиться жизнь свою устраивать.
— Е-гей, — Ефим издаёт звук похожий на сожалеющий вздох, стягивая меховую кушму с головы, — чужаки одни беды приносят. Гнать его надо было ещё вчера!
Под другой рукой держит презент — кубинские сигары.
— Полно вам, наш Кирилл Андреевич столько великих дел может ещё сделать, да только не в этой глуши, — подхватит кто-то из толпы и будет, пожалуй, прав. — Своим так и не смог стать.
— Только ему не говорите, огорчится, — весело крякнув, он начал махать рукой вслед отъезжающему экипажу.
И неторопливо, с каждым днём величественные горы, их белоснежные верхушки растворялись в небесной синеве. Однажды вовсе исчезли, и словно все семь лет — один, долгий сон.
Что же, Семён Иванович мог собой гордиться.
***
В Петербурге до сих пор льют дожди и небеса свинцовые опускаются совсем низко. Ветер обрывает пожелтевшую листу, окуная в лужи на дорогах яркими пятнами посреди унылой серости. Погода здесь не изменилась. Кириллу запомнился этот город самым дурным образом: его силком увозили отсюда, не дав времени ранам затянуться, не дав проститься как подобает перед вечной разлукой. Здесь его держали в крепости, здесь он лишался чувств с десяток раз под пытками, и здесь же пролито было крови товарищей ручьями — гвардейцы, они все так или иначе его товарищи, собратья, носившие когда-то в сердцах такие же идеалы, принципы, веру в честь и отечество. Все ужасы стёрли из памяти счастливые минуты, а ведь таковых было немало. Этот город подарил ему первую и на всю вечность, любовь. Но его дочь родилась за тысячи миль, впрочем, как и сын, теперь выглядывающий в окно с огромным любопытством. Когда его увозили, в маленьком оконце виднелся клочок неба, сквозь просачивался свет закатных лучей солнца, столь равнодушного к людским бедам. Сейчас он видит плывущую улицу, свежую после дождя, ещё хранящую тепло после жаркого августа. Мимо проезжают столичные, модные экипаж, кто-то проносится верхом и неуклюже обрызгивает водой из лужи какую-то даму в карете — а вот не надо было высовывать любопытную головку. Торговцы с переносными лотками бродят, разумеется, не находя покупателя, ведь все спрятались от дождя, только какие-то долговязые хмурые господа в чёрных плащах проходят мимо. Любопытно, шастают ли до сих пор служащие Тайной канцелярии по улицам? А вот их карета проезжает мимо харчевни, двери которой выплёскивают на улицу запах горячего хлеба, звуки скоморошьей музыки, весёлые голоса, смех, — весьма по-столичному, на каждом углу по питейному погребу, трактиру, таверне, и все праздно проводят время. Где-то в сердце защемит, когда издали послышится колокольня Петропавловского собора; а где-то в каком-то полку молодой офицер отбивает барабан и снова мутит, снова хочется развернуться да прочь бежать. Только бежать определённо поздно. Здесь у Семёна Ивановича подмога за каждым поворотом, достаточно императорскую печать показать.
Ксюша уезжала отсюда несколько раньше и ещё отчаяннее уверовала в то, что никогда не увидит любимого города. Она мало чем от него отличается, не понимая толком, для чего теперь эта столичная жизнь. Вообразить себя в светском обществе всё одно что на оперной сцене, и это, пожалуй, не самое нелепое сравнение. Она более не ощущала себя благородной дамой, княжной, а уж тем более люди таковой принимать не станут. По меньшей мере, ей так казалось. Всё одно будут шептаться, сплетничать, а теперь тем более, когда она вдруг ж е н а некогда супруга императрицы. Об этом вовсе лучше не думать, чтобы голова не разболелась. Они станут посмешищем, развлечением вместо цирка, в этом нет сомнений. Но когда посмотришь на Алёшеньку, мигом отлегает тяжесть от сердца. Теперь он сможет учиться и стать тем, кем пожелает: хоть бравым офицером, хоть бесстрашным гардемарином, а быть может, учёным или художником. Ей более ничего не нужно. Не ради себя ведь, не ради себя. Может быть, Кирилл однажды образумится да поймёт, что теперь не существует преград к настоящей, счастливой жизни. К счастью или сожалению за семь лет (а знакомы они были и дольше) она поняла, что втолковать ему то, с чем не согласен, едва ли возможно. Ежели сам не передумает. Может, передумывать не придётся и Елизавета Петровна давно готовит указ об их разводе или о непризнании брака. Но разве она когда-либо была столь жестокой? Голова идёт кругом.
Один Алексей находит Петербург ещё не запятнанным, красивым, величественным и, пожалуй, диковинным. В один миг начал шёпотом читать различные вывески, в основном названия питейных заведений и какие-то конторы. А чуть погодя посыпались вопросы: отчего людям так весело, для чего важному дяденька палка (трость) и смешная шляпа на голове, и водятся ли в этих каналах морские котики. К сожалению, ни китов, ни морских котиков здесь не обретается, что Алёшу несколько огорчило.
Кирилл узнаёт улицы, узнаёт дорогу, понимает, что этой дороги сейчас быть не должно. Внутри всё переворачивается, кулаком невольно ударяет по стене кареты, требуя немедленно остановиться. Здесь Дворцовая площадь и сам д в о р е ц. Откидывая шторку с бахромой, поднимает взгляд и натыкается на едва ли знакомого офицера, едва ли похожего на Семёна. Должно быть, к их карете присоединилось сопровождение.
— Господа, что происходит? — он предполагал что угодно, только не э т о. — Не кажется ли вам, что три месяца пути — это достаточно долго и нам хочется отдохнуть?
— Кирилл Андреевич, мы выполняем приказ, — чинно оповещает офицер, склоняя голову.
Разумеется, они выполняют приказ. Он ведь знает, что значит «выполнять приказ». Это когда тебе не оставляют никакого выбора. Но ему плевать на их приказы, потому что он никак не готов к тому, чтобы переступить дворцовый порог. Не готов к этой встречи, которая неминуема. Не сейчас. Может быть, позже, только не сейчас. Однако, карета трогается.
На фоне бирюзовых стен оживают призраки, а их голоса нашёптывает сама Нева. Меж колоннами они бродят. Он их вот-вот сможет разглядеть, от чего выходить из кареты совсем не хочется. Но разве имеет право быть трусливым перед ними? Алёше совсем не терпится вырваться на свободу, что не удивительно — провести столько времени в трясущейся карете. Он совершенно непривычен к подобным условиям, ему нужна свобода, которой здесь нет. Однажды привыкнет. Станет таким же, как все столичные молодые люди, — с грустными глазами, задумчивыми лицами и вьющимися волосами. Ксюша посмотрит на него так, словно они прощаются. А если прощаются? Если его обратно не выпустят? Она бы этого хотела и не хотела в одночасье. Она же понимает, что должна. Должна отпустить, даже если навсегда. Должна отпустить сейчас, не смотреть этим взглядом, потому что о н а, государыня, была первой и законной. Кирилл улыбается слабо, после чего спускается на твёрдую землю. Не качает, не трясёт, разве что голова кружится. Её пальцы скользнут в его ладонь, сожмёт несильно руку, помогая и ей спуститься.
Их встречает некий гофмейстер, пожилой, но довольно подтянутый и стройный мужчина. Кирилл не слышит толком ничего, кроме того, что госпожу Волконскую и Алексея сопроводят, куда положено. Здесь на лице возникает заметное беспокойство и его торопятся уверить в том, что сопроводят в подходящее для отдыха место. Кирилл неуверенно кивает, стыдясь самого себя. Если ты боишься, что же им остаётся? Нет, они до сих пор не избавились от столь прочно навязанного страха. Кажется, сейчас уведут на пытки, или сразу на казнь. Вряд ли в этом есть хоть сколько-нибудь их личной вины.
— А вас прошу следовать за мной, — учтиво произносит гофмейстер.
— Эта повышенная секретность — тоже приказ? — впивается пристальным, недоверчивым взглядом в лицо напротив.
— Никакой секретности, Кирилл Андреевич. Вы встретитесь с Её Величеством вскоре, но я не могу допустить вас в таком... виде.
— Конечно же, потому что я пробыл три чёртовых месяца в дороге.
— Её Величество вас ожидает.
— Это я уже слышал.
У этого человека удивительная способность не замечать чужого раздражения. Кириллу приходится проследовать за ним, не подозревая что в этом мире появился новый вид пыток.
Это было несколько оскорбительно. Будто люди, живущие в Камчатском краю, спят с медведями в берлогах.
***
Каждый шаг разносится громким эхом во всём его существе, а биение сердца стоит в ушах. Он себя-то самого теперь не признаёт, словно ничего не изменилось, только взгляд в один миг проникся усталостью и отрешённостью. Мундир чистый, отглаженный, сапоги хорошенько до блеска натёртые, и даже шпага в совершенно другой жизни, подаренная покойным Петром Великим, снова при нём. Но всё должно быть знают, что как было — не будет. А это представление он находит странным.
Верно, Кирилл даже в самых смелых своих мечтах и мыслях не представлял, как пройдёт э т а встреча. В совсем иных обстоятельствах он, быть может, и переступил порог Зимнего дворца с тихим счастьем на пару. Но они не виделись семь лет, его принудили к женитьбе и ответственности, от которой никогда не сможет освободиться ни добровольно, ни принудительно. Он пережил худшее время своей жизни, когда казалось, что куда проще, безболезненно умереть, чем продолжать зачем-то бороться. И он едва ли знает, что должен произнести, увидев её. Вероятно, теперь никто не говорит первым в её присутствии и любую беседу ведёт она, как и заканчивает по собственному желанию. П о в е з л о. Семь лет наконец-то остаются за спиной, а впереди совсем короткий путь через анфилады и всё до боли знакомо, до болезненности в сердце.
Верно и то, что в душе страх ворочается. Какой она стала? Какова теперь её императорская воля? Впрочем, он не намеревается просить ничего кроме спокойной и тихой жизни, а этим одарить ей труда не составит. Ему ничего не нужно.
Несколько минут Кирилл стоит перед запертыми дверьми, ожидая пока будет сделан доклад императрице.
Она больше не твоя Лиза,
больше не твоя,
не твоя
— Её Величество ожидают вас, — сообщает офицер, после чего двери приветливо распахиваются.
Наверное, этих слов он боялся больше всего, потому что обратного пути нет. Он делает глубокий вдох выпрямляя спину, рука сама собой опускается на эфес шпаги — помнит ещё отточенные, заученные движения, холод металла, отвагу, которая мигом появляется, стоит шпагу взять в руки.
— Кирилл Андреевич Волконский, — и его представляют во второй раз, мощный голос разлетается по Петровскому залу.
Первые несколько мгновений ему кажется, что вдалеке на троне совсем другая женщина, незнакомая. Чем ближе подходит, тем больше улавливает знакомых черт. Она. Точно она. Однако останавливается вероятно на середине положенного пути, того даже не замечая и не имея никакой, ни физический, ни эмоциональной возможности идти дальше. Она всегда была такой хрупкой и миниатюрной, но сильной внутри. Похоже, такой и осталась, разве что корона появилась (пожалуй, довольно тяжёлая). Издалека он видит неизбежные перемены во всём: в лице, во взгляде, в осанке теперь более царской — хочется поклониться. До чего же злая и жестокая насмешка судьбы. Она теперь не за тысячи вёрст, а здесь, совсем рядом и он не может подойти ближе. Когда-то те тысячи казались пустяком, он был готов преодолеть их, чтобы вернуться. А теперь так сложно сделать несколько шагов?
Но самое паршивое то, что сердце сжимается в тисках ещё сильнее, грозясь раздавиться и облиться кровью от никуда не исчезнувшей любви. Кирилл давно не мальчик, даже не тот, кем являлся в их первую судьбоносную встречу, чувства собственные разгадывает быстро и понимает, что даже сквозь эти тёмные года может сказать о своей любви. Он её любит. Всегда любил. Видит сейчас и любит, вслух никогда не скажет и сделает всё возможное, чтобы эту любовь спрятать на дне потемневших глаз. Потому что его любовь сейчас совершенно лишняя, неуместная, невозможная. Когда-то он не знал, позволено ли ему любить царскую дочь, а императрицу? Любят ли его в ответ? Мало ли для чего она искала его могилу. Искала, как и всех других пострадавших безвинно.
Он только крепче сжимает эфес шпаги, в котором и черпает свою силу, не иначе, набираясь мужества сделать последние шаги после бесконечных, изнурительных вёрст. Перед ним здравствующая императрица великой державы, которая теперь продолжит начинания своего великого отца и успевшего прославится брата. Следует вести и держать себя подобающе тому, кто пред ней предстаёт. Следует быть благодарным, пожалуй, за оказанную честь и милость.
И эти минуты будут вечностью тягостной.
Не твоя. Больше не твоя. Ты сам виноват в этом.
— Ваше Величество, — склоняется перед ней, как и положено любому смертному, замирает.
Ну здравствуй, Лиза.
Ему во всех подробностях описали, как следует приветствовать императрицу. Будто он никогда не приветствовал почившего императора, приходящегося одним из самых близких друзей. Кирилл не перечил. Быть может, здесь изменилось в с ё. Даже этикет придворный.
Давно не виделись.
Хотел ли видеть её на троне однажды? Сам не ведает и врать не станет о том, что хотел. Хотел лишь жизни мирной, спокойной, которая позволит вырастить дочь в счастье и добре. Не так-то много для человека, но слишком недосягаемая роскошь для тех, у кого по венам кровь течёт царская. Он соглашаться с этим не желал и был наказан за своё упрямство.
— Позвольте поблагодарить вас за оказанную милость, — выпрямившись как на плацу, поднимает на неё невозмутимый взгляд.
А внутри всё пылает. И обжигает. Казалось, гореть давно нечему.
— И за то... что не забыли.
Будто ты смог бы её забыть. Так положено. Так нужно.
Кирилл не находит себе места битый час. Расхаживает беспокойно из стороны в сторону, подтачивая костяшки пальцев — это отвратительно, а ничего иного не остаётся в столь тревожное время. За дверью происходит нечто невообразимое. Верно, он никак не может вообразить, его ведь, не пускают. Будто снарядом разрывает изнутри и на мелкие крупицы. От каждого звука перепугано вздрагивает. Зато сторож их, Фома Игнатьевич совершенно спокоен, дремлет в уголке, подрывается, когда Кирилл его пинает и начинает успокаивать, мол «я такое уже видал, обойдётся, барин». Сейчас он единственный, кто может поддержать, понять, проявить хоть какую-то мужскую солидарность. Женщины же хором восстали против, будто из законного супруга превратился Кирилл во врага народа. Может быть, бабьего народа.
— Всё! Не могу больше! — восклицает, когда совсем невмоготу становится, когда раздирает изнутри до того, что боль пронизывает. Фома Игнатьевич снова вздрагивает, глаза открывает, готовый исполнять свой долг — сторожить и разгонять воров метлой. А ещё барина оттаскивать от двери. Проспал свой долг.
Кирилл распахивает двери, окидывает взглядом суматоху, не разбирая толком ничего. Подбегает к постели, падает на колени и очень быстро находит её влажную руку.
— Лизонька, милая, — целует тыльную сторону ладони несколько раз, а сердце нещадно начинает колотиться. — Всё будет хорошо, ты у меня сильная... и самая красивая, — не отнимая губ от её руки, смотрит умоляющим взглядом. Она сейчас впрямь самая красивая женщина на всей земле. Самая любимая. Кирилл словами не сможет описать, как сильно любит её в этот миг, как сильно любит каждую секунду прожитую.
— Потерпи ещё немного, я теперь рядом, — прижимает её ладонь к щеке, улыбается, а сам готов с ума сойти, умереть, лишь бы отнять любую боль, которая могла мучить Лизу.
Сказать бы «буду рядом всегда», но что-то внутреннее не позволяет. Словно постоянно над его шеей нависал меч, холод которого чувствовал едва. Не зря, впрочем.
Позже будут говорить, что роды проходили туго, нерадостно да с божьей помощью. Посреди ночи Кирилл самолично отправился за медиком и повитухой, которые были известны на всю округу, знали всех родившихся и подрастающих детей, так как принимали в их рождении непосредственное участие. Ему бы оставаться с Лизой, но никому не доверял столь ответственное задание. Надо было убедиться самому в том, что лекарь явится как можно быстрее. И вот уж давно перестал следить за течением времени, всё одно ночь тёмная, бесконечная, разве что вдалеке первые петухи глотки прочищают. Теперь сидит на краю кровати и крепко держит её за руку, пока доверенные люди принимают р о д ы. В данную секунду ни о чём думать не может. Только о ней. Лишь бы стало легче, лишь бы это прекратилось.
Когда рядом, тогда на толику спокойнее.
И наконец, раздаётся крик вовсе не взрослого человека, а младенца. Надрывный, громкий плач — это знак хороший (повитуха с Верой Дмитриевной перешёптывается, косо поглядывая на Кирилла, которого быть здесь не должно), значит ребёночек дышит, жить будет. В первые секунды он вовсе не осознаёт того, что плачет е г о ребёнок. Разумеется, их ребёнок. Они ведь, хотели, ждали. Лицо Кирилла лучится совершенным счастьем, настолько совершенным и чистым, что сам теряется в пространстве и времени.
— Ну барин, принимайте красавицу-дочь, — ласково произносит повитуха, передавая в руки матери обёрнутое простынкой дитя.
— Дочь... — завороженно повторяет, глядя на это крохотное совсем создание. Настолько крохотное, что умещается у Лизы на груди и вызывает самые трепетные чувства у Кирилла. — Я же говорил, будет дочь, — тихим голосом, не отрывая взгляда от сморщенного красного личика, которое уже кажется самым красивым. Она точно вырастет красавицей. Должно быть, чувствуя тепло материнское, постепенно утихает. До чего же умилительная картина. А ему бы вовсе запомнить этот миг на всю жизнь, в котором был счастлив как никогда прежде. Теперь любить может вдвойне сильнее; куда ж ещё сильнее? Но нет большего счастья, чем подаренное дитя любимой женщиной; в этом он не сомневается и никогда не станет.
Забывается всё. Даже то, что находятся слишком далеко от близких. Не смогут поделиться радостной новостью, только в письме, которое дойдёт до адресата, когда девочка научится ходить. Нет, это вовсе не ссылка, не наказание, а самые счастливые дни его жизни.
— Машенька, — улыбается нежно, набираясь смелости прикоснутся пальцем к шероховатой розовой щёчке. Смотреть на неё можно вечно и не верить, что родилась твоя дочь. Вовсе не чужая, не товарищеская (всем полком неизменно отмечали любое пополнение у сослуживцев), а своя, родная. Лучшее, что способна дать любовь, и чем Господь за неё вознаграждает. — Лиза, я так счастлив, — поднимает взгляд и растроганный окончательно, целует её. — Спасибо, любимая, спасибо, — второй поцелуй, третий, будто останавливаться не собирается. В иной раз и не остановился бы. Ему кажется, сама Лиза никогда красивее и привлекательнее не была, нежели сейчас. А может быть, он слишком счастлив, до опьянения.
— Чего ты хочешь? Воды? Проси что угодно, всё достану, всё для тебя, — поцелует в последний раз в губы, улавливая слухом где-то позади деликатное покашливание.
Лекарь оставит какие-то наставления, пропишет много питья и покой. Кирилл будет стараться его слушать, не возвращаться всеми мыслями и душой к своей с е м ь е. В покое Лизу едва ли оставят. Он так и заснёт на краю кровати, чтобы быть рядом, ежели что-то понадобится. Он хотел быть рядом и намеревался это делать вечно. Ведь у них родилась д о ч ь.
Где же теперь твоё счастье, Кирилл Андреевич?
В потухших глазах только боль и разбитое отражение женщины, которую ты так сильно любил.
Поделиться32024-06-27 10:38:04
Лиза осторожно перебирает его волосы, имеющие свойство завиваться в эти миловидные кудряшки, которые напрочь стирают его такой суровый для прочих образ и улыбается, прижимая ладонь к щеке, ощущая родное тепло чужого тела. Лиза не может представить жизни без прикосновений, тем более без прикосновений к н е м у, если ей необходимо это как воздух. В этих мимолетных касаниях заключается сама ее жизнь, схлопнутая сейчас до этой маленькой комнаты, пахнущей медовым свечным воском и свежими дровами. Комнатка совсем не большая, по меркам той жизни, которую она вроде и не помнит вовсе – крохотная, но ей много и не нужно, достаточно чтобы рядом на соседней подушке, был он.
— Кирюша, — она зовет его ласково, не так конечно, как привыкла звать детей, заигравшихся на улице, но все же в каждой букве этого имени для нее почти святой распев. Говорят, боги завидуют такой любви, священники всегда твердят, что должно любить одного только Господа, а Лиза готова стать страшной грешницей, Лиза в общем-то согласно гореть в аду, но уж точно не отказываться от этой любви.
На какое-то время они замолкают, оставаясь лежать в этой уютной тишине, где слышно только тихое постукивание стрелок часов и собственных сердец. Они всегда бьются в такт.
Она знает наизусть каждую черточку и морщинку на его лице, знает каждую случайную родинку, знает этот изгиб бровей, который в очередной раз вычерчивает пальцами, словно бы производя какой-то сложный ритуал.
Эта комната – маленькая, худо-бедно обставленная с минимальным вкусом, кажется раем, просто потому, что в этом раю есть ее Кирилл. А большего и не нужно. И она знает, знает в эту самую секунду, что так будет всегда. И счастье, искрящееся счастье переполняет все ее существо.
Она удобнее устраивается на его руке [на утро снова будет спрашивать, почему он не переложил ее на подушку, рука ведь затекла], прислушиваясь к тихому завыванию ветра за окном и потрескиванию поленьев в печке. Ветер никогда не нарушит покой этой комнаты. Его вообще никто и никогда не нарушит, пока они вместе – это она тоже знает отчего-то очень точно. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все. Будет. Хорошо. И словно бы и ветер, ударяющийся об оконца подтверждает это, убаюкивая своей песней, и пламя огня танцующими бликами и его лицо, лицо ее Кирилла все такое же совсем не хмурое, ни капли не изменившееся. Такое, каким она его помнила всегда.
— Поговорил бы ты с Машей. Жуткий ведь бесененок, хуже Сашки, даром что барышня. Только правда поговори, — усмехается, шутливо хмуря брови и подпирая голову ладонью, приподнимаясь с подушки. Рыжие волосы падают на лицо, он убирает их и только ради этого движения стоит жить. — Я тебя знаю – все ей разрешаешь, обещаешь наказать, а в итоге ходите в обнимку. Создали коалицию, а она пользуется.
Но это, конечно, ничего. Да, пусть он и любит старшую дочь может быть сильнее всех, но разве сильно любить это так уж страшно? Ее отец тоже любил ее и баловал куда больше, нежели ее брата, именем которого теперь назван и х сын – прелестный мальчишка, который конечно же мечтает стать офицером, как и отец. А Маша – все в путешественники, которых теперь так много и все непременно что-то раскрывают. И не важно, что женщины на корабле вроде бы к несчастью, да и у штурвала не встают. Юность на то и дана, чтобы м е ч т а т ь. Кто знает, чем все обернется?
— А я тут подумала, от чего бы не поехать куда-нибудь? Сядем на кораблик и отправимся куда? Слышала рассказывали про Архангельск, что там небеса сияют бывает. Или в Рим? Поплывем? Или хоть на речку сходим, Саша думал кораблики попускать, у него такие хорошие они выходят. Может корабли строить станет. Мы же поедем? Завтра?
А ветер за окнами крепчает и все с большей злобой бросается на оконца, невинное потрескивание дров становится таким, словно вот-вот вырвется наружу и все здесь сожжет. И постепенно теряется ощущение безопасности, остается только неожиданно крепко сжать чужую руку, пока весь мир начинает пошатываться. А Лиза все вглядывается в чужое безмятежное, родное лицо, словно это может спасти шатающийся мир от полного уничтожения.
— Ты ведь останешься со мной, Кирилл? — спрашивает она в который раз, спрашивает с такой неожиданной для себя тоской, которой вроде бы быть не должно. Все ведь хорошо, все было так хорошо, так безумно хорошо. Так почему неожиданно тоскливо сжимается сердце, предчувствуя словно что-то худое.
Лиза впивается взглядом за его лицо, словно это последняя тростинка, а знакомые черты все больше расплываются перед взглядом, все быстрее тают под несмолкающие завывания ветра, а она держит руку, по крайней мере ей кажется, что она ее держит, пока это ощущение окончательно не пропадает прочь, оставляя только холод в сжатой ладони. Все одно, что держать в руке кусок льда.
— Не уходи, Кирюша не уходи, не уходи, не уходи, — шепотом.
Но в ответ только ветер продолжит распевать свою траурную песню, насмехаясь над ее мольбами голосом т о й женщины, заставляя сжаться и прикрыть уши руками.
Он ушел. Все ушли. А она осталась. Она осталась одна.
Лиза [впрочем, все чаще слышит она официальное Елизавета Петровна, а это короткое имя осталось для призраков ее памяти: отца, брата и е г о] открывает глаза резко и полностью. Нет больше моментов неторопливого, сладкого пробуждения, свойственных ее далекому прошлому: теперь если ей удается уснуть, пробуждение настигает ее стремительно и похоже на ведро холодной воды. А самое главное не несет за собой чувства бодрости – она никак не может выспаться. Сны лишь издевались над ней, рисуя картинки невозможного будущего или настоящего – в них ничего не поменялось, застыло как и она в семилетней давности, странно переплетаясь с тем счастливым будущем, которое она придумала для них когда-то. Несколько детей, тихая жизнь, счастливые рассветы и закаты. Ничего этого не случилось – их перемололо и переехало, истерзало безжалостно время, в которое не посчастливилось родиться.
Да и к тому же она вообще спала черт знает как. Лиза потирает затекшую от неудобного положения шею – она заснула еще ранним утром на диванчике Музыкальной гостиной, который явно по своим размерам для этого не предназначался. Никто уже и не удивляется этой странной причуде новоявленной императрицы, хотя сначала ужасно пугались, обнаруживая ее в одной ночной сорочке не в царской спальне, а где только не попадя [что неудивительно, были времена, когда какой-нибудь страшной пытке подвергались за чихание]. Не пугались больше и ее силуэта, бродящего по бесконечным анфиладам дворца с подсвечником в руке и какой-нибудь книгой – может сначала и побаивались, что она помешалась рассудком, но после, убеждаясь в том, что с «любимой дочерью Петра Первого» все в порядке, успокоились. В конце концов эта причуда куда безобиднее вздергивания людей на дыбе или превращения несчастных в шутов.
Лиза бы могла сойти с ума давным-давно, могла бы спрыгнуть с какого-нибудь моста прямиком в черные воды Невы еще тогда, когда забрали их дочь [а может и раньше, когда тебя, Кирюша, у меня забрали], но это было бы слишком просто, и она доставила бы слишком много удовольствия той женщине, как теперь величают бывшую императрицу, за глаза обзывая всеми возможными выражениями, зная, что теперь за это скорее полагается награда.
— Это надо прекращать, — слышится где-то за спиной укоризненный голос то ли собственной совести, то ли Вари. — По ночам следует спать. В своей кровати. Тем более Вам.
Лиза потягивается, словно кошка, чувствуя всю ту же усталость, которую чувствовала и перед сном. За окном великолепные фонтаны, играющие на августовском солнце золотыми отблесками скульптур, струи воды вздымаются в ослепительно-голубое небо, радужные брызги повсюду. День обещает быть прекрасным, но Лиза в глубине души уже давно поняла, что никакой даже самый замечательный из дней не сможет ее порадовать по-настоящему. Из нее словно выдернули саму возможность к радости.
— Попрошу у нашего китайца его снотворных зелий, чтобы ты не переживала, — отвечает Лиза и поворачиваясь точно знает, что увидит перед собой.
Эти годы так или иначе оставили отпечаток на всех: у кого-то остались душевные шрамы, а у кого-то физические. Лиза теперь привыкла к Вариному облику. Увидев же свою близкую подругу впервые едва ли не захотелось отвести взгляд, не захотелось вздрогнуть. Варе никогда не нужна была жалость – она им обеим претила, поэтому Лиза никогда не отводила взгляда, не уговаривала ее, что все можно исправить. При их первой встречи она лишь обняла ее и они стояла так никто не знает сколько времени – выжившие и истерзанные. Да, эти темные годы действительно никого не пожалели, но Варе досталось кажется особенно сильно. Ее черты оставались узнаваемыми: все та же бледная кожа, все те же черные как смоль волосы цыганки, все такие же голубовато-зеленые глаза. От того еще мучительнее казался уродливо рассекающий правую половину лица длинный, изогнутый шрам, проступающий бугристыми краями над поверхностью кожи. Сейчас он выглядел еще сносно усилиями Цзы Чаня и его таинственных масел и эликсиров, который он втирал изо дня в день в «дочь господина», как только Варя снова оказалась в Петербурге, но разумеется все равно был отчетливо заметен.
Каждый раз глядя в ее лицо, Лиза чувствовала укол в груди – эта искалеченная жизнь тоже на ее совести. Варя так и не рассказала им ничего, из того что могла бы: это было за год до переворота и тогда им пришлось отступить, все было сорвано. Варю забрали, пытали [тогда арест всегда обозначал пытки]: ничего лучше для незамужней красивой девушки как обезобразить ее лицо и придумать было нельзя. О, Софья Михайловна ненавидела молодость, потому что сама безнадежно старела. Наверное, в своих снах она делала это с самой Лизой бесчисленное количество раз и наверняка ужасно злилась, что не может без определенного повода тронуть и волоса на ее голове, отрываясь на тех, кто ей дорог.
Уж лучше бы она обезобразила Лизу.
Уж лучше бы так.
Если бы не она – не пришлось бы Варе ни о чем молчать. Если бы не ее фамилия – сколько людей были бы живы?
Может и Кирилл остался бы с ней. Может, она бы теперь воспитывала свою дочь.
Но она, увы, Романова – кто-то считает это благословением, а для нее это на самом деле проклятье.
Лиза выжила скорее назло, в бесконечной и яростной попытке таким образом отомстить, но на самом деле жить ради мести, особенно когда она свершается – сложная задача. Лизе пришлось придумать новую цель – жить как и отец ради этой страны. Истерзанная держава все, что ей осталось.
— Хотите, чтобы я вам поверила, идите сейчас. Мы обе знаем, что Вы найдете предлог, чтобы этого избежать.
Варя может и обращалась к ней на «вы» и называла «Ваше Величество», как предписывал этикет, но между ними все осталось по-старому и Лиза была этому ужасно благодарна. Она бы не вынесла от близких ей людей этого придворного снобизма.
— Не будь такой строгой, Варюша. Это ужасно скучно. Не хочу скучать с утра начиная, — Лиза усмехается, откидывая волосы за спину и глядя на сверлящую ее взглядом Вяземскую.
Варя всегда теперь любила говорить, что она останется при Лизе навсегда. Как фрейлина, как друг, жестоко намекая на то, что замуж ей при таком лице не выйти. «Ну и черт с ним – что же там хорошего?», — вскидывала она подбородок с вызовом в глазах, а Лиза молчала в такие моменты, не желая ни спорить, ни причинять больше боли. Варя так прочно уверилась в собственном уродстве, что не желала слушать ничего более об этом. «Это не простуда – не вылечить». А Лиза не могла сказать ей, что снова, не задумываясь выбрала бы ту свою жизнь, где была семья без особенных раздумий. К тому же, за эти годы она научилась видеть то, что люди пытаются скрыть – за время жизни при дворе той женщины, чтобы выжить всегда приходилось наблюдать. Мало ли кто сможет стать союзником, а кто сегодня вечером попытается отравить бокал с вином? Да, она научилась этому точно так же, как распознавать миндальный запах цианида или симптомы отравления аконитом – в конце концов она научилась так же тонко играть с их эмоциями, как и соединять травы в смертельные настойки [она до сих пор держала изящный перстень со смертельной дозой порошка из белладонны при себе по старой привычке – раньше такое было необходимо, если разговор не заладился или же, если бы за ней пришли из канцелярии]. Она знала, что Варя вовсе не смирилась, она видела, что ей больно и за внешней холодной пренебрежительностью и еще большей, нежели раньше, резкостью, скрывается страдающая женщина, которая никогда не смотрится в зеркало.
Но Варя права. За снотворным Лиза вряд ли пойдет – от него плохо соображает голова, да и никогда не снятся сны. А только в этих снах она может видеть е г о лицо. Только в этих снах все как прежде. Лиза хочет хотя бы в них оставаться счастливой. Почти по-настоящему.
— Когда придет мой мучитель? — она разваливается на диване, подпирая голову рукой, беспечно оголяя ноги. Лиза уже привыкла вне участия в собраниях коллегий, общением с канцлером и прочих бесконечных государственных дел, выглядеть так, словно ее вообще ничего не волнует, словно вся ее жизнь превратилась в один праздник и ей ужасно весело в нем находиться.
Она должна была стать «веселой императрицей», ни в чем не похожей на свою предшественницу. И пока ей это удавалось.
Варя прячет улыбку в своей привычной теперь язвительности, которая из-за известных обстоятельств стала только хуже:
— К обеду будет. И на этот раз вам совершенно точно нельзя его смущать. Бедняга слишком заметно краснеет.
— Ах, не лишай меня единственной радости в этом занятии! Я успела забыть, что позировать для портретов так утомительно. А художник так молод и так мил, что мне кажется, что и мне снова восемнадцать. Надеюсь, что хотя бы портрет выйдет хорошим.
— Юноша талантливый и отец так считает. А если вы перестанете задавать вопросы: «А позировал ли вам кто-то не одетым?», то портрет будет готов быстрее.
Лиза хрипловато смеется, неторопливо поднимаясь на ноги, ощущая босыми ступнями холод паркета.
— Ну, если мой канцлер так считает – пусть так и будет. Но пойми – молчать несколько часов, при этом стоя неподвижно и сохраняя при этом «царственный вид», как он просит – невыносимо. Так что я буду смущать его столько, сколько захочу.
***
В Петергофе двор был уже все лето – здесь было намного приятнее, нежели в столице, куда все равно придется перебираться к осени. Сама Лиза с куда большим удовольствием обосновалась бы в привычном для себя Царском, но теперь там возведены строительные леса, вовсю идет стройка и в, пусть она и была дочерью своего отца и не желала оставаться в стороне, но браться за топор и пилу, как Петр Великий вряд ли хотела, да и толку от этого было бы немного. К тому же, несмотря на то, что леса уже возвели, а рабочих пригнали, проект новой резиденции не был выбран. Ей совершенно ничего не нравилось из того, что предлагает придворный архитектор – где-то все было слишком простым, а где-то слишком безвкусным и постоянно не хватало какой-то детали. А она планировала выстроить там, на месте старого дома ее матери, куда и была она выслана той женщиной, нечто совершенно грандиозное. Такое, чтобы как Зимний дворец или Адмиралтейство оставалось в веках и им восхищались. Такое, чтобы никто и не помнил, что здесь стоял скромный двухэтажный особняк, какие были в моде в самом начале века восемнадцатого, совершенно до ее поселения [да и в общем-то вовремя] запущенный. Такое. Чтобы никто и не подумал, что им приходилось униженно просить о выделении патронов для ружий, чтобы отбиваться от стай волков, подбиравшихся слишком близко или же о свечах из свиного жира, чтобы хоть как-то освещать его по вечерам.
Лиза отбрасывает мысли о том, что вновь делает это только на зло е й, лежащей в могиле, а сама даже в роскошном Петергофе предпочитает не парадный дворец, а скромный домик в голландском стиле, который любил ее отец из-за близости к Финскому заливу и его любимому м о р ю. Не зря же называл его «Мое наслаждение».
Нет, то, что она построит теперь будет намного грандиознее, намного богаче, так, чтобы та женщина переворачивалась в могиле каждый раз.
Так или иначе теперь они в Петергофе и это ужасно удобно. Летом солнце почти никогда и не заходит за горизонт, ночи будто и нет, а значит так удобно оправдывать этим бесконечные праздники, которые устраиваются здесь, только бы прикрыть собственные страхи за бокалами вина, маскарадами, фейерверками, катанию на лодке, концертами или театральными представлениями. Нет, в отличие от бывшей императрицы, она никогда не забывала о том, что помимо них, нужно заниматься еще хоть чем-нибудь. Чтобы были деньги на праздники, нужно работать.
Просто Лиза боится теней, таящихся за дворцовыми дверьми. Просто Лизе постоянно кажется, что однажды ее разбудят точно также, как сделала она и убьют. Хотя разве боится теперь она смерти? Но за ее смертью снова убьют страну. А у Лизы больше ничего и нет, а значит приходится жить хотя бы ради короны.
Она столько раз хотела умереть, а та женщина не давала ей даже этого жестоко сохраняя ей жизнь, выставляя при дворе как дорогую, ценную зверушку, что даже смерть стала для нее дорогим удовольствием. А теперь умирать нельзя – слишком многое нужно сделать.
Вернуть страну.
Вернуть Машу.
Вернуть Кирилла.
Даже если в гробу. Ей по крайней мере нужно знать куда приносить цветы.
Григорий Сергеевич Вяземский, князь и теперь и канцлер Российской империи приходил к ней всегда в одно и то же время - ровно после обеда. Эта традиция не нарушалась даже тогда, когда они уехали в Петергоф, отдыхать около ласковых вод Финского залива. Он приезжал сюда из Петербурга раз в несколько недель [настолько часто, как позволяли обстоятельства и вынужденные дела] и обычно это были долгие визиты, которые тем не менее Лиза любила. Деятельность отвлекала ее от посторонних мыслей, необходимости продолжать играть свою роль постоянно веселой и лёгкой императрицы. Да и оставлять на Вяземского все важные задачи она не хотела. Нет, не от того, что не доверяла ему [хотя теперь полностью она вообще никому не доверяла] – Григорий Сергеевич был талантливым государственным деятелем, а ей рядом теперь просто необходим был кто-то опытный. Просто Лиза для себя определила, что оставлять на самотёк важные дела империи, а уж тем более отдавать ее в руки тех, кто не носит короны – путь в никуда. Собственно говоря, как и забрать всю власть себе безраздельно - рано или поздно ты превратишься во вздорного тирана.
Рано или поздно и тебе понравится смотреть на то, как мучается в предсмертной агонии замученное животное, которое было бы милосерднее убить.
Та женщина всегда считала смерть слишком лёгким наказанием.
Григорий Сергеевич всегда был спокоен, всегда предлагал какие-то дельные мысли и, как ей хотелось надеяться был с ней откровенен. Так было с самых первых пор их знакомства – поблажки были ей совершенно не нужны.
Сегодня с ними и Матвей, который отлично освоился на поприще иностранных дел – дипломатия всегда давалась ему лучше остальных "пажей ее высочества". Верно теперь уже никто и не вспомнит в этом все ещё не старом мужчине пажа – титул камергера, поручик новоутвержденной лейб-кампании, он был вместе с ней, когда той ночью, которую ей уже никогда не забыть, отправилась в казармы Преображенского полка. Он, Семён и Паша так и остались при ней и поныне. В иностранных делах князь понимает по роду своей бывшей дипломатической службы прекрасно, так что Строганов теперь только рад.
Хотя, Лиза догадывается, что дело тут не только в опыте канцлера, но и в том, что выходец из простой многодетной семьи из Ростовской губернии, любил потомственную княжну, которая для себя решила, что станет вести печальную роль "железной маски" при дворе, но не выйдет замуж. Лизе и смешно и грустно смотреть на них, ведь какая глупость: один все ещё считает, что для княжны не подходит без должного дворянского звания, а другая заранее поставила на себе крест. Лизе может и хочется крикнуть им: "Да будьте наконец счастливы, пока не поздно!", или вовсе женить их и особенно не спрашивать, как делал это отец, но она предпочитает не вмешиваться по крайней мере пока.
Проблемами ли двух разбитых сердец ей заниматься, пока свое сердце разбито на осколки?
Уж лучше разглядывать карту, да рассуждать о воскрешении флота, о котором начисто забыли за это время и до которого совсем не сразу дошли руки после переворота.
— Да, господа, дело хлопотное и затратное. Но сильный флот, я убеждена нам необходим. В это верил мой отец, на этом стоял мой брат. Я думаю также. Необходимо провести перепись податного населения. От уплаты налогов на первый год моего правления были многие освобождены.
— Да, перепись населения давно не проводилась, — задумчиво кивает канцлер, разглядывая эту огромную карту, которая на самом деле ни капли не передаёт размах доставшегося ей в наследство хозяйства.
У тебя, Саша, получилось бы лучше.
У тебя просто не было выбора.
— Если в будущем мы хотим обеспечить себе выход к Черному морю, — она ведёт пальцем по карте прямиком к Крыму. — нам нужно по крайней мере, чтобы нам не мешали. Что там с англичанами? Флот у них хороший, главное чтобы на чужую сторону не встали. В вечные союзы я не верю.
— Союз с Англией не понравится Франции, — замечает Матвей. — как, впрочем, и союз с Австрией.
— Мнение Франции последнее, что волнует меня в этом. Насколько мне известно сейчас у Франции слишком много внутренних проблем, чтобы делать что-то помимо высказывания возмущений. Je suis désolé, — Лиза передёргивает плечами, затянутыми в роскошный шелк очередного платья. Может быть и ей стоит быть поскромнее.
Вот только снова и снова вспоминается, как наслаждалась о н а, когда на очередном балу Лиза находилась в потрёпаного вида платье [и как, пожалуй, злилась, когда ту все равно приглашали на танец].
Память ее определенно отравлена.
— К тому же Франция своим плетением интриг внутри империи изрядно мне надоела. Стоит ввести моду на какой-нибудь другой двор, — она усмехается коротко, а после они вновь возвращаются к вопросу размещения корабельных верфей, материалов для их постройки, освоения новых земель и их использования [в конце концов последняя из экспедиций подавала большие надежды].
Но едва ли удалось поработать в относительном покое, как двери распахиваются совершенно неожиданно и беспардонно. Громкие голоса заполняют пространство, а перед Лизой до того, как она успеет возмутиться появляется огромная корзина цветов – сладко пахнущие поздние астры и георгины, безжалостно сорванные широким и привычно щедрым для этого человека жестом. Даже если бы Лиза неожиданно ослепла, она бы все равно догадалась, кто столь смело и дерзко ворвался без всякого предупреждения и приглашения к ней. Позади то ли храбреца, то ли наглеца [а уж вернее всего – все вместе] маячит испуганное лицо старшего лакея Степана.
Степан всегда гордился своим особенным положением при дворе, появившемся у него, как и у многих после зимнего переворота. Он, который до этого распоряжался разве что парой слуг в Царском и гонял крыс [хотя и в столице приходилось иногда этим заниматься] по пыльным углам, теперь проводил посетителей к императрице, передавал какую-то корреспонденцию и важно командовал огромным штатом крепостной прислуги. Каждый вечер Степан начищал свою ливрею с такой тщательностью, словно готовится на бал, напомаживал и напудривал парик, и требовал такого же идеального вида от остальных. Его стали побаиваться за подобную строгость, но это, пожалуй, только убеждало оного в правильности его действий. Лиза иногда журила его, что превратился старик в домашнего тирана не иначе, но работу свою он выполнял очень ответственно и теперь, пожалуй, был ужасно ошарашен, тем что ему не позволили все сделать по надлежащему протоколу. Но от человека, что теперь стоял на одном колене и протягивал ей этот букет вряд ли волновали душевные переживания какого-нибудь лысеющего лакея в парике.
— Ваше Величество, прошу принять этот скромный дар лета от вашего покорного слуги!
Лиза забирает корзину из его рук, ее быстро подхватывает Степан, бросающий обидчивые взгляды на невыносимого посетителя, а после исчезает за дверью. Покорный слуга – это скорее про него, нежели про Грушницкого, который быстро встает с колен, одергивающего мундир, на котором еще остается дорожная пыль. Где-то сзади тихонько вздохнет Матвей – не всем нравился бравый офицер, но все разумеется молчали, очевидно считая, что он нравится ей.
Цветы преподносили ей постоянно – редкие и диковиные или просто красивые.
А лучшие цветы все равно дарил о н. Все те же простенькие букеты первоцветов тогда, весной, тоже сорванные прямо по дороге – разве можно это забыть?...
Лиза иногда забывает как дышать, пока наблюдает за тем, как ворочается на руках Маша, разморенная летним зноем, накормленная и теперь, в рубашечке, которую сшила для нее Вера Дмитриевна, выглядящая если не как ангел, то по крайней мере как царевна. Не хватало только золотистых локонов, но за эти первые месяцы жизни, она всем своим видом показывала, что никаких золотистых локонов и даже рыжих не будет – из-под кружевного чепчика проглядывали темно-русые, отцовские волосы. И за это Лиза, кажется любила ее еще сильнее [если такое вообще возможно]: все больше ей казалось, что она похожа именно на Кирилла, пусть все и утверждали, что дети с возрастом очень меняются. А прекрасные черные бусины-глаза так напоминали глаза отца, ее, Лизиного отца, которые не достались ни ей, ни Саши, только придавали маленькому личику очарование какой-то серьезности.
Маше было уже три месяца, за которые она научилась кряхтеть, приобрела прелестные щечки [еще бы, если эта дама требует есть едва ли не каждые два часа!] и, кажется, понемногу узнавала тех, кто постоянно крутится около ее лица.
Лиза конечно же постоянно боялась за нее – боялась, что та каким-то образом выпадет из колыбели, которую Кирилл сделал еще до ее рождения, простудится [мало ли детей умирают в младенчестве?] или наоборот перегреется на июльской жаре, спокойнее всего ощущая себя спокойно, только если дочь дремала на ее руках, как теперь, сонно кряхтя, и хмуря бровки.
Но, даже несмотря на всю ее, Лизину любовь, почти что сумасшедшую, несмотря на то, что проводит Маша именно с ней большую часть времени, пока отец ее на службе, но тем не менее успокаивалась она в то время, как ей что-то не нравилось только на руках у Кирилла, что Лиза в шутку называла «предательством».
Лиза так засматривается на дочь на руках, сидя на крыльце домишки, что и не замечает, не слышит, подъехавшей лошади, родных шагов, вздрагивая почти удивленно, когда расцветает перед ней огромный букет полевых ромашек. Лиза поднимает глаза, а потом хохочет тихо, искристо, тянется к нему насколько позволяет сделать это Маша, которой теперь было подчинено все их существование безраздельно.
Его губы пахнут летом – самым лучшим летом в ее жизни даже несмотря на то, что отправили их практически в ссылку, пусть и не называя ее подобным образом.
— Какая прелесть! Где ты их достал? — зарывается носом в ромашки, передавая разбуженную и недовольно кряхтящую дочь отцу, который, возможно, только этого и хочет. Лиза в шутку ревнует, но только в шутку.
Маша, увидевшее второе знакомое и любимое лицо, которое она видит куда реже материнского и от этого, наверное, оно куда ей желаннее. Она улыбается – как умеют улыбаться младенцы, мгновенно становясь самыми прекрасными существами на земле, держится за палец и не планирует отпускать.
— Мария Кирилловна просто красотой своей пользуется. Но в одном мы с вашей дочерью очень похожи – не любим вас отпускать, — Лиза чмокает его в пыльную после дороги щеку, бережно забирая [он всегда расстается с ней с некоторым сожалением] Машу с рук и отправляя того умываться.
Маша конечно же куксится – отпускать отца она тоже не хочет.
А ромашки надобно поставить в вазу. До того они для Лизы красивы.
— Константин Алексеевич, я думала вы еще на границе, — Лиза осторожно выдергивает свое запястье из-под горячих губ. — И кого вы ограбили, чтобы достать такой букет? — последнее она спрашивает скорее из вежливости.
Когда-то ей просто необходимы были чужие касания точно так же, как необходимо было самой прикасаться к кому-то, но это было в той прошлой жизни, в которой у нее были муж и дочь. А теперь едва ли не хочется не снимать перчатки постоянно, только бы не прикасаться к чужой кожи. По спине пробегут неприятные мурашки – так всегда бывает при нежелательном прикосновении.
— Надеюсь, не дворцовые оранжереи, — тихо, но значительно бросает Матвей, просверливая в красивом лбу Грушницкого дыру. Тот, впрочем, предпочитает не обращать на это внимания.
Грушницкого – в прошлом поручика [и даже от этого звания Лизе становится больно – хоть вовсе запрети его кому-то давать], а теперь лихо взлетевшего по карьерной лестнице генерал-поручика от кавалерии, всегда казалось слишком много. Но, тем не менее мало кому удавалось избежать очарования красивого и высокого офицера, совершенно бесшабашного, если иногда не безрассудного. Все он делал не раздумывая: шел в атаку на превосходящего противника, поднимал полки на бунт, охмурял женщин, гулял с другими офицерами до поздней ночи [что потом половина столицы рассказывала об этих ночных бдениях]. Шумный, веселый, бравый офицер – такие нравились ее отцу, с такими ее отец побеждал шведов, с такими же так вышло связалась и она сама. Сын губернатора Новгорода вряд ли он при иных обстоятельствах так легко взобрался бы на пьедестал славы, если бы не удобно подвернувшаяся возможность в виде опальной цесаревны и собственной ненависти к правящей императрицы. Грушницкий считал, что та оскорбляет армию, привечая черт знает кого, а армию он обожал. Впрочем, Грушницкого тоже обожали в его родном Семеновском полку, где он начинал обычным рядовым, дослужившись к их знакомству до известного звания. Его сослуживцы любили этот лихой нрав, безотчетную смелость, рассказывая одну и ту же историю, как во времена войны с турками, он, получив три ранения продолжал сражаться. Как тут не получить уважения сослуживцев.
Рослый, статный и красивый, склонный к кутежам и смелым, рискованным похождениям, он скоро составил себе в Санкт-Петербурге репутацию донжуана. Но от того только любопытнее для Лизы стало в свое время знакомство с ним, привыкшим брать любую крепость, что называется штурмом и не особенно любящего долго рассуждать и продумывать стратегию. Ей нужна была поддержка всей гвардии, а ему, очевидно помимо блистательного будущего еще и драгоценный трофей.
«Это опасное дело, Константин Алексеевич».
«Близость смерти, Ваше Высочество, придает жизни особенно острый вкус».
Он даже ни секунды не сомневался, когда согласился на это. Лиза до сих пор иногда гадает, пошел ли он с ней из-за пламенного желания освобождения Отечества или же просто вообразив, что это очередное рискованное приключение в его и без того насыщенной на приключение жизни.
Так или иначе Грушницкий, следовало признать, действительно обладал своим обаянием человека, который кажется ничего не боится, не смущаясь отказов, да и к тому же действительно был красив. В ту ночь он, заранее знающий в чем будет дело, встал рядом с ней, сверкая темными глазами и смело и почти весело спрашивая у находящихся в казармах: «Ну что, братцы, поможем нашей цесаревне?». Стали бы все столь смело на ее сторону без поддержки этого громкого [иногда раздражающе громкого] человека? Сложно сказать.
Разумеется, как и прочие участники переворота, он получил высокое звание, положение и приблизился к ней. Такова была определенная плата за помощь ее гвардии и не только ему. Может быть Лиза и не хотела возвышать никого столь скоро при других обстоятельствах, но теперь выбора особенно не было. Таким образом он не был обижен своим положением, периодически все равно отправляясь куда-нибудь [и все вздыхали спокойнее и шутили, что теперь в Петербурге станет тише] «на подвиги», когда дворцовая жизнь становилась для него скучна, а она позволяла ему быть рядом с собой, но пока не более того. Такие мужчины слишком любят самих себя, чтобы дарить им любовь еще и свою. Да и к тому же она не собиралась становиться ничьей победой или трофеем.
Но внимание мужчин полезно – в конце концов, пока ты позволяешь им думать, что они имеют какой-то вес, их можно использовать. Главное, чтобы Грушницкий не перегибал палку.
— Прогнали бусурманов, Ваше Величество – теперь еще долго не решатся нападать на наших православных людей! — он усмехается, бросая взгляд на карту и смещая фокус своего внимания на нее. — Устроить бы им войну, уничтожить наконец!
— Война дело затратное и главное – жестокое, — Лиза вздыхает. Не перегибал палку в том числе и не брал на себя слишком много. Его живой интерес в государственных делах, который постоянно в итоге на военных советах заключался в предложении очередной войны, неожиданных вылазок и прочего, не то что бы сильно радовал ее. Да, сейчас, с крымскими набегами на приграничье он и его отряды справлялись отлично. Но пока страна не была готова к чему-то более масштабному.
— И требующее организации лучше, чем маленькие отряды, Константин Алексеевич, — замечает князь, покачивая головой.
— А по мне так меньше раздумий, больше дел! Отсечь один раз и более не позволять вырастать, — он взмахнет саблей, которую держал за поясом. С оружием к ней входить было нельзя, но что ему правила. Нужно будет с этим что-то делать. — Мои бравые ребятки без сомнений живот бы положили, а проклятых всех убили бы!
— В том то и дело, Константин Алексеевич, что я не хочу, чтобы кто-то…клал свой живот и голову на алтарь Отечества. Смертей в нем и так достаточно.
Она хочет было добавить что-то еще. Может о том, чтобы он оставил их на время р а б о т ы, может просто продолжить ее, позволив ему оставаться [не хотелось бы], а может попросить его не врываться столь бесцеремонно, словно бы он решил, что именно ему это дозволено [может он решил, что находится на совершенно особенном счету конкретно у нее], но тут снова прерывает уже знакомый голос: «Ваше Величество…» и хрупкое на самом деле Лизино терпение заканчивается.
— Да оставят ли меня в покое?! Это что проходной двор?
Степана проигнорировали второй раз за день, и он гнусавит возмущенным голосом: «Не казните, Ваше Величество, я говорил, что не принимаете вы теперь».
Но, раз перед ней стояла Варя, у нее действительно было нечто важное. Иначе беспокоить их она бы не стала. В конце концов здесь был Матвей, с которым без особенной надобности она старалась не пересекаться [что при его положении было слишком сложно], а значит надобность была. В руках у Вари письмо, потрепанное настолько, будто отправлено с края света.
С края света.
С края света…
— Ваше Величество, пришло срочное письмо от Семена... От Семена Ивановича.
Сердце – глупое сердце, пропускает удар, словно почувствовав что-то. Эти письма с края света стали за это время самыми главными письмами в ее жизни. Ведь в них решалась ее судьба. Да, в основном они всегда заканчивались на сухих и безнадежных строчках: «Следов не нашел», или: «Буду продолжать поиски». Каждый раз она боялась до ужаса, что прочтет в этом письме роковое: «Нашел могилу», «Умер в монастыре» и каждый раз тихо выдыхала, не видя их, откладывая письмо и продолжая ж и т ь ровно до следующего письма. И вот – снова оно. Черт знает где это письмо мотало и сколько прошло времени, прежде чем она его получила, пусть письмо и срочное. По Вариному взгляду, Лиза понимает, что не ошиблась.
— Господа, я отлучусь на некоторое время. Продолжите без меня, — мысли путаются мгновенно, а в голове застучит настойчиво опасная мысль: «А если вот в этом письме все будет кончено? А вдруг?...», поэтому она слишком легко забывает, что вообще собиралась сделать. — Григорий Сергеевич, позже обсудим вопрос с объявлением приема проектов нового дворца в Царском… — она надеется, что голос ее не дрожит, что никто не видит волнения на ее лице. Лиза может и привыкла надевать маски соразмерно ситуации, избавляясь от них лишь с самыми близкими, но теперь маска словно трескается.
Не слышит толком, что ей отвечают, не забирает с собой корзину с цветами, чувствует, как тяжелеют ноги, а сердце все быстрее стучит в груди.
Быть может сегодня… Быть может сегодня она, наконец, перестанет жить с огромной дырой в груди. Неужели сегодня?...
***
Лиза просит остаться Варю – с ней как-то спокойнее, тем более если в письме написано что-то страшное, оставаясь одна в собственном кабинете, который в Большом Петергофском дворце ранее принадлежал ее отцу. До сих пор кажется здесь пахнет его табаком, кожей от длинных сапожищ. До сих пор здесь висит его портрет, который каждый день молчаливо приветствует ее со стены и, очевидно критикует за то, что сделано слишком мало. Да, может Лиза первым делом и вернула «Звезду» обратно – это было одно из первых и почти безумных дел, которые она совершила. Корабль уже давно устарел и требовал ремонта, но вернуть его назад в Россию, заплатив смешную сумму было ужасно важно и почти символично. Отец сказал бы, что-то пустая трата средств и времени – уж слишком сентиментальна.
— Варя, а если там что-то плохое? — она замирает на месте, не решаясь открыть письмо, написанное всегда изящным почерком Бестужева.
— Хотите, чтобы я прочла его? — тихо спрашивает Варя, но Лиза помотает головой. Во рту пересохло от чего-то.
— Нет-нет, я должна сама… Я справлюсь. Справлюсь… — повторяет она, уговаривая скорее в этом саму себя, нежели свою фрейлину, дрожащими пальцами расправляя письмо.
Бумага в некоторых местах явно промокала – пошла волнами, слишком дешевая. Очевидно другой бумаги в том месте, из которого письмо было отправлено не нашлось. Лиза пробегает глазами по адресу [откуда только не доходили до нее эти скудные послания!...]: «Большерецкий острог, Камчатка».
— Куда же вас занесло, Семен Иванович… — бормочет она, стараясь сфокусировать взгляд на строчках.
А куда унесло от нее Кирилла… Неужели так безнадежно далеко? Подойди к глобусу и увидишь – ужаснешься. Птице лететь несколько месяцев, а здесь человек. На некоторых картах ее до сих пор даже на карту-то не нанесли.
Лиза глубоко вздыхает, стараясь унять бешеное сердцебиение и, наконец, начинает читать. Письмо не такое уж и длинное – Бестужев вообще никогда особенно не распространялся о своих странствиях больше пары-тройки сухих строк по делу, поэтому могло показаться, что и теперь ничего необыкновенного не случилось. Но тут, с самых первых слов, Лиза вздрагивает всем телом. Ведь там написано: «Спешу сообщить Вашему Величеству радостную новость…». Вряд ли Бестужев стал бы писать такое, если бы нашел его труп или никого не нашел. Даже несмотря на собственные чувства, которые она никогда не сможет принять.
Варя ничего не спрашивает, застыв в напряженном молчании.
Лиза, перестав кажется дышать, продолжает читать.
Замирает.
Леденеет.
Вчитывается.
Не верит.
Лизе кажется, что мир под ее ногами неожиданно разверзается, и она проваливается в какую-то черную пустоту, в которой снова и снова слышится смех той женщины и голос… тот голос, который снится в кошмарах и который она не слышала уже давно, но тут этот монстр снова просыпается и снова будто дышит ей в лицо своим отвратительным дыханием, пробуждая страшные кошмары: «Никто не придет теперь, пташка. А мы повеселимся».
Все тот же голос, благодаря которому любые прикосновения стали ненавистны.
Она думала, что он навсегда стих в ее голове, она думала, что смогла это пережить. Но хватило пары строчек письма, чтобы вернуть все назад.
Ведь теперь, все, что она делала неожиданно в это мгновение превратилось в прах. Все стало таким бессмысленным, что ей показалось, словно и она сама исчезает. Само ее существование стало бессмысленным.
Лиза всегда врала себе, когда говорила, что готова найти даже его могилу. Врала, потому что если бы она нашла его мертвым – наверняка отравилась бы все тем же порошком, надежно спрятанным в перстне. Нет, все это время единственным, что по-настоящему сильно держало ее на земле была отчаянная мысль, что он где-то жив. Точно также, как где-то жива их дочь. С этой мыслью решилась она поздней зимней ночью в мундире поверх платья выступать перед гвардией, с этой мыслью надевала корону на голову самостоятельно, не дав никому короновать себя, с этой мыслью просыпалась, разбиралась с государственными делами и шла спать.
Благодаря этой мысли когда-то она решила, что непременно будет жить сама, даже полностью разбитая.
Эта мысль была ее маяком, светившим в любую даже самую темную ночь.
Ее корабль потерпел крушение, как только этот маяк погас. Но совсем не так, как она думала.
В голове вертится одна-единственная мысль: «Почему?», настойчиво перекрикивая все остальные и не желая укладываться в голове.
Лиза неожиданно тяжело оседает на своем кресле, становясь старше. Неожиданно заметнее становятся тени под глазами – следы бессонных ночей и боязнью мести оставшихся в живых тайных сторонников другой власти.
— Лиза?... — обеспокоенный голос Вари звучит словно из глубины моря. Видимо, у нее сделался такой вид, что она забывает о необходимости какого-то этикета. — Неужели?...
Она в ответ устало качает головой. Варя, милая Варя, наверное подумала о том самом страшном исходе, судя по Лизиной реакции, но она ведь даже теперь не подозревает, ч т о там написано.
Письмо начинает жечь пальцы. Лиза чувствует неожиданное изнеможение – мир упал на ее плечи. Наверное, так ощущается бессмысленность.
— Прочти сама, — просто бросает она, протягивая Варе письмо, крепко сжимая глаза от приступа нахлынувшей головной боли.
Варя, не сводя внимательного взгляда с бледного лица Лизы начинает читать вслух. Это, наверное, даже хорошо, что вслух. Лиза может быть уверится в этом хотя бы сильнее. Лиза хотя бы попытается в это поверить. Но что будет, когда она в это поверит? Как с этим ж и т ь?
— «Спешу сообщить Вашему Величеству радостную новость. Мною шестого месяца было предпринято путешествие на Камчатский полуостров в поисках Кирилла Андреевича или хотя бы его следов. Довожу до сведения Вашего Величества, что в остроге Большерецкий капитан Волконский был найден…», — Варя вздрагивает, поднимая взгляд от письма. — Значит он жив! Его нашли!
— Читай дальше, — махнет слабо рукой в ответ, все еще не в силах сбросить отвратительное чувство тяжести всего мира со своих плеч. Так тяжело не было даже тогда, когда корона опустилась на ее голову.
— «…был найден в относительно добром здравии и теперь по вашему приказу прибудет в Петербург вместе со своей женой и сыном…».
Воцаряется молчание. Лиза ничего не говорит и Варя тоже. Тикают часы, помнящие еще широкие шаги отца по этому кабинету. Легкий ветерок, пахнущий медом от пасек, шевелит рыжие волосы. Все, о чем она мечтала, как женщина, кануло в Лету. Лиза уверена, что из преисподней хохочет Софья Михайловна, злорадствуя вместе с бесами.
— Не может быть, — выдает наконец Варя, качая головой. — Мы ведь говорим о Кирилле Андреевиче, которого мы знаем?
— Знали, Варя, — поправляет Лиза. — а кто из нас остался неизменным за столько лет?
Она сама не верит, что это говорит. Говорит это о Кирилле, потому что звучит как-то пренебрежительно. Она ужасно устала.
— И все же. О каких жене и сыне он пишет? Может Семен ошибся, или вовсе наговаривает? Мы же обе знаем, как он к тебе относится.
Это еще одна Лизина боль. Боль и сожаление. Этого она тоже себе не простит, как и многих других вещей, но разве важно это теперь.
Лиза усмехается криво.
— Нет, в том то и дело. Я думаю, что он пишет правду. Именно поэтому, я и просила заняться этим делом его. Попроси я об этом Матвея или Пашу, то они бы в случае дурного исхода стали бы жалеть меня. Придумали бы какую-то историю. Семен бы не стал. Он бы поспешил сообщить мне правду, в случае его смерти или… — она запинается. — …чего-то подобного. Просто потому что я знаю, как он ко мне относится. Я совсем не ангел, Варя, каким меня воображают молодые люди в гвардии.
И они снова замолкают. Лиза невидящим взглядом скользит по знакомым стенам, сердце тупо продолжает стучать в груди, но более ничего и не делая. Верно говорят – если у человека сердце и бьется, то это вовсе не значит, что он действительно ж и в.
Жена.
Взгляд падает на собственную руку, где на безымянном пальце колечко, то самое, надетое много лет назад и с которым она так и не расставалась, не снимая даже принимая ванну. Колечко несколько затерлось, иногда не подходило к нарядам, но она не расставалась с ним, словно если снимет с безымянного пальца правой руки, то случится что-то ужасное.
«А кто тогда я, Кирюша?».
Сын.
Лиза с того самого дня, когда Машу увезли, запретила себе думать об этом – иначе она бы нашла способ умереть, а ей необходимо было жить. Она сохранила только локон темных волос, которые хранились в верхнем ящике стола и она иногда прикасалась к ним, завернутыми в вышитый платок, который, как ей мерещилось все еще п а х жизнью, которая казалась такой счастливой, даже несмотря на стесненность в средствах.
«А как же наша дочь, Кирюша?».
У него теперь семья, а у Лизы совсем ничего нет. Мог ли он поступить с ней так жестоко? Нет, конечно не мог. Что-то случилось. Она могла бы это выяснить. Теперь она может буквально в с е. Ей может быть совершенно наплевать на ком его там женили – хоть на самом дьяволе. Что ей стоит заставить их развестись, признать брак недействительным?
Но у него ребенок. Его ли? Чужой ли? А не все ли равно? Ведь в конечном счете, если и осталось что-то от Кирилла, которого она любила [да что там – любит до сих пор, любовь ведь не проходит за одну минуту болезненного разочарования], если ребенок этот носит теперь его фамилию, то никогда он его не бросит.
Она тоже хотела носить его фамилию. И там, в ссылке, именно ее и носила. Его фамилия была дана их дочери, а однажды как они надеялись будет дана и сыну, чтобы сын продолжал наследие отца. Не вышло. Не успели.
«Живешь ли ты заново, Кирюша? И как же тогда я? Как же быть мне? За что? Неужели ты решил, что и я живу дальше? Неужели с тобой случилось нечто более страшное, чем со мной, раз ты потерял всякую надежду, что я однажды найду тебя? Но я ведь обещала тебе. Как мне жить дальше?».
— Если это правда, хотя я все еще не представляю, как можно венчаться дважды… — Варя с сомнением качает головой. — не разумнее ли вовсе не приглашать их в столицу? Лиза, зачем причинять себе боль?
— Спрятать куда подальше предлагаешь? — головная боль становится невыносимой.
Все, о чем мечтала Лиза как женщина – мертво с первой строчки одного-единственного письма.
Остается лишь то, о чем мечтала Елизавета Петровна – императрица Всероссийская и далее. И с этим ей придется жить.
— Какой вздор. Я приказала вернуть тех, кто пострадал в темные годы правления… Той женщины. Я хотела знать – жив он или мертв. Он жив – это главное. К тому же, — горькая улыбка появляется на губах. — если я не увижу это вживую у меня так и останется надежда. Только так я смогу окончательно его отпустить. Мне же нужно найти мою, — еще несколько минут назад Лиза сказала бы «нашу». — дочь. Теперь это важно. Позови-ка Любаву. Ей нужно знать, что брат ее жив и возвращается.
Как только закроется за Варей дверь, Лиза постарается встать, но получится плохо – двоится в глазах, все суровее кажется взгляд отца перед лицом, все сильнее сдавливает в тиски голову неведомая сила.
Лиза силится сделать вдох, но вместо этого лишь обессиленно падает на пол, теряя сознание и проваливаясь в омут, где демоны и призраки уже ее заждались.
***
В этот вечер Елизавета Петровна была особенно весела. Беспечно смеялась над какими-то глупыми шутками, танцевала танцы даже с теми, кому обычно отказывала. Она выглядела великолепно в очередном невероятном платье из золотой парчи, играющей на закатных лучах таким же золотом, каким играют скульптуры Самсона у фонтанов. Пила вино, позволяла себе флиртовать и, пожалуй, только Варя, наблюдавшая за общим весельем с некоторого расстояния, совершенно не была одурачена подобным беспечным настроением царствующей императрицы.
У Вари может и обезображено лицо и так будет всегда, а у Лизы шрамов заживших и кровоточащих в общем-то даже больше, только все они совсем не на теле. Лиза сколько угодно может смеяться каким-то слишком громким смехом, глядя на фейерверки, расползающиеся разноцветными искрами по небу, говорить о чем-то с женой князя Оболенского, изображая совершенную легкость, но Варя знает и видит, что это просто очередная маскарадная маска, которую та решила надеть на лицо, чтобы скрыть все те же шрамы и бездонную темноту, поселившуюся на дне зеленых глаз.
Если она и смеялась, пила вино бокал за бокалом, то только чтобы снова и снова пытаться з а б ы т ь. Или заглушить ту боль, которая сквозила в каждом ее движении.
Варя чувствует, пристальный и такой тоскливый взгляд Матвея и отворачивается, растворяясь в предрассветной дымке петергофского парка.
Все они – несчастные дети своего века.
Просто каждый несчастен по-своему.
Лиза решила для себя, что в этот день будет выглядеть не менее прекрасно и царственно, нежели выглядела на собственной коронации. Долго выбирала она платье, долго не могла решить – какое украшение подойдет, а еще дольше выбирала духи в изящных хрустальных флаконах, расставленные перед собой. Придирчиво вдыхала каждый аромат, пока в итоге вместо запахов-вызовов, запахов почти удушающий совсем другой. Это была чудесная тихая красота. Акварельная дымка майских цветов, смешанный букет, в котором больше всего веток липы, белой сирени и магнолии. Тихая весна здесь, в Петербурге, где осень вступила в свои права совершенно прочно – пахнет сыростью и опадающей листвой, а Лиза пахнет липовыми аллеями Царского. А Лизе ужасно хочется тепла, особенно сегодня, когда стынут пальцы. Не от холода правда. А от страха.
Кто бы мог подумать, что я буду так бояться нашей встречи, Кирюша?
Внешне ничего не поменялось в ней с того самого письма. Все так же текла жизнь, ничего не изменилось и после возвращения в Зимний дворец, кроме разве что погоды. Все такие же встречи с сенаторами и сановниками, беседы с канцлером, представления по вечерам и смотры гвардейских полков: теперь гвардейцам в России небывалая слава. Если ты в гвардии, а уж тем более в лейб-гвардии, то ты выхватил счастливую птицу в руку.
Никто и не заметил [только самые близкие], что Лиза тихо умирала, как только ночь вступала в свои права.
Что по ночам она и вовсе не спит – отсыпаясь днем, потому что снятся сплошные кошмары. Проще удариться в документы, бесконечные приказы и распоряжения, проще так, чем ожидать возвращение того, кто долгое время был единственной причиной дышать.
И вот теперь, когда она буквально надевают на себя своеобразную боевую броню [Лизе кажется, что чем красивее и торжественнее станет выглядеть, тем проще ей будет пережить все это], дрожь возвращается.
Останавливается в Портретной галерее, куда вновь были возвращены на свои законные места портреты ее отца и матери [никогда не любил отец этого парадного портрета, считая, что тот ему льстит], а также портрет Саши, который она уже успела позабыть – на нем он получился прекрасно, кисть художника едва ли что-то приукрасил: этот гордый, уверенный взгляд голубых глаз человека, который был создан для трона, золотые кудри принца из сказки. Лиза, каждый раз глядя на него признавалась ему тихо, что все еще скучает. Боже мой, как все было бы проще, если бы только он был жив. Боже, как бы все было по-другому…
Да что толку от пустых сожалений?...
Рядом с его портретом должен быть ее собственный парадный портрет, который скоро уже будет готов. А пока здесь зловеще пустое место, которое олицетворяет времена такие же пустые. Когда-то висел здесь портрет той женщины, но как только Лиза вновь вернулась в с в о й дом, то повелела от него избавиться – спрятать с глаз долой, чтобы она его не видела точно также, как когда-то избавились от портретов ее семьи.
«Может быть, Софья Михайловна, — думала Лиза, глядя на нее на портрете, пока его снимали со стены. — если б вы не трогали мою семью, позволили бы тихо жить пусть даже в бедности, все было бы по-другому».
Зачем она остановилась здесь? Получить долю храбрости от умерших родных? Растянуть время? Лиза не дрожала ни перед иностранными послами, ни перед князьями, ни даже перед гвардией. А тут что же?
Лиза считает свои шаги – она точно знает сколько их должно быть. Двери, двери, двери. Она шла по этой анфиладе, когда умер отец. Бежала прочь, когда погиб Саша. И идет, чтобы вновь найти и вновь потерять самое дорогое, что у нее есть.
Раз. Два. Три.
Лиза стоит лицом к трону и оборачивается даже не сразу, окаменев от одного только: «Кирилл Андреевич». Так непривычно, так сладко, так невыносимо слышать это з д е с ь, в этих стенах. И только тогда она оборачивается.
Она видит его фигуру издалека, но только теперь до конца, до боли в конечностях, до мурашек и слез насколько скучала. Ей казалось, что это чувство за эти годы иступилось, а в свете нынешних событий и вовсе должно было уйти в самые глубины души. Но нет – до этой самой секунды она даже не подозревала что скучала по нему настолько. Вот прямо сейчас можно было бы упасть. Как же ей не хватало его. А он все ближе. Все ближе к ней.
Она представляла себе эту встречу совсем не так. Она представляла себе, как бежит к нему и не важно как далеко и долго придется бежать – хоть босиком. Она представляла, как бежит к нему, бросаясь на шею, как целует каждый шрам и рану, которую увидит на его лице.
Лизе и теперь хочется побежать к нему. Неожиданно хочется вновь превратиться в девушку, которая вовсе и не управляет никакой империей, которая ужасно устала, которая ужасно напугана почти каждый день. Неожиданно хочется броситься ему на шею, рассказать все, что случилось, чтобы ее по крайней мере пожалели – Лизе впервые нужна жалость. Ей так хочется хотя бы перед ним не надевать масок.
А он все ближе.
За эти годы так близко подходило так много мужчин. А принадлежала всегда только одному.
«Я всегда была твоя. Мне пришлось надеть корону, чтобы вернуть тебя, чтобы все исправить, чтобы стать сильнее, но я все еще твоя Лиза. Я все еще Лиза».
Твоя
Твоя
Твоя.
Но она стоит на месте, прикованная к нему потусторонней силой. И как только он оказывается достаточно близко, чтобы вновь попасть в омут этих серых вод, Лиза хочет было что-то сказать, совершенно забывая обо всем, что встало перед ними, но…
…но он смотрел на нее так прямо и так...казенно что и она надела маску которую пред ним так мечтала снять.
Но он говорит с ней так, как говорят в с е. Как говорят с императрицей. И именно ее, кажется он видит.
И хотя внешне она остается спокойно-торжественной, как и полагается Романовым, но внутренне дергается, как если бы ее ранили.
Да, Софья Михайловна, вы все же победили. Вы забрали его. Ведь какую бы боль не переживала я из-за вас – той боли, которую причиняет теперь одно его «вы», причинить никто больше не смог.
Ваше Величество. Не Лиза. Они будто снова вернулись в прошлое.
Будто все, что было до этого – всего лишь сон.
Зато есть настоящее – где есть его жена, есть его сын и есть она – его государыня. Что ж.
— Добро пожаловать, Кирилл Андреевич, — она перенимает эту манеру легко, спокойно и почти властно. — мы рады вашему возвращению.
«Я умирала без тебя, ты знаешь?».
Губы едва заметно дернутся, когда она слышит это: «Спасибо, что не забыли». Хочется закричать: «А как бы я могла?», но она не кричит. Это внутренне она задыхается от крика.
— Страна никогда не забывает тех, кто служил ей так…преданно, — чужой голос, чужие слова, чужая о н а. — Вижу вам вернули шпагу. По праву она ваша – так решил мой отец. А сейчас я пытаюсь восстановить все то что он делал. И мой брат, разумеется.
«Разве это не я, твоя Лиза? Разве не ты звал меня Лизонька? Разве эта корона что-то меняет? Или все меняет…твоя жена?».
Она помолчит, надеясь, что ее голос вовсе не дрожит.
— Разумеется, кроме восстановления вас в правах дворянина и оправдания во всем, в чем вы были столь несправедливо обвинены, вы восстановлены в званиях и более того – повышены.
Боже мой она говорит то же самое, что говорила всем остальным. Кириллу! Ее Кириллу! Которому хочется сказать, как было страшно, как было больно. Как любит. Все еще любит.
— «За невинное претерпение Волконский Кирилл Андреевич будет произведен из капитанов гвардии в генерал-майоры и награжден орденом Св. Александра Невского», — зачитывает поспешно поднесенный приказ. — Что касается дома… «Я думала, ты будешь жить со мной, но этого не будет, так?». Ваша жена не получила приданного в свое время, а имущество князей Голицыных было разграблено, но дворец князя Голицына сохранился. Правда, он требует ремонта, поэтому пока вы не будете в состоянии перебраться в дом, сообразный вашему статусу, я буду рада, если вы со своей… семьей, — она предательски спотыкается об это слово, а ведь выглядела почти безразличной. — остановитесь во дворце. Надеюсь видеть вас и вашу жену при дворе. Мне нужны хорошие люди. И стране они нужны. Надеюсь, вы понимаете.
На бархатной подушке поднесут орден – когда-то также награждал его ее отец. Кто бы мог подумать, что станет награждать она. И как глупо трепещет сердце, которое теперь никому не нужно.
«Ты живешь дальше без меня? Я принесла тебе столько боли, что проще было забыть?».
И она отходит от него как можно быстрее. Чтобы не сделать глупость. Потому что больше чем накричать на него, ей хочется только поцеловать его. А это теперь…неуместно. Черта проведена.
И все же.
И все же.
— Как зовут вашего сына? — вырывается спокойный вроде бы вопрос.
Нашего сына звали бы Сашей. Что бы он теперь сказал, Кирюша?
Они так и смотрят друг на друга, но это теперь ничего не значит.
Лиза отходит назад, складывая руки перед собой.
— Я рада…что вы живы, Кирилл Андреевич, — тихо бросает она, прежде чем устало махнуть рукой. — А теперь ступайте, вас проводят к вашей семье. Вы, должно быть, устали после дороги.
Кирюша, если бы ты только знал – что было в этом зале, из которого ты уходишь. Если бы только ты знал, что я делала, чтобы только увидеть тебя… хотя бы еще раз.
Лиза слышит перешептывание, когда заходит в зал, заполненный дворянством - напуганным и пресмыкающемся, а в центре этого зала видит императрицу. Удивительно, что ее вообще пропустили. Лиза чувствует, как та смотрит на нее - мучает своим темным, тяжелым взглядом. Вокруг пахнет алкоголем, цветами пахнет удушающе. Никто не хотел ее отпускать, отговаривали и уверяли, что это самоубийство теперь, но ей, Лизе, было достаточно простого и короткого: «Она казнит его, Елизавета Петровна. Сохранить вашу жизнь ей придется, иначе станет разорительницей рода и гвардия этого не простит, а он – букашка для нее», чтобы оказаться здесь даже без приглашения, что не преминет напомнить она своим грубым голосом:
— Не помню, чтобы приглашала тебя.
Всегда обращалась на «ты». И если когда-то давно Лиза думала, что это от желания стать ближе, то теперь в этом только ненависть – боже мой как она ненавидит ее. И пусть это чувство взаимно, но в отличие от императрицы, Лиза не отнимала ее любовь, пусть и пытается не обращать внимание на взгляды фаворита императрицы. Она здесь не за этим. Не за тем, чтобы бояться.
Лиза подходит ближе, с прямой спиной и никто не пытается ее остановить – не решается, все еще помня [всегда помня – чья она дочь]. Останавливается и делает то, что та всегда мечтала от нее получить в этом большом зале, напротив трона собственного отца: опускается на колени.
Тихий шепот ужаса пронесется по зале, легкий как ветерок вздох удивления. Унижение – ей, дочери Петра Первого опускаться на колени, если могла бы сидеть на этом троне, а она стоит на коленях перед той, кто отняла у нее в с е.
— Выслушайте меня, Ваше Величество. Я стою перед вами на коленях и умоляю – не казните его.
— Любовничка твоего что ли? — она хохочет каркающим смехом.
Некоторые отводят взгляд, стыдливо.
Империя катится в ад.
— Вам ничего не угрожает. И уж тем более я. Вы же видите. И я клянусь – если вы не казните его, то я не стану претендовать на престол. Я клянусь. На коленях.
Гробовое молчание огромного зала. Не хватает только грома. А Лиза только крепче сжимает руки на коленях, глядя в это жестокое лицо.
— Хм, — крякнет та в ответ, но в глазах загорается огонек. — но не думаешь же ты, что коленнопреклонной мольбы твоей хватит, чтоб я взяла и отпустила предателя?
— Я прошу лишь оставить его в живых.
Молчание покажется еще более долгим. Краем глаза она замечает какое-то движение. Как с силой удерживают подальше от нее Семена. Кому понравится, что она стоит на коленях?
— И ты готова обменять на это все, что я попрошу? Ну что же, добро. Подумаю, чем могу помочь своей сестре. Не монстр же я какой.
Поделиться42024-06-28 16:04:16
1 ноября 1733 года
Снаружи разгулялся в своеобразной агонии ветер, терзающий теперь безжалостно костлявые ветки голых деревьев. Тёмное вечернее небо делается совсем чёрным, готовым разгневаться и прорваться хлёстким ливнем на землю. Каждый шорох откликается в сердце страхом, каждое завывание нагоняет тревогу; в этой мрачной какофонии слишком легко не расслышать стука колёс чёрного экипажа, топота копыт и грузных шагов. Впрочем, здесь каждый готов, прислушивается и втайне от остальных ждёт своего часа. Слабое пламя обвивает жалкую горстку поленьев в очаге. На круглом столе, накрытом скатертью узорчатой, стоит графин, наполовину полный сущей кислятиной, а не вином. Под стать временам. Они не жалуются. Пьянство здесь никому не грозит, разве что заядлым пьяницам. Давящее молчание длится уже определённое время. Кто-то стоит около камина, кто-то, сгорбившись измеряет шагами небольшую гостиную.
— Кирилл, может, ну его?
Володя нарушает молчание, воплощая настоящего искусителя. Разве что в данном случае хочется согласиться, махнуть рукой, понадеяться на милость Господа, поддастся искушению; ведь ему ничего не нужно, кроме спокойствия и благополучия семьи. Слишком хорошо звучит. Но ты будешь бороться до конца. Говорят, упрямство присуще глупцам.
— Нет, — твёрдо отрезает Кирилл, отпуская шторку, скрывающую то, что происходит внутри дома. Глупо надеяться на столь ненадёжное прикрытие. Впрочем, он не заметил ни одного силуэта под окнами. А быть может, сегодня слишком темно. — Мы зашли слишком далеко.
— В завещании всё ещё может стоять другое имя. Тогда ты рискуешь своей жизнью неизвестно ради чего.
— Чем больше об этом думаю, тем меньше сомневаюсь, — смотрит задумчиво в пустоту. — Осталось поразмыслить, как его забрать.
— Я хорошо знаком со служанкой канцлера, она прислуживает Надежде Борисовне, в дом вхожа, — вдруг подаёт голос Сафонов, выходя из тёмного угла. — Не спрашивайте откуда, — даже в полутьме комнаты заметно его покрасневшее лицо. Дела сердечные как цветы, которые цветут в самые тёмные времена. Кирилл мельком улыбается. В иной раз сказал бы, что стыдиться здесь совсем нечего, напротив, следует радоваться и гордиться. — Но если о нашем знакомства станет известно...
Ему доведётся потрудиться, ежели захочет большего. Ежели канцлер в общем-то готов отпускать своих людей живыми. Сведения нынче дороже и весомее денег. Сафонов не сдерживает тяжёлого вздоха.
— Она может помочь. У неё личная обида на этого человека, и ко всему, что творится, не равнодушна.
Он прячет глаза, разглядывая узор на ковре. Кирилл будто на собственное отражение смотрит. Имеет ли право, когда сам никогда бы не решился предложить нечто подобное своим друзьям? Может быть, в его руках спасение для всей страны, а он решает поступить самолюбиво. Ветер снаружи завывает ещё громче, ещё тревожнее.
— Я не могу впутывать ещё одного человека в это дело...
— Можете! Вы должны, капитан. Вы должны доверять людям, которые на вашей стороне. По меньшей мере, если даже Елизавета Петровна не станет... не станет императрицей, то канцлер точно что-то потеряет. С бумагой этой он чувствует себя господом богом, потому и притащил недоразумение на трон...
Молодым людям легко даются пылкие речи. Кирилл знает не понаслышке.
— И всё же, господа, я не понимаю. Что будет, когда эта женщина дьяволу душу отдаст? Пока завещание есть, и надежда есть. Кто же следующим будет? Неужто вас нисколько не беспокоит судьба Отечества? И наша судьба?!
Еремей выходит на самое освещённое место, в очередной раз обращаясь ко всем с призывом. Кирилл ничего дурного в этом не видит, ведь не грех — хотеть спокойной жизни, без страха. Только разум побеждает чувства, а чужие промахи лишь подкрепляют уверенность в том, что сидеть надобно тихо. Однажды кошмар закончится. Непременно. Она определённо не бессмертна.
Может быть, Еремей был прав. Кирилл отбирал последнюю надежду на лучшее завтра.
— Наша судьба нас очень беспокоит. Именно поэтому мы здесь. Поверьте, после всего, что произошло, народ примет любого хорошего правителя и без бумажки.
— Кирилл Андреевич, я всё устрою, — отважно заявляет Сафонов и молчание возвращается на несколько минут, пока все присутствующие здесь окончательно осознают, что им предстоит.
Гриша на пару с Володей согласно кивают. Они-то будут с Кириллом до самого конца и вопреки своим соображениям, поддержат любое решение.
— Что же, да поможет нам Бог, господа.
И он легко залпом опрокинет бокал дрянного вина, не ощущая вкуса, ведь на душе куда более худо. Прогремит гром. Ливень забарабанит по крышам.
2wei, tommee profitt, fleurie — mad world
×××
и я н а х о ж у э т о д о в о л ь н о з а б а в н ы м
я н а х о ж у э т о д о в о л ь н о г р у с т н ы м
i t ' s a v e r y ( very )
MAD WORLD
Мир обезумел. Столь долго держался и наконец-то обезумел. Острые языки сейчас бы подметили, в каком любопытном смысле проявлялась его преданность. Впрочем, самому Кириллу хочется усмехнуться со всей душевной горечью. Эта страна сначала убивает, а потом возносит. Неведомо, когда снова начнёт убивать. Ему известно обо всём не более, откуда взялась эта шпага, а лучше бы от неё вовсе избавились. Ему отчего-то особенно больно слышать о тех, кого давно н е т, пусть издалека, пусть из уст поистине императрицы, которую он совсем не знает. Стало быть, опасения оправдываются. Нет, не допускает мысли что Елизавета Петровна — это всего лишь отражение его отрешенности и холодности, всего лишь справедливый ответ. Однако он иначе не может. Она — тоже. Обезумевший мир продолжает вращаться. Господи, неужто впрямь кому-то из них, вернувшихся, нужно всё то, что страна теперь пытается вернуть? Разумеется, надо и дальше проявлять благодарность. Даже если твою душу успокоит только честная месть, мстить более некому. До чего же досадно делается от одного домысла, что человек тот (или сам черт) спокойно умирал в своей постели. Впрямь слишком лёгкое наказание. Но сейчас не об этом. Пальцы только крепче начинают сжимать холодящий металл. А силы его постепенно покидают, ноги слабеют, потому что достигает вершины — чувства так и бурлят. Слишком невыносимо. Слишком нелепо. И тебе даже неинтересно, как она здесь жила?
Кирилл таки пропускает усмешку, выслушивая теперь и приказ императорский. Конечно, он никогда подумать не мог, что настанет этот эта минута, в которую Лиза будет его императрицей и будет читать приказ совершенно императорским тоном. Чего уж, он и всего остального не представлял. Снова приходится выпрямиться, поднять такой пустой взгляд, чтобы не раскиснуть всей душой и телом. Чтобы не дай боже не начать вести себя так, как ему было бы положено при иных обстоятельствах. Как обычный человек, который вернулся домой.
Но самый безумный миг наступает, когда слышит о своей семье. И это вовсе не та семья, которая была когда-то. Нет, совсем не понимает. После всех ужасов страна обязана их, измученных, отпустить. Не понимает и не желает всей своей душой оставаться здесь. Только не во дворце, где бродят призраки, вечно живущие напоминания в каждой детали, в каждой царапинке на паркете. Он совсем не рад и того не желает, да только простым смертным перечить самодержцу никак нельзя. Пусть ему и терять нечего, пусть не боится никаких наказаний, отчего-то не перечит, всего лишь молчит. Это испытание надобно вытерпеть с достоинством.
Нет-нет, ему вовсе не нужен ещё один орден. Какая глупость. Бессмыслица. Чем больше орденов, тем страшнее жить, ведь не знаешь когда власть сменится, и любимцы окажутся врагами, государевыми преступниками. Страх пустил глубокие корни, а осознание великих перемен ещё окончательно не пришло. Ещё до конца не может увидеть в одной женщине двоих — императрицу и свою любимую. Тем не менее, смотрит на неё, когда подходит ещё б л и ж е. Всматривается в каждую черту лица, чувствуя, как накатывает трепетная тоска. Неужто время не пощадило даже тебя, Лиза?
Опускает взгляд, когда слышит этот вопрос. Конечно же, ему бы объясниться, но вряд ли решится на это самовольно. Не решится.
— Алексей... Ваше Величество, — неизвестно что произнести было сложнее, но определённо все три слова даются с трудом и комом поперёк горла. Она обо всём знает. Должно быть, Семён потрудился не без злостного удовольствия. Впрочем, она бы всё узнала. Так даже лучше, чем говорить самому.
Стоять настолько близко друг к другу впрямь для них опасно. Когда она уходит, будто бы легче становится и тяжелее в одночасье. Хочется схватить за руку. Хочется сбежать прочь. Такие разные, такие противоречивые желания.
— Благодарю. Вы очень добры, Ваше Величество.
Кирилл снова склоняется, прежде чем развернуться и уйти. Не верится самому, что их первая встреча прошла столь нелепо. Зато целиком соответствует событиям, которые приключились, и новым положениям, которые у них появились. Что же он мог сказать? Что мог сделать? Может быть, многое. Может быть.
***
Их отвели вовсе не в крепость сырую и промозглую, а в уютные дворцовые покои, где даже аромат стоял приятный — свежих осенних цветов. Напоминание о том, что осень — это не только унылость и невзрачность, но и пышность цвета, огненные, солнечные астры, георгины, хризантемы. Она когда-то больше всего любила прогуливаться по садам и паркам, наслаждаясь тишиной, сладостью цветочных ароматов. Сердце сжимается от неверия: взаправду ли? Не мерещится? В крепости держат до вынесения приговора в том, что было надето во время ареста, а здесь предоставили наряды на выбор, выглаженные и чистые; да полную ванну тёплой воды, что было совсем насущно после пыльных дорог, знойного лета. Во всём она видела доброту новоявленной императрицы. В каждой мелочи Елизавета Петровна о них позаботилась или по меньшей мере, велела своим людям позаботиться. Ксюше конечно же, невзначай повезло, ведь всё ради него, не так ли? Но чем больше заботы, чем быстрее возвращалось ощущение живого человека (три месяца в пути сделаю из тебя кого угодно), тем сильнее прорывалось чувство вины. Словно украла что-то бесценное и теперь нагло этим хвастаешь. Впрочем, мысли гнетущие прервались, как только издалека послышались шаги. Она стояла подле окна после того, как привела себя в вид человеческий и подложила подушку под голову заснувшего Алёши. Вымоталось дитя, заснуло на первой же попавшейся софе.
Ему навстречу должна бежать совсем другая женщина. Бежит Ксюша, не имея никакого терпения и возможно, сил. Устала, безмерно устала — этим можно всё оправдать. Хватается пальцами за его плечи, отчего-то слишком крепко прижимаясь. Да, за это сравнительно недолгое время успела надумать разного. Женский ум удивительно устроен, любит воображать и придумывать себе того, что никогда не случится.
— Я думала, ты уже не вернёшься, — бормочет она, глубоко вдыхая аромат свежего мундира. Кирилл горько улыбается, а хочется прямо-таки рассмеяться этой злой судьбе в лицо. Надо же было запугать людей настолько, что они видят во всём недоброе, западню, и никому не верят. Нет-нет, Ксюша верила, разумеется, верила умом в добрые намерения государыни. Однако, сердце человеческое такое глупое. Он вернулся целым, невредимым, выглядя даже лучше, чем по приезду. Она его отпускает, отходит, шустро смахивая одинокую слезинку.
— Куда же я мог деться? — с интересом осматривает милостиво предоставленные покои; может быть, не стоило столь сильно утруждаться ради них. Мысль о жизни во дворце до сих пор отвергает. Пусть здесь и уютно, всяческие удобства, вазы с цветами, вежливая прислуга — поистине царские покои; не придётся задумываться о многих хлопотах, какие лежали на его плечах все семь лет. Да только совсем рядом о н а. Императрица. Совсем рядом. И это знание буквально грозится не давать ему покоя.
— Было бы справедливо, — пожимает плечами. На ней новое платье, и пусть он знает, что надела бы что-то из своего старого гардероба, если бы тот сохранился. В этом они схожи — принципиальные. Но глядя на неё, понимает, что так л у ш е. Ксения Голицына никогда не несла ответственности за своих горе-братьев, никакого участия в их интригах не принимала, а посему должна была прожить счастливую жизнь. Или по меньшей мере, вернуться туда, где её место. — Если бы она тебя забрала.
— Её Величество очень добра, — качает головой, пытаясь от этой темы уйти. — Предоставила нам покои... здесь, очевидно. Всех простила и повысила в звании. Так и должно быть, верно? — переводит на Ксюшу взгляд какой-то чрезмерно _ обманно воодушевлённый.
— А этот солдат уже сдался? — усмехается, обнаруживая спящего Алёшу. Садится рядом в уголок софы, протягивая руку и смахивая с закрытых глаз вьющуюся прядь волос.
— Покупался и заснул, как всегда, — и она невольно улыбается, глядя на сына. — Что же, если она передумает, ты обо мне не беспокойся.
Сбить её не так-то просто. Ещё одна упрямица, привыкшая своего добиваться.
— Меня повысили, Ксюша. Вот так легко. Я об этом только мечтать когда-то мог.
Она садится на такую же софу, стоящую напротив, глядя на него недоверчиво. Не без основания, ведь Кириллу впрямь теперь плевать на звания и должности.
— Вы действительно об этом говорили? — она вопросительно выгибает бровь. — Нет, не желаю знать, о чём вы говорили. Я и так достаточно участия принимаю в этой истории.
Он, пожалуй, согласился бы с ней, не будь она его женой. После долгой разлуки до чего же нелепо притворяться чужими людьми; вести беседу как императрица и подданный, после того как накрепко связали свои жизни друг с другом, пусть много лет назад. Но так н а д о. Так п р о щ е. Никому не приходится объясняться. Никто не должен прощать. Играть роли проще. Кирилл впадает в задумчивость на несколько минут, а Ксюша тихо наблюдает.
— Государыня возвращает тебе родительский дом, — вдруг произносит он, не задумываясь о реакции на эту новость.
Ксюша бледнеет, на её лице неживом проступает у ж а с, глаза впиваются в его лицо.
— Кирилл, это обязательно? — будто грудь придавили тяжёлым камнем, голос едва звучит. — Этот дом... этот дом — худшее место на земле, исключая крепость, пожалуй.
Он замечает подрагивающие руки. Да, стоило иначе об этом сообщить.
— Я возле открытого окна ждала, когда за мной приедет арестантская карета. А потом... драгуны выводили меня как преступницу из этого дома. С братьями всё обстояло несколько иначе. Их выводили силой.
Вместо того, чтобы расплакаться, она позволяет голосу зазвучать грубее, твёрже, а взгляд так и леденеет. Тот злосчастный вечер стоит перед глазами. Будет стоять вечно. Она будет умирать и видеть, как их выпроваживают из дома, а потом водят на бесконечные допросы. Её разве что, избавили от телесных пыток, решив обойтись исключительно душевными. А теперь ей предстоит вернуться в тот же дом, где навеки поселились призраки и страх того, что за тобой снова придут. Разумеется, Елизавета Петровна в этом не виновна.
Но Кирилл оказывается быстрее здравого разума, который начинает проясняться. Садится подле неё, берёт руку в свою, заглядывая в глаза, всё ещё полные ужаса. Ни одну барышню из уважаемой дворянской семьи не готовят к подобному. Они как цветы из зимнего сада, оранжереи — нежные, хрупкие, ломаются.
— Тогда мы не будем там жить. Мы вернулись сюда не для того, чтобы жить ужасами прошлого. Полагаю, государыня проявит понимание.
Отчего назвать её даже по имени и отчеству сложно. Будто тогда рассеется образ далёкой и величественной императрицы, пред которой им положено благоговеть и смирено склонять головы.
— Прости, от меня одни хлопоты.
Она силится улыбнуться.
Он качает головой.
***
На его лице подавно должны появиться следы бессонных ночей, которые длились всю летнюю поездку в Петербург. Последняя ночь не становится исключением. Эта кровать слишком удобная, постель слишком мягкая и всё кажется «слишком», чересчур, совсем не для него. Может быть, для неё, ведь она с рождения в княжеских хоромах. А он снова пялился в потолок, рассматривал мудрёные узоры лепнины. Пока ранним утром не раздался за спиной ещё сонный голос. Она хотела прогуляться. После чашечки крепкого кофе он не отказался, холодный воздух осеннего утра не менее бодрит. На самом же деле они оба совершенно потеряны и кажется, уже не приспособлены к этой жизни. Сложа руки глядеть в окно? Едва ли.
Это утро постепенно расцветает осенними цветами, золотисто-огненной листвой, подсвечиваемой только поднявшимся солнцем. Несправедливо хороший день. Несправедливо, когда в душе бесконечный дождь. Лужи на дорогах подсохли, но местами стоит ветру дёрнуть за ветку и на плечи падают дождевые капли. Ксюша перепрыгивает через лужицу, едва в неё не угодив, и тихо смеётся, ухватываясь за его руку. Вероятно, она первой начнёт жить настоящей жизнью. На утреннюю прогулку и свет божий показались и другие придворные, в основном фрейлины и какие-то престарелые дамы, которым прогуливаться целыми днями только и остаётся. Некоторые лица отдалённо знакомые, но по всей видимости, их лице куда более узнаваемы. Иначе не объяснить этот обескураживающий миг: вскинут глаза, опустят голову, пройдут мимо и за спиной тотчас же слышатся тихие разговоры. Прошепчут то его, то её фамилию чрезмерно удивлённо. Вот очередная девица идёт на встречу; на самом деле не совсем девица, должно быть под лет тридцать. Семь лет назад она была ещё юной и красивой барышней с видами на прекрасную, замужнюю жизнь. Кирилл будто бы и внимания обращать не собирается, но эта особа прямо-таки замедляет свои шаги, смотрит на них широко раскрытыми глазами, совсем не стесняясь. В этих глазах и удивление, и презрение, и вселенское недоумение. «Вы представляете!..» — оказываясь за их спинами, ловит в свои сети других фрейлин должно быть с намерением поскорее посплетничать. О совершенно обратной стороне какой-либо прогулки они не подумали. Но догадывались.
— Дурочка Филимонова так и не вышла замуж, — самодовольно отмечает Ксюша, в этот миг особенно походя на всех этих молоденьких дворцовых «пташек». Он покосится в её сторону с кривой ухмылкой. — Что? Знаешь, как она всех изводила? Та ещё сплетница. Не волнуйся теперь, о нашем приезде вся столица завтра знать будет. — Это же Филимонова, совсем не изменилась, только потолстела. Ну что? Только не надо рассказывать мне, что так нельзя. Это тебе нельзя, мужская честь не позволяет. А мне можно, — снова подсмеивается. Она научилась читать мысли по взгляду, благодаря чему можно вести весьма занимательный монолог. Кирилл вслух конечно же не станет обсуждать женщин. Возможно, они до сих пор не существуют для него, как прекрасный пол, обязанный будоражить каждое мужское сознание. Нет-нет, ему совершенно всё равно. Разве что не всё равно на сплетни, которые поползут о н е й. Он может стерпеть сплетни о себе, пусть хоть вся столица захлебнётся в этой молве, только не о Лизе.
Только он здесь бессилен.
— Кирилл...
Ксюша замедляет шаг, ухватываясь за его локоть обеими руками и отворачиваясь назад. Он отчётливо слышит вдруг забившее быстро сердце.
— Там Елизавета Петровна.
Кирилл осматривается мельком, находя слишком знакомую фигуру. И слишком заметную надо признать, в небольшой компании фрейлин. Он снова попадается, снова не думал, что следующая встреча случится так скоро. Впрочем, чего же ожидать, ежели поселили в том же дворце, где живёт она? Его сердце в отличие от Ксюшиного, замирает.
— Точно она, совсем не изменилась.
— Я так не думаю, — задумчиво произносит собственные мысли вслух. — Она тебе ничего не сделает. Сразу бы сделала, будь её воля. Уж в этом впрямь не изменилась, — торопится растянуть губы в улыбке, чтобы прогнать испуг с её лица.
Столкновение было неизбежным в этом сравнительно небольшом парке, из которого можно было выйти прямиком к набережной. Впрочем, прятаться долго едва ли получится. Ксюша отпускает его руку, складывает руки перед собой, возвращая себе осанку княжны Голицыной. Ещё несколько шагов и они встретятся. По рукам пробегается дрожь мелкая. Кирилл чуть позади, и она будто пытается от него оторваться. Вряд ли кто-то решит, что они не _ вместе. Елизавета Петровна не изменилась — осталась такой же красивой, величественной, настоящей Романовой. Перед ними всегда хотелось кланяться. Ксюша делает глубокий реверанс, не жалея оборки юбки, собирающие собой остатки влаги и грязи после дождя.
— Ваше Величество, — она поднимает взгляд, — я не знаю, помните ли вы меня, Ксению Голицыну, — назвать себя Волконской было бы верхом неблагоразумия и бестактности, — но это такая счастливая возможность поблагодарить вас. Вы очень добры...
Кирилл останавливается рядом с ней и должно быть, всё безнадёжно портит. Его взгляд столь пристально изучает Елизавету Петровну. Он всё пытается понять, что изменилось в ней, а что осталось прежним.
— Да благословит Господь вас и ваше правление, Елизавета Петровна. Мы все так долго этого ждали.
Очень скоро старенькая графиня, фамилии которой Кирилл точно не помнит, отвлекает Ксюшу воспоминаниями об её отце и прочих Голицыных, мол какая тяжёлая судьба, а она ведь помнила отца ещё совсем молодого. Эта ностальгическая песня ставит его в самое неловкое положение, оставляя будто бы наедине с Л и з о й. Фрейлины, маячащие за её спиной, пожалуй, не почитаются за участников беседы. Они скорее — украшение. Он сперва осматривается по сторонам, а потом вдруг решает не упускать столь удачной возможности. Разве прошлым днём они поговорили?
— Елизавета Петровна, если позволите, меня беспокоит один вопрос, — однако старается не смотреть на неё теперь. — Для чего я вам здесь? — вопрос, конечно же дурацкий, но звучит крайне серьёзно, будто он терзался этим всё время после торжественного приёма. А как же хочется опустить хотя бы формальности.
— Обыкновенно люди в моём положении получают должность и селятся где-нибудь в тихом имении, вдали от столицы. Я был бы ещё более благодарным за такую возможность, конечно же, — нет-нет, он не собирается на неё смотреть, этого не должно случиться. Невозможно говорить э т о глядя ей в глаза. Но будто бы умом он осознаёт, что уехать подальше было бы правильно.
Она была бы окончательно свободна, верно?
— Но, судя по всему, вы хотите оставить нас в Петербурге. Чем же я могу услужить Вашему Величеству?
Кирилл делает ошибку — опускает взгляд. Пожалуй, они могли бы вечно смотреть друг на друга, не вертись здесь вокруг столько людей; если бы только была возможность. Кто-то из фрейлин вскоре окликнет Лизу, а графиня приведёт Ксюшу обратно, мол прямиком в руки м у ж у. Довольно быстро заканчивается ещё один нелепый разговор, но Кириллу всерьёз нужно знать, чем он будет полезен этому государству теперь и стоит ли на это соглашаться.
Каждую секунду проведённую подле императрицы, Ксюша дрожала осиновым листом. Ей то и дело чудилось, что Кириллу очень хочется закончить эту беседу и пойти прочь. Теперь пойти прочь хочется ей. То и дело оборачивается, глядя вслед удаляющейся императорской свите. Ускоряет шаг, будто норовит сбежать как можно дальше от дворца. Как можно дальше от всего.
— Она твоя жена, Кирилл, — заявляет, как только отходят на безопасное расстояние. Ему подобные заявления совсем по душе не приходятся, но он неизменно сдержан и вежлив. Всегда таким будет. — Это неправильно, неправильно, — мотает головой, будто не может ни смириться, ни принять это озарение. Принять и осознать впрямь невозможно. — Твоя законная жена. Я же говорила тебе не делать этого, я же говорила. Как ей в глаза смотреть?
— Мы этого не знаем.
— Чего мы не знаем?
— Кто теперь законный.
Она бы назвала его сумасшедшим, но сдерживается, глубоко вдыхая петербургский воздух.
***
Дворец такой огромный, диковинный, очень блестящий, золотистый как купола церквушки, которую он наблюдал каждый день все шесть своей жизни. Только здесь золота больше. Возле каждого бюста останавливается, склоняет голову к плечику любопытно рассматривая когда-то вылепленные чьими-то руками черты. Чудится, вот-вот глаза моргнуть, нос зачешется, и этот дядечка бледно-серый громко чихнёт. Нет, никто не должен его здесь видеть, нельзя шуметь, поэтому бежит дальше, прячась за каждым удобным предметом. Иногда на стенах встречаются огромные картины. Был у него один знакомый художник — немного в этом разбирается. Разве что дома висела всего одна картинка с изображением побережья и величественных гор. С этих же картин разные люди глядят на него столь возвышенно, строго, насуплено, что хочется съежиться и закатиться в какой-нибудь уголок клубочком. Покачает головой, отгоняя страх всего лишь перед картиной, и побежит дальше. Ему никто не успел сказать, что бегать по дворцу не подобающе. Ведь здесь живёт сама императрица.
Сперва перехватило дыхание и казалось, ни одного звука, ни одного слова она вымолвить не может. Потом задрожали руки и прорвавшийся голос. Ксюша искала его всюду: под всеми кроватями, софами и столами, непременно во всех шкафах и даже дорожных сундуках. Потерять сына — это надо умудриться, хотя Алёша сам по себе мальчишка неспокойный. К счастью, они никогда не теряли его в лесу и сие можно принимать за чудо. Он терялся в поселениях, на ярмарках, среди людей, каких знал достаточно хорошо и не боялся. Здесь же он не знает никого и отчего-то была уверенность в том, что сбегать Алёша попросту побоится. «Я и забыла какой он любопытный», — растерянно вымолвила она, смахивая испарину со лба. Сообщать об этом было несколько стыдно, но куда больше она начала беспокоиться о его сохранности. Даже если столица и дворцы — более не средоточие страхов и ужасов, мало ли куда влезет и мало ли в чьи руки угодит. Кирилл совершенно не готов терять ещё одного ребёнка. Продолжает надеяться однажды хотя бы издалека увидеть свою дочь, пребывая ещё в относительно счастливом неведении о том, как, в сущности, обстоят дела. Пока что он отправляется на поиски сына, воссоздавая в сознании план дворца. Меньше всего ему хотелось бегать по этим анфиладам, селить суматоху и расспрашивать прислугу, которая непременно доложит куда следует о странном человеке во дворце. Пожалуй, никто более мастерски, нежели дети, не поставит взрослого в жутко неудобное положение.
Тем временем Алёша проскальзывает в очередную дверь, убегая от важного незнакомого господина. Его вид настолько суров, что нет сомнений: будет худо. Его родители никогда не применяли силу в воспитании, тем не менее этот ребёнок чувствует, когда нависает опасность. Так или иначе, его появление случилось не в самое спокойное время. Ксюше кажется, что передала она сыну с грудным молоком свою тревогу, постоянный страх и чрезмерную опасливость. И этот букет не отнимает того факта, что Алёша тот ещё проказник, умеет выпутываться из ситуации, как пойманная в сетки рыбка, умудряющаяся прыгнуть обратно в море. Несколько секунд он смотрит в щёлку, убеждаясь в том, что суровый господин куда-то делся и наконец оборачивается.
На него глядит как минимум пара глаз. За мольбертом стоит дяденька, на вид молодой и вовсе не дяденька и вовсе не стоит, а замирает с кистью в руках. Смотрит на Алёшу искренне недоуменно. Тот быстро смекает, что на холсте наполовину нарисованная дама, стоящая чуть поодаль. Она стоит в нежных солнечных лучах, и сама точно светится. У неё необыкновенного цвета волосы, как видал у лисиц, которые водятся дома. В свои полных шесть лет Алёша может сказать любому, что эта дама очень красивая. Любопытные тёмные глаза быстро смещаются на большой холст.
— А мне кажется, не похоже, — заводя ручонки за спину, заявляет со всей детской непосредственностью. — Где вы учились? — задирает голову, глядя самым экспертным взглядом на этого тощего горе-художника.
— Наверное, это ужасно скучно. Я вам сочувствую, — эти слова скорее обращены к красивой даме, которой приходится позировать. Никуда не сбежишь, стой смирно и ничего не делай — настоящее наказание.
— Один раз меня поставили в угол... я кое-чего натворил. Мне пришлось стоять в углу очень долго, прямо как вам.
Разумеется, откуда он мог знать, что здесь живописец творит парадный портрет самой императрицы.
Одна из горничных указала направление: ей якобы почудилось, как по коридору бегает кто-то маленький. Случается чудо, не иначе, когда Кирилл слышит родной голос. Ничем не отличаясь от своего сына, врывается в этот зал, очевидно забывая обо всех формальностях и дворцовых этикетах. Верно, именно этого он боялся. Пока они настолько близко, будет срабатывать неведомая сила притяжения. Он снова встречается с зелёными глазами, такими любимыми, что хочется заплакать.
— Елизавета Петровна, — приходя в себя наконец, уважительно склоняет голову, — прошу прощения за то, что... — бросает взгляд на художника, всё ещё стоящего с кистью в руке, — потревожили.
— Папа! — радостно восклицает Алексей, словно потерялся, а не сбежал самовольно, и теперь радуется тому, что его отыскали.
— Ты представился Елизавете Петровне? Так и знал, — становится рядом с ним, отчего-то не торопясь уходить. Следовало схватить за руку и бежать прочь, пожалуй. — Настоящий джентльмен всегда представляется перед дамой. А тем более, перед императрицей.
Что же, этот титул не производит особенного действия. Алёша толком не знает, кто такая «императрица» потому что там, в далёкой Камчатке об этом говорят нечасто. Он лишь переводит взгляд на Лизу, теперь более восторженный, словно «императрица» — это нечто завораживающее, интересное, сказочное (для взрослых такой она и является). Раз уж случилась эта оказия, надобно выйти из неё достойным образом. По крайней мере, Алёша умеет представляться как истинный офицер и держать осанку — отец научил, разумеется.
— Извините что не представился. Меня зовут Алексей Кириллович, — сквозь сияющую радость произносит он, вызывая на лице мимолётную улыбку.
Но в этом мгновении накапливается немало боли. Он разрывается между отцовской любовью и тем фактом, что этот ребёнок — самое необъяснимое, самая высокая изгородь между ними. Возможно поэтому, Кирилл даже не думает пытаться. А ещё она могла его не простить за прошлое. И всё снова останется туманным, неоднозначным.
— Что же, не будем мешать Елизавете Петровне? Похоже, нас ждёт урок манер, — протягивает руку, за которую Алёша быстро ухватывается.
— Ну пап, совсем не похоже ведь. Почему у императрицы такой неталантливый художник?
Снова задирая голову, он прямо-таки надувает губы, будто ему очень обидно. Что же, его сын быстрее проникся, чем он сам. Кирилл только пытается извиниться взглядом перед юным гением около мольберта, ведь ему столь великая честь оказана; а ещё он смотрит на неё целыми часами, чему можно позавидовать. Кирилл рисует не особо, уж точно похуже. Они уходят, а чувство недосказанности остаётся, терзания душевные — тоже. Теперь она знает его сына, знает его жену, самое время вымаливать имение подальше и обо всём забыть.
Потому что второй день пребывания в Петербурге становится пыткой.
Поделиться52024-07-04 12:43:00
Лиза смотрит ему в спину и не верит, что фигура удаляющегося прочь из парадного зала человека – это и впрямь ее Кирилл, и он и впрямь уходит от нее теперь. Ей кажется, словно она вновь попала в какой-то страшный сон, в котором тщетно зовёт его по имени, умоляя не бросать ее, хотя даже в самом страшном из ее снов, он не поворачивался к ней спиной. Ей хочется крикнуть: "Не уходи!", но она только крепче поджимает зубы и остаётся стоять неподвижно до тех пор, пока дворцовые двери с изысканным узором из золота не закроются за спиной человека, которого она вроде бы узнает, а вроде бы и нет.
Нет, это скорее он не узнал ее. Не узнал свою Лизу тогда как она даже и не заметила ни малейших изменений, которые затронули его за эти долгие годы. Для нее он так и остался все тем же Кириллом, который забирался к ней в окно душным весенним вечером и признавался в любви, словно и не было никакого расставания.
Только оно было, Лиза, оно было.
Она все на свете отдала бы, чтобы он обернулся, но зачерствелая часть ее души жестоко подсказывала, что ничего подобного не будет. Ты ведь отлично знаешь, что за дверьми в комнате, которую ты сама велела подготовить для с е м ь и его ждёт другая женщина и ребенок.
Боже, у него есть сын...
По крайней мере они не назвали его Сашей. Наверное, этого она бы не вынесла.
Лиза медленно, как во сне, отходит к окну, стараясь ступать спокойно и не дрожать [ей кажется иногда, что с трона до сих пор наблюдает за ней то ли отец, то ли та женщина], касаясь пальцами тяжёлых портьер и невидящим взором устремляется взглядом на мощеную площадь, на марширующих по ней солдат ее гвардии, а в голове, которая стала такой тяжёлой неожиданно [это все твои бессонные ночи, проводимые то за бумагами, то за книгами, то за тяжёлыми раздумьями] все вертится: "Алексей", сказанное таким родным голосом.
Раньше этот голос помогал не сойти с ума. Она просто вспоминала как он звучит, боясь забыть окончательно или разувериться в том, что этот голос существовал на самом деле.
Теперь – он звучит проклятием. Ещё одним из многих.
— Алексей Кириллович, значит... — она повторяет это тихо, придерживаясь одной рукой за живот, затянутый в корсет.
Красиво звучит. С именем Кирилла все, что угодно звучало бы так – она сама так говорила, пока была беременна.
У горлу подкатывает ком, мешая дышать, но она справляется с этим, чувствуя лишь, как давит и душит лента, переброшенная через плечо, какое тяжелое это парчевое платье, как невыносимо оттягивают шею драгоценности - подарки иностранных монархов на коронацию.
"Когда я была твоей женой, когда при других жёнах офицеров носила твою фамилию и была Елизавета Волконская, то мне иногда хватало и одного простого платья, которое мы шили с Верой Дмитриевной. Неужели ты не понимаешь, что я стала вновь Романовой хотя бы для того, чтобы вернуть тебя? Но разве ты не любил меня Елизаветой Романовой с той самой первой встречи в лесу? Так что поменялось?".
Поменялось его семейное положение. О вашей свадьбе знали всего несколько человек и даже та женщина о ней так и не узнала, полагая, что они живут друг с другом "в грехе" и не забывая при случае напомнить об этом Лизе. О жене же Кирилла Андреевича теперь знала едва ли не половина двора - слухи быстро разносятся. Для всех - они с Кириллом так и остались то ли влюблёнными, то ли любовниками, но не законными супругами. "Но мы-то с тобой знали правду, Кирюша...".
А может быть поменялось не только это. Может быть там, на этом краю света, где Лиза и не бывала никогда, вдали от нее, он попросту забыл о ней, стараясь выжить. А может быть забыв, встретил человека, который в тот момент оказался ближе и милее. А встретив, может быть и... Разлюбил.
Последняя мысль режет сердце так больно, что хочется вскрикнуть. В конце концов, жить дальше как-то было нужно, а клятвы верности имеют свойство забываться. Если бы это был вынужденный брак, то разве стал бы он теперь так на нее смотреть? Так к ней обращаться, словно они вернулись назад, когда она была цесаревной, а он ординарцем ее брата [Саша, Саша, как же тебя не хватает...]? Так просто уходить после стольких лет расставания? Нет, не может быть. Если бы это все было насильственно, он бы обнял ее. И это были бы единственные объятия, которых она бы не пугалась. Потому что брак оставался бы формальностью, которую было бы так просто решить.
Но от каких таких вынужденных браков рождаются дети? Дети рождаются по любви, верно?
Лиза устало сжимает руками виски, чувствуя, что вряд ли выдержит ещё немного работы своего ума, когда снова провозгласят за ее спиной: "Семён Иванович Бестужев", заставляя прийти в себя.
— Вы сослужили добрую службу, Семён Иванович, — она благосклонно улыбнется, вновь надевая маску своей спокойной величественности, по которой всегда узнавали Романовых. Даже стоя на коленях, они производили это впечатление, которое безмерно раздражало ту женщину, которая за десять лет так и не смогла стать императрицей крови, как бы не наряжалась в дорогие платья [и не заставляла Лизу ходить в лохмотьях]. — Я знаю, что все это было нелегко.
— Не такую уж и добрую, учитывая обстоятельства, Ваше Величество, — тихо возражает он и смотрит своим упрямым взглядом на нее, поджимая тонкие губы. Семён и так не отличался весёлым нравом, а после известных событий едва ли не превратился в холодную скульптуру для многих.
— Нет, от чего же? Моё поручение вы выполнили и вряд ли бы кто-то справился лучше. О вашей награде я распоряжусь.
Лиза знает, что необходимо его отпустить. Отправить за границу с дипломатической миссией [да только Семен никогда не был дипломатичен] или губернаторствать в какой-нибудь город, а она вместо этого эгоистично держит при себе, делает камергером, отлично понимая, с какой тоской каждый раз он провожает ее взглядом, когда она уходит прочь.
Когда-то она думала, что это у него пройдет - глупая, легкомысленная девочка, которой поклонялись слишком многие [и поклоняются вновь]. Она смеялась над взглядами Кирилла, потому что "ее мальчики - это почти семья".
Потом она все испортила.
Но даже после этого ничего не ушло. И Лиза с болезненной ясностью понимает, что не уйдет наверное никогда. А она никогда не сможет ответить взаимностью - и это понимает уже он.
И все же оставляет его рядом, не в силах расстаться с теми, кто действительно стал семьёй и кто уж точно, на удивление не предаст.
Лиза совсем не ангел. Да только некоторые готовы любить в ней и дьявола.
— Надеюсь, вы успели отдохнуть с дороги? Как прошла ваша первая встреча с Кириллом...— она запинается, но продолжает. —...Андреевичем?
Семён знал ее лучше остальных. Такова была эта жестокая правда жизни. И наверняка эту запинку заметил, но как обычно ничем этого не показал.
— Мы подрались.
Он никогда не врал ей.
Лиза устало усмехается, качая головой и принимая предложенную руку в перчатке – Бестужев отлично знает, как не нравится ей прямое касание.
— Мне стоило бы сердиться на вас. Драться я не просила.
— Хотите узнать, как так вышло, что он дважды женат? — спрашивает между тем Семён, когда они покидают, успевший опостылеть ей за это недолгое время зал.
— Нет, — немного подумав отвечает Лиза. — это не наше дело и я не в праве просить вас заниматься ничем подобным. Что случилось - то случилось.
Они оба знают, что она врёт.
— Вы вправе просить что угодно, вы же знаете, — тихо возражает вчерашний паж.
— Я знаю, — просто отвечает она, легко хлопает по этой руке в перчатке и высвобождаясь. — но лучше узнайте что там с Пашей.
Ведь теперь ей осталось только вернуть дочь. Теперь останется жить хотя бы ради этого.
***
Лиза отсылает слуг из своей спальне - бывшей комнаты ее матери, переделанной теперь по ее собственному вкусу. От матери у Лизы остался только крестик, как от Кирилла и кольцо и воспоминания. В комнате Саши она спать не могла – ей казалось, что там до сих пор чувствовался его запах. Но и в этих покоях, с обитыми шёлковыми гобеленами стенами, расписными плафонами на потолке, огромной кроватью, фарфоровыми вазами и даже Азором – двухлетней афганской борзой, подарком шаха, которому дозволено было спать прямо на кровати [так у нее хотя бы сохранялось ощущение чего-то живого под боком], зачастую ей не спалось.
А уж теперь она не сможет заснуть вовсе. Даже после массажа висков тонкими пальцами, благовоний, которые раскуривал здесь Цзы Чань [они пахнут мятой и мелиссой], она не сможет заснуть. Этому мешают и привычные для нее демоны, которые ворочаются под кроватью с наступлением темноты в отсутствие ночных развлечений и праздников и тот простой факт, что где-то в одной с ней дворце, в одном крыле этого огромного дворца, сейчас спит Кирилл.
Спит с другой женщиной, но это ведь Кирилл. Ее Кирилл.
Не с ней, но буквально в нескольких от нее коридорах.
И это невыносимо.
Сколько она мечтала об этом моменте в самых смелых из своих мыслей, помогающих ей жить дальше? Сколько представляла, как снова будет засыпать в его объятиях по-настоящему, утыкаясь в грудь и рассказывая обо всем, что случилось?
Опускает ноги в шелковые тапочки, ежась от налетевшего внезапно холода, который чувствуется даже сквозь накинутый на плечи халат.
Даже в ее кошмарах он не мог разлюбить ее. Могло случиться что угодно, но только не это.
Разве не должна она выяснить этого? Вот прямо сейчас пойдет и выяснит – недомолвки всегда были ей порядком ненавистны, да и в конце концов он же р я д о м, теперь совсем не за тысячи верст, а рядом. Всего несколько шагов. И это, в конце концов, ее дворец! А она, как никак императрица!
И, с неожиданной решимостью, подхватывая подсвечник и не особенно о последствиях задумываясь в эту порядком сумасшедшую минуту, стремится прочь из комнаты, под недоуменными взглядами лакеев, служанок, охраняющих внешние покои дворцовой стражи.
В ее положении есть некоторые плюсы. Один из них – никто не посмеет задавать лишних вопросов.
Лиза точно знает куда идти - она точно знает, какую комнату выделяли для семьи Волконских и уж точно хорошо знает свой дворец. В голове лихорадочно проплывал разговор, который она составит [да-да, составит непременно - у него отвертеться не выйдет].
— Что, Кирилл Андреевич, решили со мной в благородного рыцаря играть? Изволили жениться, а меня на свадьбу и крестины не позвали? — она бормочет это с развивающимися от быстрой ходьбы рыжими волосами, которые даже несмотря на все ужасы того, что пришлось пережить не поддернулись сединой.
Лиза продолжит быстрым шагом, почти бежать к заветной двери, за которой ответы на ее вопросы, за которой ее спасение, ее проклятье, ее любовь, ее...
Она останавливается буквально перед дверью, из-под которой льется редкий свет свечи и решительность, с которой она неслась сюда в поисках ответов, в поисках л ю б в и, улетучивается неожиданно, как слышится ч у ж о й голос откуда-то из недр этой комнаты.
Холод накрывает с головой.
Где-то там, внутри этой комнаты, не только ведь Кирилл. Где-то там с ним в одной постели возможно другая женщина, другая история, в которой тебе нет места.
— Ваше Величество желает войти? — решается спросить вдруг один из лакеев, выводя из этого странного транса и возвращая ее на землю.
— Нет, не желает, — настолько тихо, чтобы никто не услышал. Благо стены толстые. — Я ошиблась... Маршрутом.
Вряд ли кто-то понял ее фразу, а Лиза тем временем разворачивается вместе с подсвечником и идёт куда глаза глядят, в итоге вновь приходя совершенно уже случайно в ту самую комнату, где когда-то так любили собираться вместе: Саша, Наташа, Вася, Надя, она, а потом и Кирилл.
Ставит подсвечник на старую клавитуру и как-то тяжело, как-то безнадежно опускается рядом, глядя на лунные дорожки, раскиданные в этой тихой комнате по паркету. Так странно, что здесь она совсем не чувствует никаких призраков, хотя почти все, кто был вхож в эту комнату, уже мертв или больше не является тем, кем эта комната его запомнила.
Что бы Лиза, спрашивается сделала? На глазах у его сына? Какой позорный скандал? Да и какой смысл? Какой смысл, ведь если бы он хотел он бы рассказал ей все сам.
Он бы назвал ее Лизой.
Он бы любил ее.
Но ей нет места в этой комнате, за той закрытой дверью.
И возможно, нет места в его жизни.
— Люби другого. Я вам не помеха.Моя любовь останется при мне, — цитирует сонет Шекспира в пустоту комнаты.
Сегодня она снова вряд ли сможет уснуть.
Любовь не жаждет славы и успеха,
Любовь любых врагов своих сильней.
Любовь — маяк, что светит в океане
Всем мореходам, сбившимся с пути,
Любовь — звезда, что дальним светом манит,
Но близко не желает подпустить.
Любовь не служит времени, с которым
Не справится никто и никогда,
Она не гнётся под его напором
И устоит до Страшного суда.
А если ты не веришь в чувства эти —
Я не поэт, и нет любви на свете.
***
Она неторопливо прогуливается вдоль все ещё цветущих розовых кустов, прикасаясь пальцами к ярко-алым или наоборот нежно-белым лепесткам, чувствуя лёгкую бархатистость и ещё не сошедшую с них росу. Около ноги семенит Азор, который периодически грозит распрыгаться по лужам и забрызгать окружающих ее фрейлин грязной водой, как это часто и бывало.
Вокруг Лизы теперь всегда много народа, даже когда откровенно говоря хочется побыть в одиночестве или в компании Вари, что почти равноценно последнему - Варя слишком хорошо улавливает нужное настроение и говорит тогда, когда спрашивают. Остальные же предпочитают щебетать как можно больше и как можно громче, пересказывая свежие сплетни, говорят что-нибудь о ее наряде [это обязательно, словно традиция], простреливают глазками в кавалеров и разумеется все как одна надеются однажды удачно выйти замуж. Зачем ещё становиться фрейлиной?
Когда Лиза только надела на голову корону и села на трон, ей было не привычно, что ее окружают толпы барышень и более престарелых и важных дам, за которых она почему-то должна нести ответственность, но со временем привыкаешь ко всему. Раньше [в ее прошлой жизни] за это, определенно, отвечала ее мать – Лиза с сестрами, а потом и одна мало интересовалась внутренним устройством придворной жизни и она работала сама собой. А потом...потом был Кирилл, совсем другая жизнь, которая теперь более напоминает сон и то, что происходит вокруг нее все больше это доказывает.
— Бедняжка выглядит совсем жалко...— слышится над ухом сочувственное изречение Алины, дочери князя Оболенского.
Алина - одна из младших его дочерей и совершенно понятно, что должность фрейлины для его дочери воспринималась как избавление. В конце концов должность эта порядком престижная для тех, у кого так мало шансов выйти замуж удачно, но при этом шансов все равно было больше, чем если бы девушки проводили свое время в каком-нибудь домашнем поместье под Москвой. В конце концов это ведь был Петербург, да ещё и императорский двор.
Софья Михайловна старалась брать к себе во фрейлины кого-нибудь малосимпатичного. Неудивительно, что иностранцы потом писали пасквили своим императорам, мол в России закончились красивые женщины. Императрица боялась и того, что на фоне юной красоты станет и вовсе чудовищем, да и кроме того, что любимый ее фаворит станет на них засматриваться [что впрочем не помогало].
Лиза же специально принимала во фрейлины и красавиц из знатных семей и просто дочерей тех из своих приближенных, на поддержку которых следовало бы опираться в дальнейшем. Она не боялась, что юные девушки затмят ее – ее это вообще мало интересовало. Куда приятнее окружать себя кем-то красивым, чтобы по крайней мере от тех, кто вокруг тебя не приходилось испытывать рвотных позывов. В целом фрейлинами могли становиться молодые незамужние хорошо образованные девицы знатного происхождения. Иногда девушек брали в придворный штат в "благотворительных" целях – так оказывалась милость семьям, которые были знатны, но беспомощно бедны, а как известно облагодетельствовать всех совершенно невозможно и по крайней мере так закрывала она состоявшуюся ранее несправедливость. Только позиция при дворе могла обеспечить им престиж и приличное жалованье, а также солидное приданое при замужестве.
Может быть Лиза сделала бы и бывшую княжну Голицыну фрейлиной.
Но теперь она Волконская и ее муж сможет обеспечить ее всем необходимым.
О, как хочется Лизе спросить ее понимает ли она как ей повезло. Она могла бы и потребовать ответа, в конце концов потребовать вернуть с в о е назад. Да только чем тогда станет она отличаться от той, кого ненавидела? И потом – не теленок же он, чтобы его так легко было увести.
Занятия у ее штата фрейлин были приличиствующие их должности: читать вслух, писать под диктовку письма, развлекать её гостей беседой или пением — а при случае выносить ночной горшок или помогать ее монаршей особе одеваться. Особенно же близких себе и надежных Лиза просила об услугах несколько более значимых: послушать и понаблюдать за какой-нибудь особой иностранного или иного толка, сделав это как можно незаметнее, а так же более личные поручения.
Лизе никогда не казалось, что они выполняют какую-то лёгкую работу. Нужно найти исходную точку опоры, чтобы с охотой добровольно и с достоинством играть роль друга и холопа, чтобы легко и весело переходить из гостиной в лакейскую, всегда быть готовым выслушивать самые интимные поверенности владыки и носить за ним его пальто и галоши.
При выходе замуж фрейлина либо лишалась должности, либо в некоторых случаях уходила на повышение: замужняя женщина могла стать статс-дамой, гофмейстериной или обер-гофмейстериной. Они занимались административными делами женского придворного штата, заведовали канцелярией, а также исполняли почётные церемониальные обязанности: представляли явившихся на аудиенцию гостей, несли императорских младенцев на крещение.
Если бы все сложилось теперь, как она мечтала, то непременно несли бы их с Кириллом ребенка. У них обязательно были бы дети.
Фрейлины, которые не выходили замуж, могли жить при дворе до самой смерти. Для них максимальный карьерный рост мог заключаться лишь в повышении до камер-фрейлины: данное звание подразумевало особое доверие со стороны императорской семьи и исполнение наиболее деликатных заданий.
Таковой оставалась Варя, которую Лиза может и хотела бы отпустить в счастливую жизнь с тем, кто будет ее любить, да только сама камер-фрейлина не хотела или не была готова к такому положению дел. А Лиза эгоистично соглашалась с этим, потому что никому так как Варе не доверяла. Даже Любаве [которую привыкла отчего-то звать Любой], которая тоже решила с упрямой решительностью всех Волконских замуж не выходить.
— Учитывая, чего бедняжка натерпелась - стыдно такое говорить, — замечает уже пожилая графиня Гончарова, статс-дама и та, кто постоянно как что, так вспоминала историю настолько давних лет, словно видела само сотворение мира. Она здесь помимо своих основных обязанностей исполняет роль еще и "морального ориентира", зорко наблюдая за нравами молодых особ, оставшихся во дворце. В конце концов во дворце как известно столько соблазна! Одни гвардейцы, отличающиеся во дворце как у себя дома чего стоят!
Алина замолкает, но остаётся при своем мнении – все молоденькие фрейлины, вынужденные служить императрице отчего-то дружно решили встать на ее сторону. То ли дело во всеобщем пресловутом обожании Лизы, то ли в том, что она выдает им жалованье. Так или иначе, будучи наслышаны о столь несчастной истории любви из третьих уст, дамы решили дружно "презирать" Кирилла и объявить "бойкот" его жене. Они единогласно решили, что невозможно их императрицу предпочесть никому, с жадным любопытством желая узнать – как же выглядит женщина, которая "увела" возлюбленного самой Елизаветы Петровны. Даже жалко как-то.
Так по крайней мере рассказывала Варя.
А Лиза... А Лиза делает вид, что ей совершенно безразлично, что он снова появляется перед глазами. Что она буквально чувствует его запах, точно знает, что подними она от розового цветка голову, то увидит его фигуру и в который раз усомнится – не призрак ли перед ней.
У Лизы искусно скрыты темные круги от ещё одной беспокойной ночи, проведенной не в собственной кровати, а утро такое влажное и прохладное она зачем-то решила провести на свежем воздухе, чтобы хотя бы немного разогнать дурные мысли. И вот, пожалуйста - дурная мысль прямо перед ней. Стоило остаться во дворце.
"Но это все же мой дворец. Чего не хватало – прятаться в собственном доме! Нет, раз уж ты решила видеть его – так выдержи это! Тебе прятаться нечего!".
А вот стыдиться...
Лиза надевает перчатки на руки, только тогда чувствуя какое-то спокойствие.
Столкновение неизбежно, да и ей, если признаться интересно в конце концов увидеть не только его – чужого и родного одновременно, но и Ксению Дмитриевну. И чем ближе она подходит, чем ближе вся процессия за ней оказывается, то тем больше убеждается Лиза, что ее предполагаемая соперница напугана слишком сильно, чтобы представлять угрозу. Да боже мой - пожелай Лиза и та, судя по ее виду просто исчезла бы. Удивительно хрупкое создание, которое столько пережило. А впрочем - кто из них не пережил.
Лиза надевает на лицо одну из самых теплых улыбок, на которые была способна. Обычно она всегда располагала людей к себе. Если хочешь, чтобы при дворе этой женщине дали спокойно жить – начни с себя. Да, упрямые молодые девушки все равно не полюбят ее, но Лизе совсем не хочется уподобляться все той же Софье Михайловне. Ее самый страшный кошмар – стать похожей на свою мучительницу.
Время прошло. Выборы сделаны. Смысл винить истрадавшееся это создание в том, что ты сама несчастна? Будто это заставит Кирилла называть тебя Л и з а.
— Я рада, наконец увидеть вас, Ксения Дмитриевна, — она благосклонно кивает. — И я так же счастлива, если вы удобно устроились.
Не станет заострять внимания на ее фамилии или положении по крайней мере при всех и старательно пытается смотреть сквозь Кирилла. Она давно этому научилась – смотреть и не смотреть одновременно.
Она ведь тонет каждый раз, когда смотрит в эти глаза, глаза такого петербургского цвета стали и неба.
И каждый раз разбивается, стоит увидеть в них лишь разбитое отражение самой себя.
Лишь тень.
— Надеюсь, ваш муж, — а тут она не удержалась, но скорее случайно, чем нарочно. И потом – это ведь действительно так. — не станет прятать вас от нас теперь, поэтому ожидаю видеть вас при дворе. Мне всегда не хватает хорошего общества, — Лиза улыбается, искрится этим ненастоящим напускным весельем, а сама как обычно п о г и б а е т. Она вечная фальшивка, что уж там.
Ей следует показать в том числе перед фрейлинами, которые после наверняка разнесут это кто куда, что никто не собирается заниматься мелкой местью. Что никто не собирается делать из нее изгоя. Что такие времена прошли.
Это ее миссия, раз больше ничего не остаётся.
Графиня Гончарова быстро приходит на помощь, отзывая Ксению Дмитриевну в сторону, вновь заводя песню из своих воспоминаний, а Лиза останется фактически наедине с Кириллом.
Раньше - что-то вроде мечты.
Теперь - кошмар. Потому как она даже не может до него дотронуться. И потому, что все смотрят [а раньше тому мешали целые мили, версты и километры], и потому что он...вряд ли к этому расположен.
У нее на самом деле дыхание перехватывает и царапает горло. Наивное, глупое сердце решит, что сейчас, если и не объяснит что произошло, то по крайней мере скажет встретиться где-нибудь, чтобы в конце концов все объяснить. Оставит записку или... Или хотя бы каким-то намеком даст ей знать, что он все ещё...все ещё что Лиза? Тебя любит? Какой вздор – это ведь твои фрейлины любят спрятать под подушку любовный роман, а ты читаешь труды Макиавелли или книги по кораблестроению, собранные отцом [он их не читал особенно – любил делать сам, но собирал].
Он начинает говорить, а она после первых же слов мгновенно леденеет.
И ей богу, единственное желание, которое у нее возникло – наступить ему со злости на ногу. О нет, ей богу не так она представляла их встречи и общение. Она должна была бы беспрестанно обнимать его, целовать его, а он...
Лиза бросает на него такой взгляд, от которого он должен упасть на месте, но берет себя в руки.
Вот оно как, значит. Настолько ему невыносимо ее общество, что единственное, что его волнует – как бы поскорее от этого общества избавиться? Не спрашивает он о том, что случилось с ней здесь, пока он отбывал свое несправедливое наказание. Не спросит про переворот, не спросит про Машу... Лиза хочет закричать на него, хочет как минимум дать пощечину и может вызвать на дуэль. Будь она мужчиной - так и поступила бы.
Он отводит глаза, а она наоборот с каким-то болезненным упорством смотрит в его лицо, желая причинить боль то ли себе, то ли ему. Да какое ему, пожалуй дело до ее боли? У него вот другие проблемы!
— Кирилл Андреевич, — она усмехается. О, выработанная за это время искусная сдержанность! Ей пришлось обучиться этому искусству, тем более когда ведёшь игру с самим дьяволом. Не знала только, что пригодится это и теперь. — осторожно – я могу подумать, что оказанных вам почестей вам недостаточно и вы хотите поместье помимо всего прочего. Право, не мешало бы быть скромнее. Иначе казна лопнет, а ее и так подрастащили уже два года собрать не можем.
Лиза будто тонко издевается, хотя отлично понимает о чем он.
Он хочет уехать от нее куда подальше. Зажить со своей новой семьёй в прекрасном домике с пасторальным пейзажем за окнами и стаей собак. Будет рассказывать своему сыну о былых временах, которые безвозвратно ушли и может родить дочь для приличия.
А Лизу оставить в столице, вместе с безвозвратно ушедшими временами, этаким памятником юности.
Зелёные глаза темнеют вместе с темнеющим небом. Саша в такие минуты кричал: "Свистать всех наверх! Грядет буря!" и театрально падал навзничь, когда она разъяренно кидала в него подушку.
Кирилл таким тонким чутьем не обладал. Да и подушки под рукой не было, поэтому и приходилось вести этот диалог.
"И это все, что беспокоит тебя, Кирюша?", — хочется переспросить с обидой.
— Вы вольны просить у меня чего угодно, что я в силах вам предложить, — прозвучит последнее двусмысленно. Она могла бы предложить ему себя: свою душу, тело, положение [только корону ради него оставить больше не может – слишком много людей пострадает от этого], но ему оно без надобности. Ему вот – подавай усадьбу и может дойных коз. — но не покоя. Покой это единственное что дать я вам не могу. Как я могу подарить вам то чего не имею сама? Да и я дала вам такое высокое звание уж точно не для того, чтобы стали вы выращивать пшеницу и наливать чай в самовар, — Лизе именно так помещик иногда представляется. — И потом – разве у нас здесь в столице вам скучно? Могу пообещать, что скучать не придется, — иные решили бы что вздумалось ей флиртовать, но чего ещё не хватало.
У Лизы внутри кипит целый вулкан, готовый в любую минуту разлиться на его голову огненной лавой.
— Чем можете услужить?...— повторяет она, словно пробуя это на вкус. — Об этом не волнуйтесь - что-нибудь я придумаю и непременно извещу вас об этом, — звучит издевательски, но ничего поделать она не может.— Но о делах я привыкла говорить в отведенное на то время, а во время прогулки, стоит отдыхать. А что же касается места вашего жительства, коли императорский дворец вам не угодил, то вы в любом случае будете получать жалованье согласно вашему званию. Как сможете приобрести то имение, которое вам приглянется - неволить не стану. Но вам следует понять, что вы в любом случае нужны мне з д е с ь, — под конец улыбка ее становится почти оскалом львицы. — А вообще, Кирилл Андреевич, на вашем месте я бы так не торопилась. Я полагала вам следует здесь обосноваться прежде, чем служить государству. К примеру, посетить казармы своего полка, — лицо становится холодно-серьезным. — если вы конечно не забыли о них. Теперь для них новое здание отведено – к Зимнему особливо близко. Навестите своих сослуживцев быть может? Многое изменилось.
Лиза понимает, что практически читает ему нотацию и тычет лицом в тот факт, что все его прошлое, будто стёрлось для него, но ничего поделать с собой не может. Ей и так больших усилий достает не хотеть бросить вон тот тяжёлый камень прямо в его упрямую голову...
Она едва ли дожидается, когда его ж е н а вернётся наконец, чтобы всем своим видом дать знать, что разговор окончен, прошествовать прочь несколько быстрыми шагами. Азор радостно победит следом, следом поспешат и фрейлины.
Глупый, несносный, упрямый....
—...невыносимый болван!
Лиза ходит из стороны в сторону по своему кабинету уже некоторое время и никак не может успокоиться. Боязливо вжимают головы в плечи лакеи, стоящие за дверьми – никто не хочет попасться под горячую руку Романовых, когда те в праведной ярости. Слишком свежи до сих пор воспоминания о той женщины. Но в отличие от Софьи Михайловны, Лиза в гневе не отправляла людей на каторгу или в мучильни, а просто сотрясала воздух, периодически врезаясь в предметы и ещё больше от этого раздражаясь.
Не поддавалась ее настроению только невозмутимо сидящая на софе Варя, которой Лиза и высказывала все свои претензии относительно недавнего поведения Кирилла, несколько сгущая краски, но не упуская подробностей. Лиза могла бы кричать и в пустоту, но молчаливый собеседник ей не мешал. Она наградила его всевозможными негативными эпитетами, которые вспомнила, упирая руки в бока и пытаясь очевидно просверлить в стене дыру.
— И знаешь – мне совершенно безразлично теперь! Да-да, я конечно все поняла и окончательно, я клянусь тебе окончательно, — Варя вообще то не требовала от нее никаких клятв, но Лиза только сильнее раздражается. — перестала надеяться на то, что ему хотя бы интересна. Кончено! У него явно своя жизнь – видела бы ты его лицо, Варя! О, там было на что посмотреть! Ему лишь бы уехать!
— Прошло не больше суток, — замечает она, прокалывая иголкой пяльца с видом, будто и не произошло ничего страшного.
Это раздражает на самом деле ещё сильнее.
— Тем более! Прошло так мало времени, а он уже задаёт мне такие вопросы! Бессердечный человек! Не могу поверить, что столько времени его любила! Ну уж нет – на его месте мечтали оказаться столько мужчин, а он-мне: "Зачем я здесь?!". Хочет – пусть едет к своим псам, десятерым детям и чаю для своей спокойной жизни!
— Десятерым? — Варя удивленно выгибает бровь, а Лиза устало отмахивается.
Ну да, может пока столько детей у него и нет, но наверняка будут! Почему и нет? Раз рядом с ней он находится не хочет – значит хочет с кем-то ещё.
"Зачем я вам?".
Снова болезненно царапает этот вопрос внутри все естество. Неужели ей нужно говорить это вслух?
"Чтобы быть со мной. Чтобы любить меня. Неужели этого мало?".
— Так или иначе, Ваше Величество, если вы посчитаете нужным отослать его – так и сделайте. Раз он такой... — она возвращается к своему занятию, которое очевидно находит более интересным, чем этот разговор. —... болван. Я сразу это предлагала.
— Нет, тогда я сделаю как он хочет! — Лиза сама себе противоречит и наверное теперь над ней смеются все портреты в этой комнате разом. Ей кажется, что сейчас даже волосы ее начнут изрыгать пламя. — Дудки! Я искала его, я ждала его, хотя могла выбрать кого-то и получше и... красивее! А он, вместо того чтобы хотя бы объясниться хочет сбежать!
Это конечно тоже ложь. Она видела много красивых мужчин, но всегда перед глазами стояли все те же серьезные серые глаза с такими иногда смущённо - опущенными длинными ресницами.
Маша была очень на него похожа этими ресницами и темными волосами.
— Ничего ты не понимаешь, Варя, — не выдерживает наконец Лиза, хотя не особенно-то ее фрейлина и спорила. Лиза обессиленно опускается в кресло, замечает, словно бы дернулись уголки губ у Вяземской в подобие улыбки.
— Это ты теперь надо мной смеёшься? — возмущается она, пока Варя пытается вернуть лицу вид невозмутимый. Когда она улыбается внешнее несовершенство становится менее заметным. Когда эта улыбка не ироничная или горькая. Нет, Лиза не злилась на нее, скорее на себя и Варя это отлично знала.
— Что вы, как я могу? — та очень неправдоподобно извиняется и Лиза закатывает глаза. — Просто... Я думаю в каком-то смысле хорошо, что он здесь, — она не даёт ей возмутиться и продолжит свою мысль. — потому что такой настоящей я давно тебя не видела. Уже успела забыть. Если Волконский даже в таком состоянии делает тебя такой – может стоит подержать его здесь?
Они обе тихо посмеются – несколько грустно, но это скорее светлая грусть, нежели привычная тоска по своей так и не ставшей счастливой молодости.
— Я думаю, Вишняков ждёт вас для продолжения портрета в Малой Гостиной, — говорит она через некоторое время как ни в чем ни бывало.
— Ах да, какое счастье, — ворчит Лиза одергивая платье. — клянусь, если он не закончит его к моему дню рождения, то я сама его дорисую!
***
Вишняков действительно был талантливым молодым человеком – одним из многих талантливых подопечных канцлера, которого он ещё давно приметил среди бедных воспитанников какого-то весьма уважаемого художника, у которого тот был на побегушках. Талантливость оного, впрочем никак не упрощала ему жизнь, так как навыки общения его оставляли желать лучшего. Он хорошо рисовал, но плохо объяснял чего хочет, а может просто боялся ее саму [Лиза также подозревала, что как и многие молодые люди, которым посчастливилось ещё не влюбляться, он зачем-то решил спутать восхищение ей и влюбленность, от чего бесконечно робел], краснел и заикался.
Оставалось только надеяться, стоя на своеобразном постаменте, что несмотря на это все будет хорошо и портрет займет достойное место среди прочих. Вся ее семья за исключением Саши, который в жизни выглядел ещё лучше, на портретах, написанных в духе своей эпохи, по последнему писку моды, как ей казалось выглядела нелепо. Кто в париках, кто со слишком румяными щеками или тонкими бровями, которых в жизни у них отродясь не было: зато так было положено. Непременно в доспехах, парадных платьях и высокими причёсками, которая теперь была и у Лизы и ужасно мешала на самом деле стоять в той позе, которую уже несколько месяцев выписывает художник. Сам постоял бы он во всем этом придворном облачении, в котором следовало позировать, при этом "поверните Ваше Величество голову чуть левее и вздерните подбородок чуть царственнее".
К тому же у самой Лизы с картинами и натурой были свои ассоциации и воспоминания, о которых хотелось бы забыть. Нет, они не были такими устрашающими как другие, более темные воспоминания, которые вообще запрещено было открывать, но все же. Вася давно мертв, шрамы с тех пор полностью растворились – они были недостаточно глубокие. Шрам же на ее плече теперь надёжно скрывался платьем, а даже если бы и не скрывался, то на портрете наверняка бы его не было. Художники вечно пытаются приукрасить действительность.
Вася полагал себя хорошим художником.
Кирилл так рвался разобраться с ним, что она еле его отговорила. Можно ли забыть прикосновение губ к коже, каждый раз когда он ещё его видел? Вовсе нет. Невозможно. Невозможно...
Лиза так глубоко уходит в свои мысли, что забывает о "царственном взгляде" и пропускает момент, когда в комнате окажется третий человек. Она словно просыпается от воспоминаний только от несколько возмущённого голоса Вишнякова:
— Не мешай, раз не понимаешь! Где твои родители!
Лиза поворачивает голову и встречается с любопытными глазами напротив. Детскими глазами. Ей на секунду покажется, что она задремала. Но мальчик [а она теперь точно видит, что это мальчик] никуда не исчезает, как подобало бы призраку, а продолжает с живым интересом разглядывать ее в своей милой непосредственности ребенка.
Ребенка... Какое странное чувство видеть здесь детей. Во дворце их не было – на балы и приемы их брать было не положено, своих детей такого возраста все воспитывали в своих поместьях и больших дворцах Петербурга. Но здесь, в Зимнем дворце, детей давно не было. Эти залы забыли каково это, когда весёлый детский смех отлетает к потолку, забыли царственные анфилады о топотке детских ножек по дорогому паркету. Все надолго погрузилось в темноту, а теперь раз – и дитя!
Лиза смотрит на него несколько мгновений как заворожённая, вглядываясь правильные, удивительно симпатичные даже для такого возраста черты лица и не сразу понимая, кого черноволосый и кудрявый мальчик ей напоминает.
Нет, он не был похож на него полностью. Но сходство имелось.
Сердце вновь сдавит мучительная, нестерпимая боль, от которой даже дышать больно бывает.
Она сойдёт со своего места, подходя к мальчику, имя которого она уже знала, пусть он его и не называл, осторожно касаясь кудрявых волос.
— Она сейчас, наверное почти такая же как ты, только чуть выше... — говорит Лиза, поглаживая ребенка, глядящего на нее во все глаза, по голове, находясь ещё в каком-то трансе, выходя из него только после очередного.
— Я попрошу его прогнать, Ваше Величество, если...
— Нет-нет! — восклицает она так поспешно, что ловит удивлённые взгляды художника. — Это всего лишь ребенок. Сделаем перерыв ненадолго, мне все равно нужен перерыв.
Спорить тот не станет, продолжая ворчать, что "какой-то щенок не смыслит ничего в высоком искусстве", а она останется с сыном Кирилла [а она в этом совершенно не сомневается теперь] предоставлены на какое-то время сами себе. Вишняков продолжит тем временем разглядывать свое произведение.
— Да, ты прав. Это очень скучно... — собственный голос кажется таким далёким, пока она так жадно вглядывается в его лицо. На вид не больше шести лет. Может и семь, но учитывая обстоятельства очень вряд ли. Такой открытый, выросший где-то в лесах и от того наверное такой совершенно искренний. Дети придворных уже делают реверансы и важно отвешивают поклоны.
Они бы подружились с Машей. Она была бы чуть старше.
— Что же ты такое натворил? — с лёгкой улыбкой, глядя на него сверху-вних спрашивает Лиза. — В следующий раз, если решит тебя кто наказать, говори, что пожалуешься Елизавете Петровне.
И она почти не удивляется, когда видит, как распахивается дверь и как без всякого предупреждения врывается в нее конечно же Кирилл, к виду которого она все ещё не может привыкнуть до конца. Лиза отрывается от одного названного гостя и возвращается взглядом к другому.
На одну секунду покажется ей, что узнает тот самый взгляд, который ловила на себе на протяжении стольких лет. И снова захочется все бросить, всех бросить, кинуться на шею и разрыдаться.
Это же ее Кирилл. Это же...
Отец и муж. И совсем не ее.
Такой милый, красивый мальчик.
Такая злая насмешка судьбы — ты ведь главная проблема всех этих отношений. То, что наиболее сложно понять. Как ты родился? По любви? Может ли быть иначе? О, милый малыш, как тебе повезло! По крайней мере тебя, он точно любит. Стоит только посмотреть, как он переживает о том, что потеряет тебя.
Лиза знает, как Кирилл умеет любить.
Ей довелось это видеть.
Но все прошло, верно?
— Кирилл Андреевич, — однажды она привыкнет называть его так официально. Лиза на этот раз первой отводит взгляд, следуя его прошлому примеру.
Это невыносимо. Эта ситуация, он, улыбающийся мальчик, который зовёт его: "Папа!", так звонко.
Ее первое слово тоже было: "Папа". Ты помнишь, Кирилл? Или эта женщина смогла вытравить в тебе совершенно все? Заставила забыть? Я не позволила ей это, так почему позволил ты?
— Ничего страшного. Молодой человек давал ценные указания относительно моего портрета, верно?
Они стоят рядом – такие похожие и не похожие одновременно, а она не имеет к этому ребенку ни малейшего отношения. И злиться не может – дети не выбирают где родиться. Да и потом, наверняка с ребенком его жизнь нашла смысл.
А ей пришлось найти смысл в целой стране.
— Я рада нашему знакомству, Алексей Кириллович, — благосклонно кивает Лиза, ее раз потрепав мальчика по кудрявой голове и приняв серьезный вид. — Надеюсь, когда вы вырастите, то сослужите стране и мне добрую службу. Как ваш отец, — добавляет последнее, но не смотрит на Кирилла.
Слишком больно.
Она думала, боль наконец закончится, когда он вернётся, но стало только невыносимее. А отпустить его все ещё не может. Эгоистично и по-детски почти, но хотя бы так, причиняя себе боль, видеть, слышать, знать что он жив. Может быть однажды ей станет этого достаточно.
— Кирилл Андреевич, — она все же останавливает его у выхода, задумчиво глядя в сторону окна. Взгляд мутнеет. — впредь не теряйте своего сына. Потерять ребенка – худший кошмар из всех.
Лиза присаживается напротив своей дочери так, чтобы оказаться на уровне ее глаз. Неподалеку маячит карета – простая и нестерпимо черная, подходящая скорее для арестантов, которых повезут на плаху, нежели для ребенка, которого увезут в неизвестном направлении. Но, императрица, наверное, считала себя в высшей степени милосердной, расщедрившись перед своим Днём рождения и предоставив транспорт с охраной [гвардеец, зябко ежившийся до этого под промозглым ветром, поймав ее взгляд стыдливо отводит глаза в сторону – никому не нравится исполнять подобные приказы].
То, что у Лизы заберут ее дочь, было лишь делом времени, сразу после того как забрали Кирилла – механизм какой-то жестокой мести было уже не остановить. Та женщина просто, однажды, решила, что воспитывать ребенка "такая ненадёжная как ты – не может", но вряд ли в действительности дело состояло в трогательной заботе императрицы о судьбе их дочери. Разумеется нет. Это были лишь ещё один способ контролировать Лизу, спрятав Машу так, чтобы знала только сама Софья Михайловна, постоянно угрожая ее благополучием при случае.
Эта женщина все ещё боится Лизу, пусть у нее ничего и не осталось - ни желаний, ни чувств, н и ч е г о.
Но по крайней мере в этот раз – ей дали проститься. И Лиза не знает благодаря чему или кому это произошло. Может быть постарался здесь князь Вяземский, уговоривший ее хотя бы на это: дать матери попрощаться с собственным ребенком, которого она возможно никогда не увидит. Может, после очередного похода в церковь, как это с ней иногда бывало, она превращалась в персону неожиданно набожную, богобоязненную, да и почти юродивую: заказывала молебны, раздавала милостыню, постилась и отправлялась на богомолье в Москву [Лиза же в душе считала, что Бог давно не слышал молитв императрицы иначе – что это за Бог такой?]. Да и не все ли равно по какой причине Лизе стоит быть такой уж счастливой, если в конечном итоге у нее забирают д о ч ь, а все, на что она имеет право – проститься?
Они могли бы спрятать ее до поры до времени, увезти куда-нибудь, где ее не найдут, но быстро поняли, что сделают только хуже. Разумеется, куда решили увезти ее дочь, ей не сообщили. Лиза и не сомневалась, что сделают из этого целую тайну, чтобы бы при всем желании и ее скромных возможностях она ни за что не узнала бы – где ее дочь находится. Боялась ли Лиза, что при первой возможности ее маленькую, такую милую дочь, сбросят с моста или, как это было принято в Турции задушат черт знает где, скармливая самой Лизе историю о том, что она живёт счастливо где-нибудь за границей. Но, несмотря на все свои ужасные поступки, императрица как и указывалось выше, оставалось удивительно набожной, а брать на свою "святую" душу грех детоубийства, не стала бы. К тому же, для самой Софьи Михайловны, живая дочь Лизы и Кирилла ей была выгоднее.
Закаркают чем-то испуганные вороны, мгновенно взлетят вверх и улетят прочь – может быть снова казнь на площади, вот и полетели они каркая туда. Теперь в Петербурге смерть - дело обычное. Кашляет гвардеец около кареты, которую Лиза ненавидит, как впрочем и весь караул около нее. Да, пусть ненавидит и несправедливо – не их выбор, выполнять подобные приказы. Да, они и так неожиданно мягко общались с ней, словно извиняясь за то, что нужно будет сделать, но Лиза все равно ненавидела каждого из находившихся здесь.
А вот Маша нисколько не боялась, кажется. Ну и хорошо – Лиза с самого утра постаралась сделать так, чтобы ребенок думал, что это всего лишь увлекательное путешествие и только. Ещё ночью [их последней ночью] Лиза рассказывала ей сказку, позволив забраться к себе под одеяло. Сказку, которую придумал ещё ее отец, приходивший иногда к ним с сестрами уже после того, как потушили в их комнате свечи. От него всегда пахло табачным дымом и наливкою – такие сентиментальные чувства просыпались в Петре Великом не часто и обычно виной им были все те же попойки с Апраксиным, но все же иногда случились. И тогда он рассказывал сказки о морях и кораблях [наверное, он сам их любил], а они слушали затаив дыхание.
Эту же сказку рассказывала Лиза своей дочери под светом одинокой свечи и тихие, безнадёжные всхлипывания Веры Дмитриевны за тонкой стенкой [Лиза просила никого не плакать, чтобы не напугать Машу, хотя сама каждую секунду хотела разрыдаться]. Дочь никак не хотела засыпать, упрямо терла глаза кулачком. Конечно не хотела – без Кирилла она стала спать беспокойно и не долго. Сказки помогали, тем более сказки, которые рассказывали родители.
Лиза, когда эту сказку вспоминала всегда вспоминала хриплый голос отца, долетающий до нее сквозь шум ветра за окнами и сама на какое-то время вновь становилась девочкой под одеялом.
"Это случилось совсем недалеко отсюда, вон за той горой, похожей на пришедшего попить сгорбленного коня. Начинался шторм. На берегу, полузасыпанный песком, лежал на боку старый Баркас. Баркас тяжело скрипел и вздыхал. Он знал - это его последний шторм. Прогнившая обшивка не выдержит ударов волн. Еще час, два - и обломки его унесет в море...
И только огромный деревянный Штурвал не разделял его тревог. Могучее колесо Штурвала, потемневшее от впитавшейся морской соли и отполированное человеческими руками за столько лет, повернуто к бурлящему морю.
Старый Штурвал мечтал. Он был неисправимым романтиком, как и его друг - Капитан. Они вдвоем долгими месяцами бороздили морские просторы, стараясь не обращать внимания на ворчания и жалобы Баркаса, которому "нужен теплый и спокойный док, обеспеченная достаточным количеством дегтя и краски старость, а не всякие там путешествия-приключения..."
— А Капитан – это папа, — замечает Маша между делом, елозя щекой по Лизиносу плечу. Она все ещё не знает, куда делся ее отец. Не говорить же ребёнку о всех ужасах, которые пришлось ему испытать. Она слишком мала, слишком чиста - так пусть лучше верит в то, что отец отправился в путешествие, которое теперь и ей предстоит.
Лиза поднимает глаза к потолку, крепче прижимая к себе такое родное, такое тёплое тельце дочери, после целуя ту в ароматную темную макушку.
Она не будет плакать. Не будет.
— Верно, твой папа тоже капитан. Но слушай дальше.
"Потом Капитан состарился. Все реже приходил он навещать свой кораблик в порту. Корабельный Штурвал очень скучал без своего друга. Он вспоминал далекие плавания, стаи летающих рыб и ветви красно-желтых кораллов в глубине океана. И тогда брызги-капельки, ползущие по ручкам его колеса, казались слезами на морщинистом стариковском лице. Но чаще Штурвал весело крутил колесом, воображая себя в открытом море: "Курс зюйд-зюйд-вест! Пятнадцать градусов влево! Поворот овер-штаг!"
И сейчас он думал о том, как нелегко в такую погоду судам в море, как громады кипящих пеной волн обрушиваются на палубы, закруживая водовороты и сбивая с ног моряков в плащах... Ему хотелось быть там, с ними, помочь, выручить... Но Штурвал был накрепко вделан в палубу.
"Отпусти меня," - просил он. "Не отпущу! - ворчал вредный Баркас. - Вот еще! Не хватало, чтобы такелаж разбегался с корабля и шлялся где попало!"
В самый разгар спора на палубу освежиться вышла старая корабельная Крыса. Она еще помнила те времена, когда корабль, гудя туго натянутыми винтами, сходил со стапелей в свое первое плавание... Крыса прожила долгую и спокойную жизнь в трюме, среди ящиков с провиантом и матросских гамаков. Она разгрызала мешки с зерном, воровала у матросов сухари и обрезки вяленого мяса. То, что не могла съесть сразу, Крыса прятала в разные темные уголки корабля. У нее было столько тайников, что о многих она и сама позабывала. Крыса считала трюм своей собственностью, и ее очень раздражало, когда какой-нибудь матрос норовил пристукнуть ее шваброй или запустить тапочкой в тот момент, когда она совершала вечерний обход своих владений.
Теперь для корабельной Крысы наступило раздолье. Припасов у нее было вдоволь, сапоги и швабры исчезли вместе с гамаками и матросами. Когда Крысе хотелось чего-нибудь вкусненького, она грызла переборки трюма, пропитанные запахами грузов из далеких южных стран... Последние два зуба она сломала, жуя кусок перегородки с запахом австралийского манго. Закутавшись в кусок парусины, Крыса сидела на мокрых досках и, недовольно топорща усы, наблюдала за Штурвалом. - Что, все скрипишь? — Крыса вразвалочку подошла к Штурвалу. Попробовала откусить кусочек колеса. Нет. Крепковат пока. Ничего! Скоро солененькая морская водичка смягчит дерево. - Вот стоишь ты тут, - Крыса достала из щели между досками зернышко и принялась его жевать, ловко пере6ирая лапками,- никому не нужный, трухлявый мечтатель. Пользовались тобой, пока молод был, - и выкинули! Другое дело - я! Смотри: всю жизнь жила для себя - никто мне не нужен, я никому не нужна. Никаких мечтаний, только суровая быль. Спокойно живу, в сытости и довольстве. День прошел - прекрасно! Ночь пролетела - тоже хорошо! Думаешь, я не была романтиком? Была. По молодости, еще крысенком, жила я на камбузе, рядом с ящиком для картошки. Ох уж страха натерпелась! Все ходуном ходит, тарелки-вилки летают, и кок все норовит половником прихлопнуть - вот и вся романтика.
Слушал ее Штурвал, слушал, и лопнуло у него терпение. Потянулся он всеми своими деревянными частями, распрямился. —Как ты не понимаешь! — Лиза все силы свои собрала, чтобы звучать забавным -басовитым голосом. — Разве можно сравнивать морскую даль с теснотой трюма или резкий клич буревестника с мирным плеском волн? Тысяча морских чертей! Разве не тревожат душу рассказы о страшных чудовищах глубин и подводных гротах-лабиринтах, где корсары прячут сундуки с сокровищем? Вот это жизнь! Ты живешь морем, служишь ему. Ты - часть великого морского братства, где главный закон - помоги попавшему в беду. Где бы ты ни был - спеши! Разве это не счастье - дарить счастье? Разве это не жизнь, - спасти жизнь другому?..."
Лиза убирает чуть вьющиеся темные волосы под простенькую шляпку – Маша всегда походила на куколку, даже несмотря на те простые наряды, которые удалось ей сшить. Их торопят – неловко, грубовато, что пора ехать, называют Лизу цесаревной, хотя провались это к черту.
Берет ее маленькие руки в свои ладони, подует на них, отогревая горячим дыханием.
Маша улыбается – ее всегда смешил этот жест. Бедное, милое, родное дитя даже и не подозревает, что может быть в последний раз видит собственную мать. Невинное дитя, которое не заслужило всего этого.
Вера Дмитриевна стоит где-то позади, с раннего утра успела она собрать ей маленькую корзинку с так любимыми Машей пирожками с яблоками.
— А у меня подарок есть, — Лиза протягивает дочери медведя с забавно-двигающимися лапами и кудрявой шерстью. — он с тобой поедет.
Та расплывается в наивной детской улыбке и прижимает к себе игрушку.
— А ты со мной не поедешь? — спрашивает она, почесав крыло носа пальцем. Лиза вообще-то пыталась не разрешать ей подобных действий, но теперь и внимания на это не обратит.
У горле комок все разрастается с большей силой.
— Нет, я пока не могу. Зато он поедет и станет тебя защищать. У вас будет настоящее приключение!
— Но вы с папой потом приедите? — настойчиво спрашивает Маша, а у Лизы внутри все рвется и разбивается. Скоро от Лизы и вовсе ничего не останется.
Ложь бывает праведной. Нельзя говорить ребенку, что отец ее может никогда и не вернётся, а мать... Дети должны верить в чудо.
— Маша, — Лиза заглядывает в большие карие глаза дочери. Удивительные глаза. — я не знаю, запомнишь ли ты то, что я тебе теперь скажу. Но послушай меня, дочка. Я обязательно тебя найду и мы увидимся. Я все для этого сделаю. Только пока не знаю когда. Но даже если это не произойдет очень скоро, то ты продолжай мечтать. Как в сказке, которую я тебе рассказывала. Ты станешь очень красивой и счастливой девушкой. Я тебе обещаю. И не забывай свою бедную маму, прошу.
Маша задумчиво склоняет голову набок.
— Хорошо. Но я буду тебя ждать.
У Лизы внутри что-то трескается с таким грохотом, а она забывая, что обещала себе, что будет держаться, обнимает ее, прижимая к груди как тогда, когда она только родилась. Как когда рядом был Кирилл и больше ничего было и не надо.
О, почему вы, Софья Михайловна решили, что мне нужно было нечто большее?
— Пора, цесаревна, худо будет, если не отправимся, — слышится чей-то голос над ухом, но она будто и не слышит ничего, только сильнее и отчаяннее прижимая к груди дочь, которую на силу от нее оторвали, уже не желая слушать и слышать никаких возражений.
Маша гвардейцев не боится – слишком привыкла к их форменным мундирам из-за отца и своей жизни до проклятого Петербурга, а Лиза останется стоять на месте, провожая взглядом последнее, что делало ее собой, взмахнув рукой и так и замерев неподвижно пока карета не тронется и не почудится ей в шуме ветра и невских волн последнее: "Мама, мама!..." так жестоко донесенное до слуха.
И промелькнет перед глазами жёлтое лицо отца, медленно потухающего в постели; и последняя улыбка старшего брата, который так и не вернулся; Наташа в монашеском одеянии, стоящая на берегу озера, от которого отплывает лодка; крестик от матери; Кирилл, Кирилл, Кирилл. И теперь в галерею этих мертвых призраков ещё один портрет.
Лиза падает на шершавую щебеную дорожку, больно стукаясь коленями о мелкие камни и сжимая их в руках. Из груди вырывается почти животный, нечеловеческий крик – крик матери, потерявшей своего ребенка, крик женщины, потерявшей свою любовь, крик, крик, крик...
Она даже не знает, сколько времени прошло, прежде чем высохли слезы, прежде чем голос окончательно охрип и стих, прежде чем поднялась на ноги. Треплет холодный ветер Петербурга, города, который не умеет делать людей счастливыми, ее волосы, находящиеся в полном беспорядке.
Лиза смотрит на очертания дворца на другой стороне Невы. Ее дома. Проклятья, где теперь засел монстр.
— Уезжайте к Волконским, Вера Дмитриевна, — не отрывая взгляд от этого пейзажа говорит она не своим голосом. — Так будет лучше. Там будет вам лучше. Моя жизнь больше мне не принадлежит, а кто знает, что взбредёт в голову ее теперь.
— Да как я вас оставлю? — ужасается эта милая женщина. — Кирилл Андреевич мне бы этого не простил.
— Но его здесь нет, — жестоко возражает Лида. Никого больше нет. — говорю – уезжайте. За меня не волнуйтесь. Я не стану с жизнью кончать.
— Бог с вами, Елизавета Петровна, — та перекрестится.
Лиза буквально впивается болезненно-покрасневшим взглядом в дворцовый силуэт.
— Это слишком просто, Вера Дмитриевна. Она думает, что отняв у меня все и всех сделает безвольно-безопасной. Но она ошибается. Когда человеку ничего терять - нечего становится и бояться. Я буду жить так, как она представляет мою жизнь: праздно, беспечно, глупо - это все на что я способна. Но я сделаю все, — руки сжимаются в кулаки. Кому ты обещаешь это Лиза? Себе? Вере Дмитриевне? Богу? — все, чтобы даже в аду ей не было покоя. Поэтому не беспокойтесь и уезжайте. Иначе мне будет ещё тяжелее
.
***
Лиза зябко ежится, натягивая на плечи тонкий халат, который в общем-то от холода неотапливаемых дворцовых помещений не спасает, по-детски поджимая под себя босые ноги, старается удобнее устроиться на красной-бархатной софе. Вокруг нее ворох ещё не просмотренных докладов, писем и обращений, с которыми нормальные люди стали бы справляться днём, а вовсе не посреди ночи. Но у Лизы все далеко не нормально, к тому же если подумать, то сон действительно отнимает очень много полезного времени!
Здесь, вокруг нее, тысячи голосов, некоторые из которых обращаются к ней: "матушка,"[и есть в этом злая ирония], умоляя о помощи, есть сухие канцелярские голоса, бравые голоса гвардейцев, и прочее и прочее. Она сама установила, что все дела, касаемые смертной казни должны оказаться лично у нее на столе – она сама так решила, когда ее заменяла заключением в крепости, оставив смертный приговор только в самом крайнем случае, упразднила пыточные, заменив те ссылкой [хотя некоторых и стоило быть может пытать], а вот тебе теперь: "Крестьянка Агафья. Зарубила мужа топором в присутствии детей..."
За такое полагался смертный приговор, да только насколько ей известно муж ее избивал, да и вообще едва ли не насильничал.
Отличное занятие на сон грядущий, ничего не скажешь. Ещё бы тебе не спалось, Лиза. Да какая в сущности разница, где спать? Везде ее ждёт только холодная кровать, да тени из-под нее же. Нет, она могла позвать в свою спальню какого-угодно мужчину из плеяды тех, кто относился к ней столь обожаемо. Да хоть тот же Грушницкий. Но она все никак не могла себе представить, что станет развлекаться с другим мужчиной, когда где-то рядом живой-здоровый Кирилл.
"Но с другой стороны он же спит в одной постели с женщиной, когда ты за стеной?", — ехидничает голосок внутри.
А может и не спит.
А может спят в разных кроватях.
А может спросить?
А как оно выглядеть будет.
"Кирилл Андреевич, приказываю отвечать мне – вы спали со своей женой теперь или нет?".
Нет уж – лучше ставить революцию под ужасающими преступлениями.
Лиза обмакивать перо и аккуратно выводит: "Смертную казнь заменить высылкой. Детей определить в казеное учреждение, под государственное обеспечение под моим непосредственным контролем".
Уплаченная своим занятием, Лиза, надёжно спрятанная за спинкой софы не слышит чьих-то шагов, не замечает света одинокой свечи, точно такой же как у нее. Она отвыкла от того, что не одной ей не спится этой ночью.
Очень запоздало она поднимает голову, а в отражении зеркал [боже, почему же здесь так много зеркал?] видит окружённое лунным светом и светом от свечи отражение. Бледное лицо, которое теперь напоминает сон, при первом взгляде пугает ужасно и Лиза тихо ахая, спрыгивает с дивана прямо как есть от неожиданности – босиком и в ночной своей сорочке, прикрытой безнадежно-сползающим халатом.
Кажется, когда-то такое уже было. Тогда она гадала перед зеркалом, вот и появился перед ней черт.
— Боже мой, и кто скажите на милость учил вас подбираться так не слышно! — от неожиданности она чувствует себя застигнутой врасплох.
Сердце колотится ужасно быстро. Не разглядев Кирилла сразу, ей на секунду померещился ее старый кошмар – врывается кто-то посреди ночи, да и забирает ее, душит или ещё чего похуже.
А теперь это все ещё нелепее – торчит перед ним в таком неподобающем виде, переминаясь с одной ноги на другую. Ноги быстро замерзают.
— Я...я не помню, чтобы давала распоряжение вам тут...быть!
"И что же ты такое говоришь?".
Она отчаянно пытается сохранить свое лицо, оставаясь достаточно важной, но в таком виде сделать это несколько сложнее, чем в парадных платьях.
Но ещё страшнее своего нелепого вида, ей кажется, что он теперь...снова уйдет. Уйдет даже тогда, когда вокруг вообще никого нет. И вырывается какое-то детское, против ее воли:
— Нет, не уходите! — заметив, что он вот-вот развернется, сказав что-то до тошноты вежливое и почтительное. И вырывается так отчаянно, что она не успевает это остановить.
Она столько раз умоляла его не делать этого во сне, что не удержалась от того же и теперь.
И это "не уходите" так повиснет в воздухе, что просто необходимо как-то исправить положение. В конце концов она все ещё не понимает, что произошло и как себя вести. А унижений с нее достаточно.
— Я...я...— лихорадочно плохо теперь соображает голова. — я имею ввиду, что по роду своей службы вы часто будете иметь возможность находиться со мной в одной комнате в будущем в этом дворце. Я часто засиживаюсь до поздна. Но это не причина прятаться.
Последнее очень хочется сказать с язвительной интонацией.
Лиза помолчит. Она даже за собой не замечает, как пристально иногда смотрит на его лицо. Боже, как любит она это лицо! Проследит за его взглядом и неожиданно понимает, что проклятая ночная рубашка из-за таких ее телодвижений опять сползла с плеча. Того самого, на котором под бледным лунным светом виднеется шрам.
Натянет на него поспешно халат.
Может ему стало все равно? А может так надо было оставить? Это же смешно, скрывать собственное тело, которое он видел во всех подробностях. Так почему она смущается? Ни одному мужчине смущать ее не удавалось.
Лиза, подумав об этом, нарочно возвращает все как было. Если не нравится - отвернется, безраздельно преданный своей жене.
Забытое раздражение тихо возвращается.
"Думай о стране, о стране Лиза".
— И вот что, — продолжает откашлившись. — раз уж вы здесь так удачно, оно и хорошо. Я придумала вам занятие, о котором вы просили и ожидаю, что оно вас устроит, — последнее звучит иронично, а Лиза напоминает себе Сашу, уговаривающего несносного друга принять должность. Ну уж нет. Это не просьба у нее будет! — Так что будьте готовы завтра после полудня отправиться со мной. Будет проще показать, чем рассказывать, — поднимает голову, чтобы казаться более убедительной. Босиком, возможно, у нее это получается не так хорошо.
Лизе в этой полутемной тишине, которую вряд ли теперь нарушит как когда-то неожиданное признание Саши в любви или ещё кто-то, безумно хочется в который раз, подойти ближе и оказаться в таких уютных объятиях. Так почему они теперь разговаривают как малознакомые люди? Она готова забыть об этих ужасных годах. А он?
Ты даже не представляешь, Кирилл, какие они были ужасные.
— Я написала вашим родителям, — вырывается неожиданно, разрывая пустоту. — возможно не стоило делать этого и вы сами собирались, но мне показалось это правильным. Я отправила с письмом вашу сестру. Она моя фрейлина и я думаю была рада это сделать. Я сделала это ещё до вашего возвращения. Я думаю они приедут сюда. Когда узнаешь, что твой ребенок жив - увидеть его первое желание.
Лиза понеслась бы куда угодно с другого конца света, лишь бы узнать, где ее дочь и что с ней все хорошо.
Она тяжело вдыхает, бросает взгляд на разбросанные бумаги, возвращается к ним, собирая листы в стопку беспорядочно. Задевает пальцем край бумаги, невольно охает, отдергивая окровавленный палец.
И то ли слишком громко охает, то ли гримаса лёгкой болезненности слишком яркой, но она не успеет толком опомнится, как он оказывается снова так близко, как когда-то можно было только мечтать.
— Ну что вы, Кирилл Андреевич, — горько улыбаясь, качая головой, глядя на свою руку, которую так поспешно отдергивает. Боже, ты ведь грязная, Лиза. Ты ведь... Страшно. — это всего лишь царапина. Это, — делает на этом слове акцент. — совсем не больно. Крестьяне говорят до свадьбы доживёт.
Только ее уже у Лизы не будет. А значит ее собственные раны не заживут никогда.
В душе поднимается какой-то порыв, она тянется ладонью к его лицу, замирая в миллиметре. Нельзя. Нельзя и потому, что женат, нельзя и потому что по собственному телу бежит дрожь.
— Кирилл, — тихим голосом, не собираясь обращаться на вы хотя бы в эту секунду. — ты хотя бы счастлив?
Иначе какой смысл во всей этой части?
Мотает головой, поднимается на ноги вместе с бумагами.
— Я пойду. Не забывайте про завтрашний день. Не смейте опаздывать - мужчин это не красит. И спите по ночам. Прошу.
***
Лиза теперь выглядит совсем иначе, нежели выглядела ночью. От ночного флёра в ней не осталось совершенно ничего. Она снова – императрица в бархатном бело-голубом платье, с жемчужными серьгами и аккуратной шляпе, с которой теперь вздумает играть морской ветер.
Благосклонно [словно никакой ночи и не было] подаёт ему руку, выбираясь из собственной кареты, подставляя лицо этому свежему ветру.
Здесь, куда они прибыли и где желает она ему все рассказать – ни души. Только песчаная коса, уходящая далеко в залив с синеющими волнами.
День отличный стоит для осени – солнечный и мягкий.
Здесь, на берегах Финского залива она чувствует себе как-то увереннее, как чувствовал около моря себя уверенно ее отец. Здесь даже может показаться, что будущее безоблачно как этот горизонт. Оставляет охрану позади них, отправляясь вдоль песочного берега.
В какой-то момент Лизе надоедает проваливаться в песок ногами, она легко скидывает туфли и продолжает брести по этому пляжу, позволяя холодным волнам лизать голые ступни. Заболеть она, как всегда не боится. Больше она боится того, что если обернется, то увидит е г о, молча идущего за ней.
Варя, которую Лиза взяла с собой как обычно предусмотрительно осталась вместе с гвардейцами.
— Что видите, Кирилл Андреевич? — спрашивает она под звонкие крики чаек. Вокруг только море и больше никого. — Вот и я ничего. А должна видеть верфи и корабли, о которых мечтали мой отец и мой брат, — отвечает Лиза, прищуриваясь от яркого солнечного света.
Встаёт боком к нему, не отрывая от морского горизонта взгляда.
— Отец говорил, что лучше моря ничего нет. Я мечтала управлять кораблем и что ж, мечта моя в каком-то смысле исполнилась, а? — кидает на него взгляд. — Кирилл Андреевич, вы спрашивали меня зачем вы мне? Когда-то вы служили моему брату. Вы знали, что он хотел и что собирался сделать. Так помогите и мне. В чем разница?
Ты отлично знаешь в чем.
Лиза прикрывает глаза на секунду. Она чувствует здесь себя свободнее чем где либо.
Поделиться62024-07-04 12:43:56
— Два последних года я занималась тем, что пыталась разрушить то, что наделала о н а. Отменить указы, вернуть выживших, сделать хоть малое. Пришло время сделать что-то ещё. Нам придется воевать, я знаю. Но не сейчас. Сначала мы сделаем так, чтобы наш флот и наша армия вновь была лучшей в Европе. Летом будет парад в честь победы над шведами. И к тому времени здесь, Кирилл Андреевич, должен быть флот, ккоторый я стану принимать. И не только флот. Завтра я издам указ о создании Военной комиссии. Она станет заниматься обновлением армии и флота – новое обмундирование, оснащение, вооружение. Средства на все это тоже предстоит найти и распределить, проследить, чтобы никто не украл. Отдаю эту комиссию вам. Вы военный человек, вы знаете гвардию. Так что она в вашем распоряжении. А за всей ее деятельностью стану следить я лично. Вы нужны мне...— Лиза запинается предательски, потому что лично ей он нужен совсем для другого. — стране, — поправляет саму себя. — потому что вы талантливы. Это знал мой брат, это отметил даже мой отец. А мне нужны талантливые люди. Ну? Такое вас устраивает. Такова моя воля.
На очередном шагу спотыкается, заплетаясь в юбках, пошатывается и чтобы совсем не свалиться в воду ухватывается за него, как за единственную подходящую опору. Благо, Лиза в перчатках.
Не отпускает некоторое время, держась за эту руку. Солнце касается их лиц.
Все неправильно. Все чертовски неправильно.
— Благодарю, — тихо, выравнивается и отпускает рукав мундира. — На самом деле я позвала вас сюда не только для этого. Вы были с моим братом в последние часы его жизни и мне нужно знать, а спросить не у кого... — поворачивается к нему лицом. — Почему он выбрал меня? Он никогда со мной об этом не говорил. Так почему я была в этом завещании? Почему он думал, что я справлюсь?
Ей очень хочется спросить ещё кое-что, но это скроет шепот волн.
"Ты любишь меня? Ты все ещё любишь меня?".
Поделиться72024-07-06 17:24:42
| ||
т а к г р у с т н ы д н и к о т о р ы х б о л ь ш е н е т | ||
|
Кирилл вертится с одного бока на другой, сползает с подушки, возвращает голову обратно, откидывает одеяло и никак не может забыться тем крепким сном, где сплошная темнота и тишина. Поблизости такое умиротворённое лицо — наверняка ей снится что-то хорошее или не снится ничего, что, впрочем, уже хорошо. Если не безжалостный водоворот кошмара, то ночь была спокойной и доброй. В ссылке, которая стала обыкновенной жизнью, они не имели возможности обзавестись десятком комнат и спальных мест; это, пожалуй, привилегия сугубо для богачей, а крестьянам и преступникам положено тесниться, ютиться, довольствоваться тем, что милосердный Господь посылает. Поэтому, даже если где-то в ином мире модно спать в разных спальнях, они пользовались одной постелью. Никто не подумал, что от этой привычки теперь-то можно избавиться. Хотя бы для того, чтобы не мешать своим беспокойством спать другому человеку. Наконец-то, она может спокойно спать. А его терзают совсем не спокойные мысли. Перед глазами то и дело фигура, облачённая в царские наряды. Голос. Родной голос, звучащий издали. Невозможно заснуть, пока он звучит и манит. В какой-то миг ему становится даже стыдно, ведь всё изменилось. Всё изменилось. Тем более здесь, под наблюдением тысячи глаз. Думать о другой женщине, лежа в кровати рядом с ж е н о й? А ежели другая — тоже жена? На этом Кирилл резко отрывается от подушки, окончательно проваливаясь в вязкое чувство стыда. Всегда ему казались дикими эти восточные традиции, гаремы и многожёнство. Сам-то теперь не лучше? Это вздор, это вздор, ты не виноват, это вздор, — невольно шепчет себе под нос, будто заклинание. Очевидно, этой ночью сна не предвидится, как и прошлой ночью его не было, а будущей ночью — не будет. По меньшей мере, на другом конце света ему удавалось поспать. Уж ради этого стоило остаться. Чёртов эгоист. Кошмарнее чем отсутствие сна, только бесполезное изучение потолка или лёгкая дрёма, призывающая разве что головную боль. Кирилл делает то, что всегда в бессонницу — поднимается с постели, накидывает какой-то домашний халат поверх рубахи и отправляется бродить. Его сознание и сердце заодно терзает одна фраза: потерять ребенка — худший кошмар из всех. С чего бы ей говорить так, будто сама п о т е р я л а? Впрочем, его надежды оказались тщетными: Маши не видно, никто о ней не говорить, будто её вовсе не существует. Следует прийти к выводу, что во дворце дочери точно нет. Тогда где же? За Петербургом, отданная на воспитание гувернантке или какой хорошей семье? Конечно же, растить ребёнка перед всем двором непонятно откуда взявшегося — удар по репутации высочайшего имени. Об этом наверняка судачил бы весь двор. Маши здесь нет.
Где же тогда?
Кирилл останавливается посреди коридора, плывущего разве что в свете луны и слабых отблесках огонька на фитиле. Осматривается, пытаясь поймать за хвост хотя бы какую-то догадку. Дворец. Разве может быть место на свете ужаснее, нежели дворец с живущими в нём призраками и людьми, которые теперь так близки и далеки одновременно? Многое изменилось. Многое. Изменилось. Она совершенно права: многое и многие изменились. Совсем бессвязным образом начинает воссоздавать в воображении недавнюю прогулку в парке. Его прогулки вдруг оканчиваются чем-то нежелательным, а именно встречами. Лучше бы их не было вовсе, чем душу травить. Дважды эгоист. Дурак, которому собственное спокойствие дороже. Может быть, она была права во всём. А он был определённо не в себе, пробыв лишь жалкие сутки здесь и почувствовав непреодолимое желание бежать прочь.
Прочь от боли, какой вся душа отравлена.
Кирилл украдкой усмехается. Раньше бы постыдился от таких слов. Разве Волконские хотели много почестей? Они неизменно служили Отечеству и царю без ожидания какой-либо платы, самоотверженно, жертвенно, будто страдания им доставляли удовольствие. По всей видимости, впрямь доставляли и продолжают, ежели он ведёт себя подобным образом. Ему просто нравится страдать. А никаких почестей совсем не нужно.
— Вы же сами об этом распорядились, Ваше Величество, — вместо того, чтобы держать язык за зубами как положено смертному, он начинает язвить в ответ. Она ведь тоже, издевается. Пусть и прошло немало времени, забыть её во всех подробностях не смог; разумеется, появилась личность ему совершенно не знакомая, но сквозь едва просматривается то, что он знал слишком хорошо. И разве способность чувствовать человека куда-то уходит? В этом вся беда: уж больно они чувствуют друг друга. Но сегодня Кирилл не собирается отступать от своих намерений. — Мы с радостью отдадим в растащенную казну дом Голицыных. А сверх того, ничего не нужно.
Шуток он не понимает до сих пор. Хотя и улавливает нотки издевательские, отчего-то отвечает полностью серьёзно. Некоторые черты человеческой сущности не меняются ни под пытками, ни в суровых наказаниях.
На следующих словах надо признать, он спотыкается мысленно, теряется на пару секунд. Откуда вдруг такая щедрость у императрицы? Нет-нет, а ежели присмотреться, за обликом императрицы рассмотреть кого-то другого? А кто с ним сейчас говорит? Кто-то другой или государыня? Кирилл безнадёжно путается, и чтобы не утруждать себя, поджимает губы упрямо. Ничего не нужно. Ничего. Не. Нужно. Ты себя уговариваешь? Воспалённое сознание вдруг желает вступить в жаркую дискуссию по поводу страшной несправедливости. Ведь именно в подобных высших чинах отправляют потерпевших на тихую и спокойную жизнь подальше от суматохи и государственных дел. Чтобы утешить самолюбие и показать, что Отечество помнит, ценит, уважает. А тут вдруг его хотят заставить работать. Кирилл спотыкается дважды, улавливая неоднозначность в словах о спокойствии. С иной стороны, никакой правитель спокойствия иметь не будет, так что же теперь, всем страдать?
— Именно от того, чтобы поскучать, я бы не отказался, — упрямствует он, снова отказываясь напрочь на неё смотреть. Его болящей голове не хватало только столичного шуму и дворцовой помпезности с различными вульгарностями.
Будто в её распоряжении нет целой гвардии, будто не каждый чиновник теперь повинуется именно ей, но по какой-то нелепой причине Елизавете Петровне нужен он, Волконский. Нужен з д е с ь, как она выражается.
— Что же, я очень постараюсь... это понять, — произносит через особое усилие. Хочется всю душою противиться и сдерживать это желание непросто. — Благодарю за совет, Ваше Величество. Может быть и правда, стоит, — но Кирилл с этим едва ли согласен, потому что возвращался в Петербург с уверенностью — никакой более службы, никакой более гвардии. Никакого более Отечества. А теперь она говорит, что надобно навестить своих сослуживцев и вообще, быть здесь, во дворце. Конечно же он не желает соглашаться, чувствуя себя окончательно ущемлённым. Другой бы обрадовался?
Это был не лучший день. Это был отвратительный день. Будто прежде, чем достичь берегов, где волны мирно накатывают и откатывают, следовало пройти через бурю непринятия и всепоглощающего отрицания.
Кирилл прикрывает глаза, щёки наверняка розовеют от тепла, которое чувство стыда нагоняет. Некогда правильный отважный офицер теперь со своей государыней препирается. Тем не менее, она была очень добра с его сбежавшим сыном. Как следует Лизе обращаться с ним, он не думал, но Елизавета Петровна в общем-то со всеми весьма добродушна и терпелива. Наверное, такой должна быть матушка всея России. И в этом тумане отходит от окна, продолжает бродить, особо не разбирая ни комнат, ни коридоров, только огонёк на фитиле завораживает. Верно, его прогулки в любое время суток будто обречены заканчиваться одним и тем же; только в этот раз расположение духа иное, не такое сумасшедше-бунтарское, будто готов против царской власти бунт поднять. Кирилл и сам вздрагивает, когда кто-то вспархивает буквально с софы, о которую мог и споткнуться, совсем не видя куда ноги несут. Надо же, этот дворец поистине мистической силой обладает: уносит в прошлое или обставляет декорациями, создаёт иллюзии, чтобы уж точно почувствовать себя прежним. Ведь не впервые он бродит здесь в потёмках. Не впервые встречается с ней при свете луны. Не хватало только за шторами спрятаться.
— А кто учил вас сидеть так незаметно? — невольно недовольно вырывается в ответ. О нет, ему не хочется снова быть виноватым.
— Что же мне теперь по вашим распоряжениям жить, — нет, похоже сегодня никакой смиренности не будет. Снова в нём пробуждается неведомое существо, жаждущее непонятно чего. А впрочем, всё совершенно я с н о. Взглядом невольным окидывает её фигуру, прикрытую всего лишь сорочкой и халатом. В ночное время этот вид почти что фатальный. И пока не случилось нечто, выходящее за всяческие рамки, Кирилл понимает, что лучше уйти. Снова. Лучше уйти, пока не вообразил себя прежним, со всеми правами на эту женщину. А эта женщина перестанет чувствовать себя застигнутой в неловкой ситуации и неловком виде.
Он всегда хотел как лучше. Только одна просьба, вырванная из контекста, не позволяет окончательно развернуться спиной. Останавливается, повернуться к ней не торопится, впрочем, только осторожно поднимает взгляд, подсвеченный свечой.
Не уходите.
Разве я когда-то хотел уходить?
Затаивает дыхание в ожидании того, что будет дальше. Да только следует тебе уяснить, Кирюша, что дальше будет только когда сам осмелишься.
Он выпрямляет спину, отчего-то чувствует облегчение, быть может и обманное. Конечно же, Елизавета Петровна снова о службе говорит.
— И что же вы всегда... — взгляд натыкается на оголённое плечо, с которого сползает слишком просторная сорочка и как положено истинному мужчине, Кирилл запинается. А ещё он помнит тот день. Помнит, как готов был умереть, лишь бы исправить свою очередную ошибку. Обречён на то, чтобы вечно ошибаться, не иначе. Снова и снова. Этот шрам на её плече будет вечным напоминанием. Если бы не ты: не было бы шрама на теле и, пожалуй, на душе. Глубоко задумавшись об этом, даже не замечает проделанный манёвр Лизой. Снова плечо с отметиной видно. Её кожа будто сияет в лунном свете, а слабые отблески свечи касаются ключиц. Следовало бы отвернуться. Но Кирилл этого не сделал.
Теперь поднимает на её лицо более невозмутимый взгляд. Словно нерадостные воспоминания поубавили жару и желания перечить.
— Как вам будет угодно, — смиренно соглашается, наконец-то, как и положено. Ему ведь, не привыкать исполнять приказы, даже самые нелепые. Сама его суть — выполнять приказы. Об этом следует помнить, особенно когда стоит перед императрицей, пусть она и босиком в одной сорочке. Она всё ещё императрица. А выглядит как женщина, которую безумно хочется поцеловать. Постепенно очередная встреча с нею превращается в пытку. Может, стоило молча и сразу уйти. Дурак.
— Конечно, вы правильно сделали. Благодарю вас... и за то, что о сестре печётесь, — ведь так п р а в и л ь н о. О своих родителях он едва ли успел подумать. Разумеется, они всегда были в мыслях, но подумать о встрече... Ещё одна пара людей, которые знали слишком много. Знали, кем являлась Лиза. Знали, что родилась у них дочь. Они всё знали и захотят знать теперь, каким же образом Кирилл обзавёлся новой женой и новым ребёнком. Нет, ему определённо не хочется говорить об этом. А следовательно, встречаться с ними. Но императрицу следует благодарить. Императрицы никогда не ошибаются. А ещё не говорят о детях настолько проникновенно, верно? Кирилл на расстоянии присматривается к её лицу, пытается высмотреть хотя бы тень ответа, хотя бы намёк. Ведь эти мысли повели его по дворцовым анфиладам. Мысли о дочери. Сейчас бы спросить. Но ему вдруг становится страшно то ли ответ услышать, то ли увидеть её равнодушие. Здесь он не прогадал: Лиза считает, что его вопросы о ребёнке теперь не касаются. Отчего-то он в этом уверен, только не готов найти подтверждения догадкам и услышать это от неё. Нет-нет, он ничего не станет спрашивать. Однако, вероятно на волне вновь поднявшихся чувств, Кирилл теряет своё выбранное (отстранённое) облачение, и как только раздаётся её «ох» бросается к ней. Будто не было семи лет, не было разлуки, не было никакой боли. На несчастные мгновения этого всего впрямь не было. Потому что он до сих пор готов умереть за неё. Забавно, что она умирает, а он будто бы и не замечает. Только когда выступает на пальце капля крови, что-то дёргается в душе, в голове.
Наверное, в мгновении Кирилл оказывается не таким быстрым и Лиза успевает отдёрнуть руку, прежде чем он за неё возьмётся. Успевает лишь прикоснуться пальцами к её коже. Зато они оказываются так близко, что можно уловить чужое дыхание. Непозволительно близко.
— Елизавета Петровна... — тихим голосом, и это всё, на что способен сейчас.
Кирилл едва заметно усмехается, пряча глаза за опущенными ресницами. О какой свадьбе может идти речь? Императрицы не выходят замуж. Эта императрица уже была женой. От этого становится невыносимо противно, невыносимо больно. Будто он сам разрушил всю её жизнь. А может, без всякого «будто». Он сам виноват. И когда глаза поднимает неуверенно, замечает протянутую руку. Вспоминает тепло её ладони, касающейся лица. Он любил её руки и может быть, до сих пор любит. Разумеется, любит. Любит этот голос. Любит. Любит. Любит. Но сквозь пелену каких-то страданий этой любви, кажется, не видно в глазах. Теперь он усмехается шире и очень горько, от чего аж густые брови изгибаются. Плакать или смеяться?
Этот вопрос настолько простой, что невозможно на него ответить. Как завороженный, отмалчивается, однако замирает, поднимаясь на ноги слишком запоздало. Когда она последует куда-то прочь. Он смотрит ей вслед, снова оставаясь в одиночестве. Снова вспоминая бесконечные ночи, завывания ветра, холод и пустоту. Никого не было рядом. Никого нет рядом и сейчас.
Разве я могу спать, Лиза?
Спят по ночам только счастливые люди.
***
Поистине, при свете дня всё иначе, а в темноте будто бы и не стыдно быть кем-то другим. Ничего прошлая ночь не значила, чтобы рассчитывать на её продолжение. Он — всего лишь офицер, разве что теперь имеет полномочия командовать целым полком (выше него только монаршая особа). А она императрица и самодержица Всероссийская, перед которой положено снова и снова голову склонять, руку подавать, чинно следовать позади и внимательно слушать. На это Кирилл настраивал себя каждую секунду, пока они не встретились. День впрямь погожий, радует душу. Шум волн успокаивает, на бесконечный голубой горизонт хочется неотрывно смотреть и тогда так хорошо становится, ни одной мысли в голове, никакой тяжести на плечах. Следует почаще выходить к берегу, чтобы угомонить своё взбунтовавшееся существо. На Камчатке такие же пейзажи позволяли дышать свободно, жить дальше; в них он находил какую-то гармонию и умиротворение. Всегда существовало нечто более величественное чем люди, засевшие во дворцах и назвавшие себя императорами. Эти люди слабы перед огненными вулканами и горами, подпирающими небеса. И теперь он ничего не боится.
Следует за ней, не скрывая улыбки. Перед ним определённо Лиза, которая тоже ничего не боится, любит море и способна на какую угодно шалость; даже позволить императрице снять туфли — это ведь, была Лиза. Он не может ошибиться.
— Море, очевидно... — переводит взгляд на пустеющий горизонт. И вас тоже. — Больше ничего, — может быть, она его и не видит. От мыслей о её нежелании видеть пришлось отказаться. Иначе бы поскорее исполнила его просьбу, верно?
И на что Елизавета Петровна вдруг намекает?
— Если для вас это мечта, то очевидно, исполнилась, — заклинило тебя что ли? Кирилл не хочет на неё смотреть, нет, совсем не хочет. И не должен. Куда интереснее рассматривать «ничего» где-то вдалеке. Может быть, парящих под небесами чаек. Или может быть, собственные начищенные сапоги куда более любопытны. Похоже, сегодня он наконец-то узнает, ради чего пожертвует мирной жизнью в маленькой усадьбе подальше отсюда.
Оказывается, его ценность в этом. Едва ли поспоришь: он впрямь многое знал о Сашиных планах, да только эти планы более никому не были интересны. Ни один следующий правитель не обернулся на великие затеи человека, который сам бы стал великим. Теперь она желает это сделать. Следовало бы порадоваться.
— Ну может быть хотя бы в том, что ваш брат не был женщиной, — негромко, опустив голову, подмечает он. Отчего-то не верится в то, что она не видит разницы. Скорее играет роль императрицы, для которой всерьёз разницы нет, ведь семь лет назад её здесь не было. Уж с этим соглашаться Кирилл напрочь отказывается.
— Вы хотите летом увидеть здесь флот, Елизавета Петровна? — опускает на неё взгляд несколько удивлённо-недоуменный совершенно невольно, а потом быстро поднимает, кивая головой. — И правда вы сестра своего брата.
Он уловил запинку, но не уловил сути. Елизавета Петровна настолько искусная теперь актриса, что Кирилл видит перед собой лишь этот облик, порой какими-то мелочами напоминающий о Л и з е. Этого тебе достаточно.
— Коль на то ваша воля, не имею права противиться и смиренно её исполню, — заводит руки за спину, — времени вы даёте уж слишком мало, если говорить откровенно. Только потому, что ваш брат свято верил в подобные затеи, я не стану перечить. И благодарю... за оказанное мне доверие.
Спустя семь лет Кирилл совершенно себя не воображает снова в строю, снова с пылким рвением и огнём в груди. Отчего-то именно тогда, когда появляется надежда на хорошее будущее для страны, он чувствует пустоту и полную неспособность. Для смертного эта императорская воля — великая честь, широкий жест, осознание доверия должно тешить. Не так ли? Столько лести услышать в собственный адрес от государыни, не счастье ли? А может, вовсе и не лесть. Кирилл поразмыслил бы об этом непременно, не случись маленькая оказия, потянувшая за собой другую маленькую оказию. Он чувствует её хватку слишком хорошо. Оказывается, к ней теперь ближе, вынужденный (тебе же нравится) смотреть в освещённое солнцем лицо. Глаза зелёные светлые-светлые, сияют, словно озеро в летний солнечный день или поляна мягкой изумрудной травы — приятно, хочется остаться в этом летнем дне на всю вечность. Его брови чуть сдвигаются к переносице, пальцы разжимаются. Мельком бросает взгляд на её руку — они оба носят перчатки. Он это делал и прежде, а она — теперь. С чего бы? Лиза, которая любила прикосновения. Лишь подтверждает то, что он ничего не знает о ней. Как-то растерянно кивает, делая шаг в сторону.
Лиза-Лиза, мне бы самому спросить его, почему он выбрал тебя и сделал нас несчастными.
В минуты самого сильного отчаяния Кирилл гневался на Сашу, искренне был убеждён, что тот виновен. Не будь завещания — не случилось бы столько несчастий, судеб искалеченных. Не боялся бы каждый мимо проходящий, что трон должна занимать совсем другая персона. Но потом сваливалась огромной темной тенью на него иная мысль: Романова — это и есть клеймо, проклятая фамилия крестом высеченная. Этот крест ей нести. Он смотрит на неё неопределённое время, решая, говорить искренне и честно или же вовсе отказаться отвечать.
— Значит вы знаете, — произносит тихо, возвращаясь в очередной чёртов раз в то тёмное время, когда пытался сам сей факт уничтожить. Подобные документы уничтожать нельзя. Какой дорогостоящий урок ему пришлось усвоить.
— Я.. — он закрывает глаза на мгновение, переносясь из одного тёмного дня в другой. Ветер в лицо. Прошло слишком много времени, а вспоминать до сих пор больно. Кирилл явно в грешники записывается, потому что простить убийцу не смог и не сможет никогда. — Я и сам знаю не так много. Его выбор... — да что с тобой?! — мы не успели обсудить и вряд ли бы обсудили, ведь воля императорская не обсуждается. Она принимается как есть.
Просто однажды Кирилл решил ею пренебречь.
«Ты будешь ей нужен, особенно как меня не станет». Голос в голове не позволяет говорить дальше, только глаза снова закрывает, норовя от него избавиться, прогнать прочь. Она должна услышать о нём что-то хорошее. А не видеть отражение тех мучений и той звёздной ночи на лице Кирилла.
— В первую очередь, вы носите фамилию великих правителей, Елизавета Петровна. И не только фамилия направляет вас, но и кровь вашего отца. Может быть, не видите, но все вокруг смотрят и видят то Петра Великого, батюшку вашего, то Александра Петровича, — смотрит на неё теперь проясняющимися глазами, которые становятся цвета сегодняшнего чистого неба. — Этого уже достаточно, чтобы справиться с возложенным на вас долгом. Корона должна оставаться у тех, кому она принадлежит по праву рождения, а не у самозванцев.
Он разворачивается теперь к ней всем телом, более уверенно, продолжая смотреть в глаза. Подобного разговора не представлял никогда равно так же, как и возвращения в Петербург. Но какая-то глупая выжившая любовь подсказывает, что надобно помочь ей. Надо делать то, о чём просил Саша, зная, что ноша слишком тяжела для одних плеч, уж тем паче женских. Пусть в этот миг он будет не Кириллом, который так не хотел, чтобы э т о случилось.
— Вы всегда были особенной, не похожей на всех остальных и полагаю, не даром, — наверное впервые после возвращения он признаёт вслух, что здесь было его прошлое; прошлое, в котором он знал Елизавету Петровну. Прежде ему упорно хотелось создать облик человека, впервые здесь оказавшегося. И, пожалуй, впервые увидевшего её. Однако эта затея определённо глупая. — Вы умны, сильны духом, милосердны и справедливы. Знаете, в чём необходимость. Вы любите страну и свой народ. Вас любят в ответ, — очевидно, любит народ. Кирилл — тоже часть народа, значит любит.
— Вот и скажите мне, неужто есть поводы сомневаться? Он просто знал, что вы справитесь. Иначе, корона не была бы сейчас ваша. И надо признать, — теперь Кирилл отводит взгляд и делает ещё один шаг в сторону, — этому следовало случиться раньше. Как только его не стало. Но теперь все мы, ваши подданные, будем жить без страха и радоваться. Всё закончилось.
Тысячи жизней в обмен на личное счастье. Жертва, достойная рая, не правда ли? Быть может, она и сама жалеет о том, что корону не надела раньше. Кирилл ничего об этом не знает и вряд ли узнает. Главное, убедиться в том, что их государыня намерена править долго и справедливо. Саша просил передать, что ему жаль, но об этом Кирилл тоже не скажет. Извинения совершенно неуместны, особенно теперь.
— Вы не тревожьтесь, ваша армия вас не подведёт. А уж если флот не успеем к лету построить, то сильно не серчайте. В России всё так непредсказуемо.
А толку теперь от этой любви?
***
Он был ещё совсем молодым. Семейство богатством не отличилось на фоне столичного дворянства — семья барона скромна, редко появляется в обществе, зато неизменно — в храме. Супруги особенно набожные, впрочем, уважаемые вопреки своими непонятными для светских людей, особенностями. Каждый человек волен иметь свои причуды. Детей отпустили в мир суетный, чтобы строили карьеру да подыскали достойные партии. На сына каждый родитель возлагает особливую надежду: не подведёт, не опорочит честь семейства, будет гордостью родительской и продолжателем дворянского рода. Да только можно ли продолжать род с кем попало? Они были строгими. Строгий взгляд господина барона каждый раз измерял так, словно стоишь на плацу провинившийся перед всем отечеством и царём-батюшкой. Лица невозмутимые, будто каменные. Говорят, люди подобного толка живут в себе, постоянно разговаривают с Господом. А кто такие мы, люди грешные и смертные, чтобы судить? Он был совсем молодым, пожалуй, с видами на счастливое будущее. Впрочем, никто тогда не думал, что эта страна однажды станет счастливой. Она была обречена.
Руки у него холодные и вовсе не потому, что в доме плохо натоплено. Кирилл побеспокоился о том, чтобы всегда было тепло, не дай боже Машенька разболеется. Когда у неё жар случался (пусть не столь часто и всё же случался) не находил себе места, не спал ночами, то и дело перемещаясь из кухни в детскую и обратно. То воды тёплой принести попить, то ко лбу приложить прохладную простынку, то разбудить чтобы от кашля дать горькую травяную настойку с мёдом. Стоило немалых усилий уговорить Лизу хотя бы немного поспать, но сам никогда бы не согласился. Благо, болела она реже детей его сослуживцев, которые охотно делились прелестями и трудностями семейной жизни. В холодное время у них всегда тепло, и пусть для этого придётся отправиться в дальний лес с повозкой. Ему всегда охотно помогали, называли хорошим человеком. Кирилл пытался им быть. Стоило пытаться усерднее, чтобы крамольных идей вовсе не возникало в голове. Теперь его руки холодные, слегка подрагивают. Он стоит, опершись о дверную раму и наблюдает за тем, как Лиза рассказывает Маше сказку. Машка у них разбойница, не иначе. Закроет глазки и кажется, заснула, а потом вдруг просыпается, требуя продолжения. Она любит истории. Кажется иногда, что историй не хватит до того момента, как вырастет из них. Однажды ведь, вырастет, станет совсем взрослой. Кирилл должен сделать всё, что в его силах, чтобы она выросла. Смотрит на них с умилением. Сердце щемит, в уголках глаз будто влага появляется. Не плакат же собрался? Дома хорошо: поленья в очаге трещат, пахнет пирожками с яблоками, Лиза в домашнем наряде и конечно же Машенька, любящая моститься под боком. Не хочется уходить. Так не уходи! Он переступает порог, подходя к кровати. Берёт руку Лизы, поднося к губам и целуя, замирая на несколько мгновений — слишком долгих и слишком быстрых в одночасье. Маша словно всё понимает, притихает, прижимаясь к Лизе сильнее.
— Я скоро вернусь, — произносит сквозь натянутую, совсем слабую, неубедительную улыбку. Следовало хотя бы играть получше. А в его глазах тревога. Смотрит Лизе в глаза, преждевременно извиняясь за всё, что может произойти. На самом же деле, этому никакого прощения нет. Смотрит на Машу со всей трогательностью, касается пальцами пухленькой розовый щёчки и в конце концов, целует в лоб.
— А когда вернусь, моя принцесса должна крепко спать. Договорились?
Маша охотно кивает, протягивает ручонки, обвивая его шею. И он, конечно же, крепко её обнимает. Что же, Кирилл был готов жизнь свою отдать за то, чтобы выросла она в покое и безопасности. Чтобы никому даже в голову не пришло причинить ей в р е д.
Но ты жестоко просчитался.
— Не жди меня, ладно? Лучше поспи, — сожмёт её руку, прежде чем выйти из спальни.
Ты не вернёшься.
А она будет тебя ждать.Они в одном лишь шаге от задуманного. Дух захватывает от одной лишь мысли, что предприятие имеет вероятность окончится удачно. Тогда почему он, прячась в темноте среди голых вишнёвых веток, слышит лязг металла? Вдалеке слышится лай собак, топот копыт по мостовым, крики пьяных мужиков. Обыкновенный петербургский вечер. Они должны были выбежать в условленный час, а он должен был поджидать с экипажем. Когда раздаётся крик девичий, Кирилл вздрагивает, сердце бешено начинает колотиться вместо того, чтобы вместе с ним тихо сидеть в засаде. Одна часть души требует бежать прочь: беги, пока не поздно, у тебя ведь с е м ь я. Другая вопит о том, что «ты втянул людей в этот кошмар, тебе и вытягивать из него». Разумеется, прислушивается то ли к черту, то ли к ангелу — как поглядеть, выбираясь из кустов. Бежит прямиком в лапы дьявола, не иначе. Но добегает слишком поздно.
Слишком п о з д н о.
Перед ним два тела, лежащих на земле. Земля медленно вбирает кровь, вытекающую из ран. У неё — поперёк, у него — вглубь. Голова кружится, одолевает слабость в самый для того нежелательный момент. Беги отсюда, беги! Видно, что мундир обшарили, стало быть, забрали то, что наконец-то удалось вынести. Он будто переносится в сон кошмарный, пусть кошмарнее действительности быть ничего не может. Он пытается поверить своим глазам, а разум и сердце напрочь отказываются. Нет-нет, этого не может быть. Нет-нет. Они не могли настолько просчитаться. И всё же, перед ним двое убитых, и единственный виновный в их смерти — Кирилл. Он заставляет ноги согнуться, опускается на землю, протягивая дрожащую руку. Не дышит.
— Вы же знаете...
Раздаётся совсем слабый, сиплый голос. Мигом вспыхивает какая-то глупая надежда и он позволяет девушке ухватиться за собственную руку. Впрочем, она откашливается кровью. Вряд ли надежда была.
— Вы знаете... батюшку нашего... государя....
Для умирающей хватка удивительно сильная, но Кирилл ничего не чувствует. Кирилл вдруг осознаёт, что сейчас услышит то, что давно хотел услышать. То, чего ему не доставало для свершения праведной мести. Он был готов совершить убийство, а теперь только набирается решительности.
— Убил... Александра Петровича убил... канцлер наш... а она, госпожа так любила... любила...
Пальцы слабеют, отпускает его рукав, глаза закрываются и теперь, определённо навечно. Она умерла. Кирилл дрожит то ли от злости, то ли от обиды и боли. Теперь ему следовало бежать прочь немедля, но человеческая слабость оказывается сильнее чем какая-либо воля. Она слабость, и она же не позволяет подняться на ноги. Быть может, возьми себя в руки, не случилось бы ничего дурного. Быть может, надежда б ы л а. Удар гремит, не чувствуется боли, только жжение в затылке; слишком быстро темнеет в глазах, слабость окончательно поваливает и его безвольное тело падает на ту же окровавленную землю.
Не жди меня, Лиза.
Над головой проплывают безмятежно белые облака, шумит раскидистый ясень, постепенно скидывающий своё роскошное некогда изумрудное одеяние. На могильной плите, поросшей мхом, выцарапано «Степан Анатольевич Сафонов». Кирилл стоит над его могилой второй час. Каково быть виноватым в смерти ещё совсем юного человека? Он был офицером. Любил барабаны и надоедать своим сослуживцам. Поднимался раньше солнца, чтобы поднять весь полк. Был правой рукой Дмитрия Яковлевича, выполняя самые разные поручения. Ему частенько раздавали глупые задания, мол «почисти моего коня» или «выстирай мой мундир», куда курьёзнее, когда Сафонов бегал по столице с любовными посланиями от офицеров к юным прелестницам. Его лицо грозилось навечно перенять красный оттенок. А потом он и сам влюбился, да только родители никогда бы не приняли в дом крестьянку. Его любовь была обречена на самое трагичное окончание. По меньшей мере, они ушли вместе. Выжить и терпеть муку каждый божий день разве лучше, нежели смерть? Кирилл убеждён что нисколько не лучше. Но для чего-то продолжает жить.
Елизавета Петровна посоветовала навестить полк. Что же, его полк начинается здесь — в Вытегорском погосте подле церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Вдали от жизни суетной — благодать. Было бы сущим кощунством не проведать сперва тех, кто отдал Богу душу за благородное дело. Ведь они свято верили в его благородство.
— Время идёт, а вы всё не меняетесь, Кирилл Андреевич, — раздаётся в стороне голос до боли знакомый.
Он оборачивается, видит фигуру знакомую, высокую. Мужчине сентиментальность непозволительна, но здесь никого нет, никто не видит, никто не узнает. Ему хочется стать тем маленьким мальчиком, который бежит в отцовские объятья. Совсем не хочется быть взрослым, который несёт неожиданно ответственность за многие ушедшие жизни.
— Где же вы можете быть, ежели не здесь?
Володя улыбается, и Кирилл невольно отвечает улыбкой, наконец-то искренней, наконец-то чувствуя себя прежним.
По меньшей мере Володя не играет перед ним роль и ему самому отчего-то не хочется вести себя отстранённо. Ничего не говоря, Кирилл обнимает друга крепко, насколько позволяет сила. Ещё немного и мог бы заплакать на дружеском плече — день ветренный, можно оправдаться пылью в глазах. Но лишь чудом каким-то сдерживает себя, чтобы, вероятно, не омрачать встречу. Хотя бы одна встреча должна запомниться радостной.
— Слышал, теперь вы — Ваше превосходительство, — смеётся Володя, хлопая по плечу.
— Ещё одно слово и будет тебе сатисфакция, — усмехается Кирилл, а ветер смахивает с лица любой намёк на излишнюю чувствительность. — Володя... я так рад тебя видеть, — эти слова он должен был сказать хотя бы кому-то, чтобы совсем уж не чувствовать себя чужаком по возвращению. — Но... как ты здесь? В Петербурге?
— Меня спас счастливый случай. К нам приказ пришёл вернуть некоторых ребят, по какой-то нелепой ошибке в списке стояло моё имя.
За соучастие в заговоре ему тоже досталось. Кирилл чувствует облегчение на несколько крупиц. Хотя бы кого-то спасла милостивая судьба.
— А когда вернулся, разбираться было некому. По полкам уже пошёл слушок о том, что надобно поддержать Елизавету Петровну. Ты же всё знаешь?
Кирилл только головой кивает. Ни черта он не знает.
— О Гришке что-то слышно?
— Семью завёл, — Володя улыбается, — пишет, три разбойника и одна красавица-жена, возвращаться не намерен.
— Предатель.
Кирилл усмехается, разумеется, радуясь за друга. Своеобразная месть обидчикам — отыскать своё настоящее счастье в ссылке. Они никого щадить не собирались.
— Наш настоящий предатель в крепости нынче...
Облака серые наплывают на солнце и его лицо мрачнеет, ветер будто бы злее становится, теребя плащ и ветки ясеня.
— Взяли при аресте Апраксина.
— Иногда думаю, если бы не он... а потом понимаю, что сам виноват.
Еремей сделал доклад со всеми подробностями то ли от обиды страшной, то ли от желания наконец-то перестать бояться. Канцлер мог гарантировать покровительство, но зная этого человека, никто в уме здравом за таким покровительством не отправился бы. От ненужных подопечных он избавлялся не задумываясь. Саша был таким же нежелательным, в каком-то роде подопечным, от которого Апраксин избавился самым жестоким образом. Нож в спину — это больно. Теперь Кирилл знает, насколько. Ему только посчастливилось выжить.
— Ну полно тебе, надобно вперёд смотреть. С прошлым мы уже ничего не сделаем. Сегодня вот годовщина. Он умер с верой в светлое будущее. И мы должны сделать всё, чтобы это будущее наступило.
Володя был прав. Кирилл вдруг неожиданно и весьма самоотверженно решает, что должен исполнить мечту многих молодых людей, положивших животы за отечество. В их числе будет Сафонов, которому он наиболее обязан.
***
Семейство Волконских шума наделало много, удивительно ежели не весь дворец услыхал то рыдания, то радостные крики. Их приезд был чем-то неминуемым. Кирилл пытался убедить матушку в том, что и сам бы приехал, но подобные отговорки слышать она не желала. Привычно отмахивалась рукой, которая то и дело тянулась чтобы дать подзатыльник, а потом целовала по-матерински в лоб. Этот негодник никогда для неё не вырастет, навсегда останется мальчишкой. Но стоит заглянуть в его глаза и сердце в ужасе замирает: сколько в них боли и усталости скопилось. Аглая Владимировна провела тысячи бессонных ночей в слезах, чтобы наутро сменить подушку, насквозь пропитавшуюся слезами. Уж ей-то известно получше каждого, что сын не заслужил столь сурового наказания. Её вечно преданный своему делу и государству Кирилл — заговорщик и государев преступник? Она с этим не смирилась, только терзала себя ожиданиями, когда произойдёт чудо. Становилось только хуже: однажды вернулась в дом Вера Дмитриевна и поведала такие новости, после которых не хотелось жить.
— Мы останемся здесь и не спорь, — заявляет матушка столь категоричным тоном, что даже отец не может ответить отказом. — Я хочу всё знать.
Именно этого Кирилл боялся. Тем временем Ксюша с Любавой и Алёшей отправились прогуляться. Кажется, они довольно быстро подружились. Кажется, никто не задавал вопросов. Достаточно было посмотреть в уставшие глаза Кирилла, чтобы проявить чувство такта и сострадание. В конце концов, ему требуется время чтобы привыкнуть к прежней жизни. Он не соврёт если скажет, что просыпается в ожидании увидеть в окне величественные горы и густые туманы вместо площади, по которой маршируют гвардейцы. Столичная жизнь всё ещё дикая.
— Если бы мне показали эту ведьму, выцарапала все глаза. Не смотри так на меня, Андрей. Похоже тебе всё равно, что пережил наш сын.
Андрею Волконскому, разумеется, было не всё равно. Ему довелось смириться с тем, что род Волконских бесславно сгинет в далёкой Евразии. Но куда страшнее было представлять, что переживал собственный ребёнок от ареста до этапирования на место ссылки. Его сердце болело, грозилось остановиться и настолько серьёзны случились угрозы, что лекарь напрочь запретил тревожиться. А супруга отпаивала горькими травами, полезными для сердца. Теперь Кирилл здесь и его имя милостивой императрицей обелено.
Только в конце концов каждого родителя волнует один вопрос:
счастливо ли его дитя?
Оставляя родителей наедине диспутировать о том, чьи чувства сильнее, Кирилл присаживается на софу рядом с Верой Дмитриевной и протягивает ей чашку чая на блюдце. Она совсем постарела. Из-под чёрного чепца выбиваются густые седые волосы. Лицо морщинистое, несколько бледное, но всё ещё доброе, напоминающее о счастливых мгновениях. Натруженные руки чуть подрагивают, когда блюдце перенимают, а сухие губы растягиваются в благодарной улыбке. Силы её окончательно покидают, но услыхав о возвращении Кирилла, старушка заупрямилась. Он для неё всё одно что родной. Перед смертью душа просилась повидаться.
— Вера Дмитриевна, я спросить хотел... — а надо ли ворошить прошлое, причиняя себе и окружающим только боль? Кирилл запинается. На неё поглядишь и вовсе хочется замолчать, только чай подносить да за руку поддерживать, чтобы не упала. Тревожить пожилую женщину, заслужившую наконец-то покой — стыдно.
— Спрашивай всё что хочешь, голубчик, — отзывается она мягко, точно, как в детстве, когда Кирилл стыдился признаться в провинности или задать глупый вопрос. Ему было любопытно, отчего мальчишки вечно задирают девчонок, ежели их надобно защищать. Вера Дмитриевна снисходительно улыбалась, а после рассказала о том, что такое л ю б о в ь. Конечно же, он ничего не понял. Лишь с годами её слова обретали суть и воплощение. Может быть, и нынче ничего не поймёт. Разве что времени на долгое осознание больше нет.
— Вы же остались с Елизаветой Петровной после того, как меня арестовали? — набирается храбрости, задавая вопрос и затаивая дыхание заодно. До чего нелепо произносить это вслух, будто впрямь был преступником.
— Оставалась с нею, пока не велели мне ехать обратно, — с какой-то горечью её ответ, а чашку с чаем отставляет на низкий столик перед софой.
— Кто велел? Императрица?
— Смотря кого императрицей зовёшь, милый. Нет, никакого дела до меня не было Софье Михайловне. А до вас было. Хотела она... — поднимает мутные глаза на него, готовая расплакаться. Ей и самой стыдно за то, что оставила цесаревну одну. — Тебе не сказали?
— Боюсь, мне многого не сказали и не скажут. Но я должен знать.
— Забрали её. Машеньку забрали, — немного погодя, она произносит самые страшные слова глядя Кириллу в глаза. — Сначала тебя, а потом и её... в тот же день Елизавета Петровна меня отправила обратно в Берёзово. Машенька думала, вы вернётесь за ней. А государыня наша... — здесь она и не выдерживает, начиная плакать. Кирилл, потрясённый и буквально оглушённый, какими-то безвольными движениями вынимает белый платок, протягивая своей няне. Она всё плачет и плачет, его сердце всё колотится и колотится, норовя своим громким стуком окончательно оглушить.
Ему следовало и догадаться, что дьявол в юбке не пощадит даже дитя. Следовало догадаться, что она жаждала полной расправы. Одного Кирилла было недостаточно. Даже его смерти было бы недостаточно, и после неё Софья непременно отняла бы ребёнка. Его накрывает с головой гнев неконтролируемый, выжигающий все внутренности, всё существо. Отнять ребёнка у матери — крайняя жестокость. Нечеловеческая. Вот и он превращается в нечто не похожее на человека.
Всё, что ему сейчас нужно — уйти прочь.


как осужденный, права я лишен
тебя при всех открыто узнавать,
и ты принять не можешь мой поклон,
чтоб не легла на честь твою печать.
Он идёт очень быстрым шагом, а ежели точнее — несётся по коридорам, распугивая молоденьких горничных своим грозным и мрачным видом. За ним определённо несётся ураган, а над головой сверкают молнии и громыхает гром. В состоянии подобном надобно держаться от людей подальше. Ему следовало уйти в другом направлении. Но Кирилл — упрямый болван, которого ноги несут в один-единственный кабинет. Какой-то человек, мешаясь под ногами пытается сообщить, что Её величество очень занята и кого-то принимает. Конечно же, он не слышит и ему совершенно плевать. Отталкивает этого человека в сторону, снова врываясь туда, куда не положено.
Господи, и почему же именно сейчас она должна принимать этого осла?
— Оставьте нас, — едва успев переступить порог, Кирилл крайне грубо и крайне категорично указывает на дверь. Что же, если она могла отчитывать его как мальчишку, то почему он не может выгнать её чёртового воздыхателя как мальчишку? Семён непременно готов бросить перчатку или подраться прямо здесь, — в этом сомнений нет, однако Кириллу всё ещё плевать.
— Мне бояться нечего, поэтому повторяю ещё раз: идите вон!
То ли ему Лиза кивнула, то ли зашевелилась какая-то извилина разума и скрипя зубами (сапогами) Семён Иванович нехотя покидает кабинет. А Кирилл весьма терпеливо дожидается, когда за спиной закроется дверь.
— Я пытался предупредить, что лучше отправить меня отсюда подальше, — его буквально разрывает изнутри то ли боль, то ли злость, а может всё разом — взрывоопасная смесь. Теперь и лицо Семёна перед глазами, по которому отчего-то хочется пройтись кулаком.
— Когда ты собиралась сказать мне о дочери?
Жестоко. Жестоко.
Жестоко.
В один миг перестали существовать все границы. Перестала существовать Елизавета Петровна, пред которой следует кланяться и которой надобно поклоняться. Именно этим заняты все мужчины двора, не так ли?
— Никогда, верно? Ты бы не сказала. Я знаю, что не сказала.
А когда она должна была это сделать, Кирилл? Его воспалённое сознание убеждённо сейчас в том, что она обязана была сказать сразу же. Конечно же, это бред, вздор, потому что с первых секунд они были чужими друг для друга.
Но сердце болит, кровоточит, рвётся на куски. Ты этого не чувствуешь, Лиза?
— Ты можешь думать что угодно, но я достаточно хорошо знаю тебя, Лиза. И поэтому ты стала императрицей. Потому что ты сильная и считаешь, что справишься со всем сама, — его голос делается только громче, скорее от накатывающего отчаянья.
Боже, до чего же он зол. Только злится вовсе не на Лизу. Злится на человека, которого давно нет в живых. Посмотреть на то, как она умирает — это была бы лучшая награда за все страдания. Да, чёрт возьми, он бы всё отдал, чтобы видеть её смерть.
— Но это наша дочь! — вырывается до того отчаянно и громко, что всё тело начинает мелко дрожать. Хотя бы на этом следовало остановиться. Только Кирилл остановиться уже не может. Запущен какой-то необратимый процесс.
— Ты знаешь где она сейчас? — пристально всматривается в её лицо, до болезненности. Больно, больно, очень больно. Кажется, ответ совершенно отрицательный, даже если она пытается снова надеть очередную маску на лицо. — Нет... нет... ты не знаешь. Конечно же ты не знаешь, и не стала бы держать её здесь, даже если бы знала. Ты же теперь... императрица, — отстранённо, значительно тише, но звучит голос с холодным безразличием.
Он упрямо не понимает, что мог бы её исцелять вместо того, чтобы добивать. Кирилл бы сам не отказался от исцеления, чтобы эти раны перестали кровоточить. У них забрали дочь, и он ничего об этом не знает.
Он не знает, где его дочь. Жива ли?
Отворачивается от неё, начиная блуждать совсем потерянным взглядом по её, очевидно рабочему кабинету.
— Всё... всё, благодаря чему я держался, это уверенность в том, что её не тронут... как же глупо, — последнее прошепчет, находя себя удивительным, наивным глупцом, который поверил в пустые обещания. «Будешь сидеть тихо, их не тронут». Судя по всему, Софья Михайловна озаботилась всерьёз, отправив вместе с ссыльным целый пакет указаний на различные обстоятельства. «Любую попытку побега строго пересекать», «предостерегать благополучием близких» и тому подобное. Возможно, однажды над решили попросту посмеяться. Проще было бы его убить.
И почему же его не убили?
Лучше бы убили, лучше бы убили.
— Господи... Машенька, — наконец что-то внутри обрывается, сила его духа окончательно надломлена чтобы держаться, чтобы злиться, рвать и метать в слепом гневе; вместо этого из глаз начинают бежать слёзы совсем невольно и всё, что он чувствует — как влажные дорожки бегут по щекам. За семь лет ни единожды не позволял себе слабости, такой стыдной и жалкой. Но теперь безысходность, беспомощность добивают его. Всё, что он может сейчас — опереться обессилено ладонями о спинку какого-то стула, хочется думать, что надёжного, потому что у него вдруг не остаётся сил даже на то, чтобы стоять на ногах.
— Даже её не смог защитить... доченька... — голос дрожит нещадно; он зажмуривается крепко, пытаясь эти слёзы дурацкие остановить.
Постепенно Кирилл снова начинает дышать, ощущение сдавленности и жжения в груди отпускает. Нет, ему не стыдно за то, что плачет о дочери, а за всё остальное — безумно. Но теперь ожидать понимания в свою сторону нелепо и глупо, как и однажды верить в то, что их оставят в покое. Он был уверен, что императрице нужна лишь его душа, вероятно способная на целый переворот во имя любви. Этому же чудовищу крови было всё мало. Лиза не виновата. Не виновата. Будто уверяет себя в том, выпрямляя спину и отпуская несчастный стул.
— Что же я за отец такой? — взгляд метнётся к потолку. Кажется, слёзы остановились. — Ты прости меня, Лиза. Если сможешь.
***
Ксюша пребывала в хорошем настроении, то и дело бросая косые взгляды на хмурого супруга своего. Оказывается, на службу он сегодня не пойдёт, надобно ждать какого-то указа, а если уж откровенно, то в таком виде и состоянии на службу никто не ходит. Спросить она боялась, может быть из вежливости и уважения — сам расскажет, если захочет, а может быть, не хотела сама услышать историю о том, как он теперь несчастен. Она и сама знает лучше всех, что несчастен. Шутка ли, чуть ли не каждый день видеть женщину, которую любил. Но после обеда, когда он по привычке пил крепкий кофе в маленькой гостиной, Ксюша решилась с ним заговорить. Даже несмотря на то, что он напоминал ей одного из камчатских медведей, которые отбиваются от своих и бродят одиночками по берегам залива.
— Одна старая подруга пригласила погостить. Полагаю, тебе приглашение тоже выписано, — осторожно, однако сразу по делу начинает она. Кирилл только взгляд поднимает из-под своих густых бровей. Вот почему напоминает мишку — такой же насупленный и обиженный. До него суть услышанного доходит не сразу.
— Я так не думаю. Видела ли ты эти круги под глазами? — устало спрашивает он, словно всерьёз полагает, что из-за этого никто в своих гостях видеть его не пожелает.
Ксюша молча продолжает на него смотреть.
— Ну почему бы тебе не съездить? Ты же вернулась сюда не для того, чтобы со мной сидеть. Да и зачем со мной сидеть? Я же ещё не настолько стар... Поезжайте. Возьми с собой Алёшу, если захочет, — завершая свой недолгий монолог вздыхает настолько тяжело, будто таки постарел за последнее время на лет эдак сто.
— Какой же ты замечательный! — раздаётся удивительно радостный вскрик. Если бы он только знал раньше, что подобное может доставить женщине радость, отправил бы по гостям тотчас же по приезду. Ксюша спешно вернулась в прошлую жизнь, надо признать. Пусть не до конца, пусть ещё просыпается от кошмаров посреди ночи, но по крайней мере, ей хочется встретиться со старой подругой. Кирилл же в данный момент видеть никого не желает напрочь.
На радостях она целует его в щёку, прежде чем, очевидно отправиться собирать вещи.
— Всего на пару дней. Только не скучай без нас. Обещаешь?
Он едва кивает головой, глядя на то, как радостно она выбегает из гостиной. А у него остаётся чашка недопитого кофе и тлеющая сигара.
Кирилл, как истинный мужчина, скучать не стал, а занялся тем, чем положено в отсутствии супруги, — раздобыл несколько бутылок французского коньяку. И снова отправился бродить по дворцу в тёмное время суток, и снова сия прогулка обещала закончиться бедствием. Сколько бы ни пытался раздумывать, никаких путных идей не приходило в его голову, а когда положение настолько безвыходно, остаётся только напиться.
У него забрали любовь и отняли дочь. Чем не повод?
Пошатываясь, он добредает до дверей, впрочем, особенно не соображая, кто за ними должен находиться. Снова ноги сами по себе несут куда-то. Глупое сердце будто чует, где засела его несчастная любовь. Только какой-то гвардеец в мундире вдруг перекрывает дорогу, вырастая перед ним стеной. Кирилл глупо смеётся, начинает рукой отмахиваться, а в другой крепче сжимать бутыль с коньяком.
— Братец, ну ты чего? Мне туда надо, — протягивает руку, отчетливо указывая на двери. — Ты понимаешь, я же этот... — опираясь рукой на плечо гвардейца, нахмуривает брови, силясь вспомнить кем же теперь является. Гвардеец готов бить тревогу, не иначе: пьяный проходимец с бутылкой ломится в императорские покои. Никаких офицерских отличий на нём не наблюдается, только расстёгнутые пуговицы на рубашке свидетельствуют о крайней безалаберности.
— Я теперь генерал... — вырывается икота столь невовремя, — майор. Мне нужно на доклад к императрице, срочно! — взмахивает широко рукой, делая очень требовательное выражение лица.
— Извольте, но я не могу вас пропустить в таком виде... да и на генерал-майора вы не очень похожи, — с некоторой осторожностью оповещает гвардеец, на случай если пьяный человек наутро всё же окажется генерал-майором. — Императрица... вас сегодня ждёт?
— Ждёт-ждёт, послушай, — снова опускает руку на плечо несчастного, — она меня уж как семь лет ждёт, — произносит особливо вкрадчиво, по-заговорщицки. Разве этот малый до сих пор не слышал трогательной истории любви своей государыни?
— При всём уважении, я не могу....
— Не можешь, значит, — недовольно констатирует сей факт, позволяя руке безвольно сползти с чужого плеча, и делает шаг назад. — Не можешь... — задумчиво осматривается. — Ты только посмотри, кто крадётся! — внезапно перепугано выкрикивает Кирилл, делая такие же перепуганные глаза и тыча пальцем куда-то в пустоту анфилад. Молодой гвардеец, однако, ловится на этот крючок, готовый защищать свою государыню. И пока широко распахнутыми глазами высматривает злодея, Кирилл отталкивает его в сторону, успевая оказаться за желанными дверьми. Оказывается, даже его пьяная голова недурно соображает.
Здесь пахнет тонким, элегантным парфюмом, нотки которого он уловил с их первой встречи. Покидая Петербург, запомнил совсем другой аромат, казавшийся навеки родным. Стало быть, она впрямь изменилась. У неё забрали ребёнка и теперь ты об этом знаешь. Оставляя бутылку где попало, начинает исследовать взглядом нынче императорские покои, жадно цепляясь за детали. Здесь столик, на котором лежит книга и стоит ваза с цветами, здесь будуар и туалетный стол со всяческими флаконами, женскими предметами для создания красоты, в которых он конечно же не разбирается; но от самого осознания того, что каждая вещица принадлежит ей, каждую она берёт в свои руки изо дня в день, пробуждает в нём трепетность и тоску. Однако, в покоях он не находит самого главного, а именно Лизу. Кирилл достаточно пьян, чтобы не развернуться к двери. Нет-нет, подобную глупость он сегодня не сделает. Вместо этого доходит всё ещё покачиваясь, до кровати, бессовестно на неё падая. А быть может, его организм решил, что именно здесь пора свалиться и восстанавливать истраченные силы. Голова идёт в пляс, балдахин императорской кровати кружится, или это Кирилл кружится, или его кружит какая-то карусель — непонятно. Когда законная хозяйка этих покоев и целого дворца, и целой страны, возвращается, конечно же он ничего не слышит, впав в состояние полудрёмы. В таком же уязвимом состоянии, чуть глаза приоткрыв, перебирается на чьи-то колени, столь удачно оказавшиеся рядом с головой.
А когда снова открывает глаза, теперь пошире, видит над собой до боли знакомое лицо и расплывается в довольной улыбке.
— Елизавета Петровна... это опять вы.
Чтобы это ни значило. Разумеется, он не понимает, что снова случилось сугубо по его пьяной вине. Снова они встретились. Снова его прогулки дворцом закончились чем-то очень нежелательным. Разве она его всё ещё любит? Разве он всё ещё имеет право её любить?
— А я опять хулиган, представляете... — поворачивает голову в сторону, с глупой улыбкой глядя на узорчатую стену. До чего же хорошо быть здесь. Потом вдруг снова поднимает глаза, протягивает руку и указательным пальцем касается её губ, нахмурив брови. Это была попытка предотвратить её возражения, впрочем, она могла и не возражать. Теперь он действительно заслужил, виноват. В прошлый раз всё было иначе. — Не смейте спорить. Я обманом отвлёк вашего гвардейца и ворвался сюда, — на какой-то миг может показаться, будто он протрезвел. Но трезвость до утра едва ли ему грозит. Убирает руку и брови переставая хмурить. — Вы такая... красивая женщина... — взгляд даже замутненный замечает снова спадающий рукав сорочки с плеча, и рука сама собой тянется, пальцы невесомо касаются отметины и стоит только почувствовать это приятное прикосновение сквозь пьяное сознание, руку быстро отдёргивает.
— Но я вас не достоин, — шепчет, мотая головой.
Будто они действительно вернулись в прошлое. Будто теперь всё начинается заново.
— Я несчастный человек, Елизавета Петровна.
Как я могу быть счастливым с этим грузом вины за всё, что случилось, Лиза?
— Смотрю на вас и вижу... свою Лизу.
Чтобы это ни значило.
Глаза закрываются.
я н е х о ч у ч т о б м о й п о р о к л ю б о й
на честь твою ложился как пятно