Что дальше? Что делать?
Я на границе между здравым смыслом и безумством.
А ты жестока.
ты жестока, милая.
– Джун . . .
Ты срываешься вновь, ты падаешь и больно ударяешься о твёрдые стены, разбиваясь изнутри, разбивая в кровь всё своё существо. Слышишь голос, столь родной, напоминающий о далёком доме, о набережной и палатках с соджу. Голос, возвращающий в Пусан, где пахнет морем, плещут волны, катятся к прибою и пенятся в густой синеве. Вспоминаешь не вовремя прикосновение её тёплых рук, шутки друга, вечерние и прогулки, и желание вернуться в прошлое. Чаще прошлое не любят, чаще оно причиняет боль, а сейчас готов изобрести машину времени и вернуться, забрав её с собой. Ты будешь права, говоря насколько всё несправедливо. Чертовски несправедливо. Этот голос проникает внутрь и на мгновенье пробуждает человека. Ты не можешь. Прости, Хун, прости. Рывок назад, всем своим видом выдаёт, что не собирается сдаваться, сжимая кулаки и держа руки наготове. Представим, будто это не мы, будто это сцена и разыгрывается какой-то жалкий, трагичный спектакль. Представим, однако реальность слишком больно бьёт, не желая, чтобы о ней забывали. Вопросы в тёмных глазах, разжавшиеся пальцы и бесшумно улетевший, чёрный платок. Чёрный. Сегодня и всегда я ненавижу чёрный.
– Джун . . .
– Считай . . . считай, что я умер, ведь так и есть. Притворись, что не видел меня. Показалось, солнце в голову напекло, что угодно, ты не видел меня.
Спёртый воздух груди. Говоришь и задыхаешься, открываешь рот и жадно не дышишь, глотаешь. Задыхаешься точно рыба под палящим солнцем. А этот взволнованный, вглубь проникающий взгляд, как выстрел из ружья. Ты лишь животное, подстреленное взглядом, лишь животное, которое карабкается и противиться всему.
– Джун! Ты жив! Как ты . . . о чём ты говоришь? Ты знаешь где Хегё? Ты знаешь . . .
– Представь, я знаю намного больше, я знаю, что, если не убью тебя, умрёт она.
Слова вырываются невольно, минуя пропускной пункт здравого рассудка. Острые, жестокие слова, возникшие в мыслях под тяжким давлением обстоятельств. Кулаки сжимаются крепче, ногти впиваются в кожу почти до крови, до глубоких следов. Волчий, диковатый взгляд отчаянно кричит, рвётся от крика о том, что всё реально. Здесь всё реально. Взгляд кричит о неминуемой опасности. Взгляд предупреждает, что он вот-вот сорвётся и обратит слова в действия. А всё начинается с мыслей. Всё начинается . . . Прости, я иначе не могу. Прости, ты сильнее её, ты справишься, ты выживешь. А она? Прости, дружище.
– Где Гё? Что произошло? Джун . . .
– У меня встречный вопрос, что здесь делаешь ты? Пришёл спасать? В одиночку? По твоим глазам я вижу, не всё так просто. Не умеешь врать, когда дело касается чужих жизней. Ответь же.
– Я был обязан спа . . .
– Тогда спасай, плевать на меня, спасай её. Но прежде, позволь пройти.
– Что происходит, Джун?
– Я же прошу освободить путь, не вынуждай меня . . .
– Джун!
– Ты знаешь насколько опасны болезни, гулящие в этих местах? Ты знаешь, больше недели не живут. Без воды, еды и лекарств, больше трёх дней . . . человек может не прожить.
– Хегё заболела?
– Заткнись! Отойди с дороги или мне придётся драться с тобой, до последнего.
Выдыхаешь, сильно дрожишь и глаза краснеют, наливаются кровью, красные ниточки плетутся мудрёными узорами. Руки всё ещё готовы ударить, ноги сами подводят ближе, слушая быстро бьющиеся сердце. От быстрого ритма оно трескается — больно, невыносимо больно. Разрываешься и переходишь на крик до боли в горле, до рвущихся связок. Выступают зелёно-голубые вены на шее, плетутся по напряжённым рука, по виску — весь напряжён и кажется, не выдержит. Кажется, выпустит скопившийся комок голубых молний, отталкивая всё и всех от себя. Тебя невозможно остановить. Ты будешь рваться до последнего, биться до последней капли собственной крови.
– Прости . . . Джун . . . остановись!
Хватает за плечи, встряхивает, тонет в бешенном взгляде, теряясь, чувствуя страх. Страх за то, что друг сходит с ума окончательно и бесповоротно.
– Ты её любишь, ты мой друг, поэтому моя обязанность — помочь вам обоим. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы спасти её. Один выжил, другой тоже выживет. Слышишь?
– Тебе так просто говорить, так просто . . . тебе в голову не пришла мысль о том, что я пробрался сюда втайне, одет в одежду врага и собираюсь прикончить тебя прямо здесь и сейчас . . .
– Именно об этом я думаю. Тебе поставили условие? Вынудили, угрожая её смертью? Ты внезапно стал предателем, потому что иначе не можешь?
– Думаю, тебе не понять . . . что это за чувство раздирающее, когда твой любимый человек сгорает, и ты сам беспомощен.
– Иди и забери то, зачем пришёл. Я буду ждать тебя снаружи, на пути к их лагерю. У меня есть вертолёт и разрешение на проведение операции по спасению заложников. Ты же . . . ты не один из них, ты всё ещё капитан Сон, а я нахожусь у тебя в подчинении, Джун! Одно твоё слово, и мы начнё . . .
Смотря сквозь, впитывая сказанное, проходит мимо, невзначай задевая плечо. Обматывает лицо, хлопает по первому выключателю и растворяется во мраке. У тебя программа, у тебя лишь одна цель и преграда устранилась своевольно — двигайся дальше. Однако, сердце, взятое в железные оковы, живое и бьётся до сих пор. Сердце вторит спасибо, сердце признательно за жизнь, подаренную другом. Спасибо, что не позволил причинить тебе боль. Спасибо. Ещё одного я бы не выдержал. Я на грани. Где-то между здравым смыслом, уже переступая и касаясь полнейшего безумства.
Быстрые шаги, шум потасовки, изредка мелькающие на блеклом свету, силуэты. Основная часть охраны снаружи, а здесь достаточно, чтобы справиться самому. Оглядываясь назад, поправляя чёрную кепку, ударяя в живот человека, появившегося на фоне мягко льющегося света. Прости, её жизнь мне дороже. Её жизнь мне важнее. Выхватывая связку ключей, ища сонную артерию и задавливая с силой, отпускает тело, дышащее или, нет — нужно ли тебе знать? Свет гаснет, тьма поглощает коридоры, поглощает рассудок и заполняет внутренности. Перед глазами лишь её бледное лицо, горячее до невозможности и дрожащий голос. По слуху ударяет звонкий, чужой, но с нотами родного, голос. Джун! Не надо! Не надо! Отдаётся громким эхом, как раскат грома и молний над головой. Ты сам дрожишь, тебя трясёт, передёргивает, а слёзы хватают в удушье лишь тогда, когда допускаешь мысль о возможном исходе. Этому не бывать! Появившийся человек, перепуганные, голубые глаза как ведро ледяной воды. Отрезвляет. Коркой льда покрываются последние, человеческие чувства. Ты не сломаешься, ты погружаешься с головой в ледяное озеро. Только так, только равнодушием можешь победить. Только так избавляешься от последней преграды, чтобы забрать необходимое, забрать то, что дороже золота. То, что спасёт ей жизнь. Мы оба скрываем своё истинное лицо сейчас, мы оба не хотим показываться друг другу такими. Мы оба чужды сами себе. Мы. Снова прости, Гё. Я ужасен. Меня не интересует цена, меня ничто не трогает, лишь исход, лишь одна цель. Я был так обучен, будто запрограммирован. Понятие цены для меня не существует.
– Как ты, дружище? Справился?
Посреди пустыни, в объятьях горячего ветра, под прицелом палящего солнца. Он смотрит с опасением и подозрением, недоверчиво.
– Отойди от машины, ты не должен связываться с этим, и я не должен говорить с тобой.
– Иначе что?
Останавливается, усмехается, кидая мутный взгляд в бледно-голубое небо. Секунда, вторая, держи себя в руках, держи себя крепче, сильнее.
– Ты издеваешься? Не прикидывайся идиотом, уберись с глаз моих, прошу.
– Только после вашего первого приказа, капитан. У меня есть план, озвучить? Сам подумай, что ты можешь? Они используют тебя, а потом уничтожат . . . вместе с ней, вместе со всеми пленными. Умрут все.
Привычно обсуждать подобное, привычно смотреть прямо в глаза, бесстрашно и уверенно. Привычно, потому что вы солдаты, потому что не впервые кто-то в плену. Не впервые кто-то у глаз самой смерти, подкрадывающейся постепенно и тихо. Говорить о ней — привычно, обыденно, как обсуждать погоду. Слова задевают, толкают к действиям, отчаянным, но верным. Он нарочно задевает друга, ловит беса во взгляде и улыбается довольно. Больше злости.
– И что же? Каков твой план?
– Переполох. Мой план 'переполох', предлагаю так и назвать операцию.
– Ты понимаешь, что всегда есть риск провала? В этом случае тоже все умрут.
– Тридцать процентов, остальные ставлю на победу.
– Самоуверенный дурак.
– Значит план переполоха одобрен.
Я разбит вдребезги
Я опустошен
Я больше не могу
Ноги подкашиваются, держишься за шершавые стены и сдираешь ладонь в тёмно-бордовую кровь. Рассматриваешь с безумной усмешкой. Осознаёшь то, что режет на куски так больно. Осознаешь, что лишь два варианта: рискнуть или погибнуть. Тебя же убьют, наденут чёрный мешок на голову и расстреляют за углом. Будто не знаешь, будто первый раз в чужих руках, будто никогда не спасал приговорённых к погибели. Не можешь трезво мыслить, усмехаешься широко, смеёшься нервно. Они встречают в этом длинном тоннеле, появляясь из темноты, словно чёрные монстры, имеющие способность, растворятся в дым и возвращаться в человеческие тела. Он их ненавидит. Ненавидит всем своим существом. Глубоко, до желания прострелить каждому голову. Ненавидит. Идёт следом, измученный до предела, потерявший все силы. Видит ту самую дверь, хлопок которой добивает, добивает, и однажды, добьёт полностью, если не успеешь спастись. Звенит её голос, так громко, глушит, точно глушит, разливается жидким, но тяжёлым свинцом, внутри. Сильно хмурится, царапает пальцами разодранную кожу — не чувствует боли, потому что внутри всё давно истекает кровью, внутри давно большие дыры, насквозь. Не делай этого! Отпусти! Нет, держите её крепче, или я раздобуду сильное снотворное. Потому что дальше может стать хуже, дальше неизвестность, мрак, открывающий свою пасть широко, заглатывающий глубоко. Теперь ломай себя, потому что не можешь появиться т а к и м перед ней. Не столь важно, что ты считаешь иначе, Гё. Не столь важно, что для тебя все равняется в одно. Я вижу множество отличий и свои намерения. Выше моего понимания и сил, оставить, пустить всё на самотёк. Выше моих сил, смотреть как болезнь одолевает тебя, медленно, мучительно. Ты бы смогла? Ты смогла бы бездействовать той ночью? Ты даже не часок не прилегла, чтобы поспать. Неужели, я смогу? Нет, не ошибайся, не смогу. Определённо и точно не смогу. Я никогда тебя не слушал, иногда невозможно тебя слушать, иногда недопустимо, сейчас о п а с н о. Опасно для твоей и моей жизни. Я собираюсь сделать всё и что угодно, сколько хватит сил и выдержки, сколько хватит не повреждённых участков тела и не пораненной кожи. Сколько хватит всего меня. Да, я сделаю это.
Он перед ней на коленях, держит руку, а позади, по всей камере эхом разлетается твёрдый голос. Спасение и надежда в нём. Единственный, кто на свободе, единственный, кто может помочь и стоит признать, пока не поздно. Продержитесь три дня, всего три, чтобы не вызвать подозрений, иначе первым делом удар будет на вас. Не подавай виду, продолжай дерзить как обычно и смотри так, будто готовы убить, а ещё так, будто не хочешь умирать. Тогда не заподозрят. Три дня, и мы снова встретимся. Три дня . . . а ты сможешь продержаться, Гё? Ты сможешь? Она не смотрит на него, она отворачивается, закрывая глаза, а он хватает ответы в спёртом воздухе и едком запахе спирта. Если тебе тяжело, ей ещё тяжелее? Снова рвёт на части лишь от одной мысли, снова воспламеняется желанием броситься в огонь, самый ад, совершить самые зверские поступки, лишь ради одного. Любой ценой, Гё, любой ценой. Меня не переубедить, тебя ведь тоже? Не могу видеть тебя такой, это безумие толкает. Не думает отпускать руки, а если отпускает, значит нужно. Берёт снова, напрочь забывая о словах вроде заразиться. А если я хочу? Если хочу забрать себе все твои мучения и страдания? Хочу до ужаса, просто хочу, разрывая себя — хочу. Это полнейшее безумие, это же моя любовь, невыносимо видеть, как она сгорает. Любовь жестока или судьба? Почему же я схожу с ума . . . почему. Мужчине плакать не подобает, так жалко, но в пустоте ничего кроме слёз не осталось. Горько-солёные, застывшие в глазах, холодные словно из ледяных истоков.
– А что если . . . буду . . . тебе можно, мне нельзя?
Наблюдая за каждым шорохом, за каждым движением, пытается подхватить, когда падает. Подниматься слишком рано, Гё. Её будто чуточку лучше, украденные лекарства пускаются в действие, дают немного времени чтобы продержаться до вызволения. Сильные, больно сжимающие оковы напряжения чуть ослабли, сердце чуть притихло, резать внутри что-то перестало. Ненадолго, но ему необходима передышка, отдых, обновлённые силы дабы пережить предстоящую бурю. Поэтому позволяет порадоваться, как-то искренне улыбаясь, качает головой, говорит что-то невпопад. Потому что не время об этом, не стоит тебе знать, не стоит думать. Просто доверься мне. Обнимает нежно, опуская голову на плечо, пытаясь распутать волосы, всё ещё хранящие слабый, тусклый запах солнца и свободы. Прислушивается к голосу, словно ожившему, словно птица, на мгновенье вернувшаяся на свою зелёную ветку, защебетала. Любимая. Гё. Сердце рвётся, а с ним надежды, но окунуться в наше, уже кажется невозможное, будущее, приятно и заманчиво. Я не против. Я буду бороться до конца. До самого конца.
– Идёт, отправимся в путешествие, только ты и я, маленький фургончик. Будем ночевать у берегов, провожать закаты и встречать рассветы. Очень красиво, – шепчешь, обманываясь иллюзией, погружаясь в омут нереальности, отдаваясь ему полностью. Ведь мечтать не запретишь. Можешь отнять у человека всё, только не мечты и желания. Только не самое заветное. Не самые сильные чувства. Этого никогда не отнимешь. Никогда. Ему нравится, увлекает, уносит в облака, где льётся яркий, тёплый свет. Нравится ненадолго забыть, что заперт в четырёх сырых стенах.
– Дети? – удивлённо, а потом плечи опускаются расслабленно. – Конечно, договорились, у нас будет двое прекрасных детишек. Мальчик и девочка? Чтобы мальчик её защищал, а она делилась секретами, как покорить сердце лучшей подруги. Ты же расскажешь нашей дочери, чем я тебя покорил? – нарисованная собственными руками картина, оживает в приятных, пастельных, иногда насыщенных, красках. Перед тобой вовсе не шершавые, серые стены, а разноцветный Пусан в лёгкой голубизне. Уютный, двухэтажный дом, двое детей, которые бегают друг за другом, забираются в кровать родителей и прыгают, чтобы разбудить. Горькая усмешка, а сердце лишь сжалось болезненней.
– Конечно помню! – отвечает мгновенно, ведь времени так м а л о. Ведь время ужасно и беспощадно. Время в ненавистном списке. – Ты так прекрасна в нём . . . – а потом умолкает, захлёбываясь в собственном горе и мыслях, отравляющих изнутри. Ядовитые, убивают, разносят на мелкие частицы.
– Мне кажется, это совсем не в тему нашего милого разговора. Я бы поговорил о детях. Ты можешь быть ангелом только на земле, небеса милостивы, подарили такого ангела, и не могут забрать, нет. Как же смертные без него? Как же я? Это невозможно, ты ангел и звезда в одном лице, ты освещаешь мою жизнь с тринадцати лет, а до того я бродил в кромешной темноте. Ты нужна здесь, Гё, очень . . . нужна. Поэтому всё будет хорошо, посмотрим фильм, ты выберешь красивое платье на свадьбу. Думаю, Тэхи поможет, у неё отличный вкус, – опускает взгляд на её закрытые глаза, говорит тише, касается губами лба. Обхватывает чуть сильнее, чуть ближе, обнимает крепче. Пока плетёшь из слов что-то лёгкое и приятное — душа витает в каких-то просторах, отдыхает. Когда она умолкает и сказать нечего, внутри снова разливается свинец. Такова зависимость. Всё, что мы сказали, принимается нами как сказкой? Всего лишь утешение? Я стану глупцом, окунусь в наивность и буду свято верить в исполнение каждого слова. Последний дурак, удерживающий надежду на нечто невидимое. Глаза веры направлены вдаль, сквозь. Или рядом с ней ты не можешь опуститься, не можешь думать о самом худшем? Не можешь даже мысленно озвучить свою участь.
Доктор снова позвал на разговор в угол, пришлось отпустить. Хотела узнать правду? Хотела узнать, что с тобой? Всё зря? Он почему-то пытается убедить, заставить сдаться, отпустить всё, что начал. Трясётся, вздрагивает, смотрит перепугано, но, когда лечит — совсем другой человек.
– В чём же дело?
– Эти люди жестоки.
– Тогда не стоило передавать её слова, это лишняя причина для меня. .
– Если вас поймают! Расправа неминуема.
А потом кто-то произносит это страшное слово кровь. Отворачивается, резко опускается, почти падает рядом с ней. Смотрит очень внимательно, слушая её, хмурится. За что ты так со мной? Не хотела расстраивать? За что?! На глазах снова распускаются красные лепестки, от напряжения где-то выступает посиневшая вена, едва сдерживает себя. Едва . . . Снова на границе спокойствия и мощного взрыва. Теряется в голосах, унесённый ветром ко всем границам. Теряется в небольшом пространстве, ощущая сильное головокружение. Умоляю, не надо так, не надо . . . Гё, прошу, не надо! Она говорит и очередное, внезапное погружение в холодную воду. Оцепенение. Глаза застывают тонкой, ледяной корочкой, брови смещаются, нависая хмурыми тучами. Остановись . . . .прошу, остановись.
– Прекрати! Ни слова больше! Остановись, умоляю! – громко, впервые громко, как раскат грома в эпицентре стихии. Хватает за плечи, сильно сжимает. Губы дрожат, весь в мелкой дрожи, сглатывает, дышит шумно, но прерывисто. Крик души из последних эмоциональных сил, полностью растраченных. Он никогда не повышал на неё голос, потому что равнял подобное с мужскими слезами. Низко и жалко. Невозможно. А сегодня срываясь, позволяет слезам скатываться по щекам, голосу стать выше, грубее и громче. Внутри всё поднялось, всплыло на поверхность, однако заталкивает обратно, топит в самой глубине. Смотря на её бледное лицо, на руки, на всю, тонкую и хрупкую — как ты можешь позволять крику вырваться наружу? Ты последнее ничтожество. Иногда.
сердце, однажды слившееся с другим,
никогда уже не испытывает того же с прежней силой.
– Не устраивай мне такие пытки, прошу тебя. Знаешь, как это звучит? Больно, очень больно. Наша боль примерно одинаковая, тебе больнее, и я схожу с ума. Кровь на твоей руке . . . мне кажется, я вот-вот потеряю контроль, Гё! Сейчас не то время, когда можно спорить или не спорить, – голос катится к низу, утихает, но в нём плещутся эмоции, поднятые из самых глубин. Теперь хрипит, становится ещё грубее, но тише.
– Я на смотрю на тебя, да, ты больна, ты правда больна. Мы все признаём это, мы знаем, исход может стать плачевным. Исход, который пережить мне удастся. Если я сейчас схожу с ума, что будет потом? Ты догадываешься и говоришь о чём-то . . . совершенно мне непонятном. Никаких обещаний я не дам, нет, это выше моих сил. Намного выше, – опускается до шёпота, до безжизненного выражения лица, до крайней бледности.
– Я не хочу гадать, не хочу быть уверенным в том, что твоё решение верное. Ты решила и не посчиталась со мной, а это очень обидно. Сколько времени я не мог посмотреть на другую женщину, потому что любил тебя . . . так наивно полагать, что я смогу это сделать, – усмешка с горьким привкусом. Последний, шумный выдох и выдох, опускаются веки на мгновенье.
– Давай не думать и не говорить об этом, давай просто ждать. Я рядом и сделаю всё возможное, чтобы помочь тебе справиться. Эту боль . . . нужно переждать.
Глупая, ты ведь знаешь, как я люблю тебя.
Ты ведь знаешь, навечно, навсегда.
Ты — первая и последняя, поселившаяся в моём сердце.
Ты знаешь?
Почему же говоришь всё это?
Почему?
Ты та, кто унимает мою боль, та, кто исцеляет и залечивает раны, но в один миг всё меняется. Ты та, кто медленно убивает меня словами, не имеющими какого-либо смысла. Однако эмоции и разгорячённые чувства, словно вихрившийся песок в накалённом воздухе, оседают. Лёгкой волной накатывает спокойствие на ночь. Ты узнал каким-то образом, что уже глубокая ночь. Джун вновь обнимает, потому что вспылил, потому что почувствовал себя виноватым. Не смог удержать порыв, вырывающийся из сильной хватки. У неё беспокойный сон, вылетают невнятные фразы, слишком горячий лоб, а вода в алюминиевой миске нагрелась. Жмётся к холодной стене, обнимает крепче и прикрывает глаза. Поспать бы . . . совсем немного. Здесь ничего не было. Лишь твоё неспокойствие и моё чувство вины. Лишь крепкие объятья и поцелуи в лоб. Все спали, а я крутил свои слова в голове, будто пластинка заела, шипит, хрипит, вторит всё, что выбросил в воздух. Все те слова, горячие слишком. Ты тоже меня прости, я не могу контролировать себя. Я . . . я просто не могу. Её тихий голос будоражит, он возвращается в реальность, будто сам очнулся от тревожного, но крепкого, уносящего далеко, сна. Опускает голову, проводит ладонью по тёплой, уже остывшей щеке. Доктор не находил себе места, испробовав все способы и методы, вкалывая допустимые дозы медикаментов. Ты сможешь продержаться три дня, ведь так? Правда, когда вводили иглу под твою нежную, тонкую кожу, меня передёргивало, трясло, как нападение лихорадки. Мне уже кажется, я чувствую всё что и ты, мы соединены воедино. Я всё чувствую. Даже твою боль.
– Ты вернулась ко мне? Милая . . . вернулась? Я готов ждать тебя, сколько потребуется, главное возвращайся. Всегда возвращайся ко мне, несмотря ни на что, – мягко и плавно течёт шепот из уст, а над землёй, кажется, расцветает золотистое утро. Он храбро усмехается всем опасностям и утихшей болезни, оставляя позади все а вдруг, а если, все сомнения. Он целует остывшую руку, потому что, если спасутся — только вместе. Только вместе. Лишившись воздуха, любое живое существо задохнётся, погибнет. Он тоже. Если последний день вместе, последний день вместе дышим, позволь прикоснуться, обнять, поцеловать. Только так я хочу отпустить этот последний день. Только так.
Джунки снова стоит, выпрямляя спину, перед лицом смерти в человеческом облике. Отдаёт то, что должен был принести, выкрасть, пойдя против всех своих незыблемых принципов. Довольная, но гадкая ухмылка на тёмном лице, а в руках звенят ключи не_настоящие. Три дня. . . три дня . . . узнают ли?
– На этом, моё использование закончено? – наглая усмешка, бровь выгибается. Продолжай дерзить.
– Не время избавляться от тебя, с о л д а т. Наша миссия ещё не началась и для тебя есть работа. Ты бы мог стать одним из нас, что думаешь?
– Я бы хотел вернуться домой, – покажи своё желание жить. – Жить в пустыне, так себе перспектива, не находите?
– Увы, ты слишком много видел и знаешь.
– Так что же мне остаётся?
– Лишиться головы или пойти с нами, для победы нам нужно больше людей.
– Точно сбежавшие со страниц истории, – говоря на родном языке, ухмыляется ещё больше. – Что вы собираетесь делать с остальными? Сколько ещё . . . будете угрожать и шантажировать власть? Что вам нужно?
– Повиновение, ведь мы почти у власти, а остальное не твоего ума дело, мальчишка, но твоих ребят я хочу занять кое-чем.
– Пустите! Отпустите меня, звери! Изверги!
За дверью звенит тонкий, очень мягкий, почти детский голос. Однако нет в нём того пылкого желания обрести свободу, нет скрытой мольбы, будто на сцену вышла весьма неталантливая актриса. Из дверного проёма вливается свет керосиновых ламп и каких-то фонарей, а в их рассеянном свете — девушка, вся белая, точно приведение. Выждав минуту, когда хлопнут сбитые доски, когда шаги отдалятся и загремят где-то далеко, срывается, кидаясь на шею доктора.
– Я нашла вас! Наконец-то нашла.
Душит в тисках, пребывая в облике совершенного спокойствия, словно белесому приведению уже не страшны человеческие страдания. Джун крепче обнимает Гё за плечо, отводит взгляд — кто-то здесь ещё влюблён. Ползёт слабая улыбка, насмешка над этим великим чувством, распускающим свои душистые лепестки в любое время года. Даже во время войны цветут цветы. А сейчас лето? Скорее, беспощадная, серая зима. Холодные, тёмные стены, морозный ветер слов и угроз, норовящий снести с ног, и снежное покрывало болезни. Иногда холодно, иногда в сердце зима, а цветы пышно расцветают, а их дыхание тёплое и равномерное.
– Сейчас утро, примерно десять часов, – полушёпотом, наклоняя голову к её лицу. Мельком смотрит на развернувшуюся картину в расстоянии одного метра. Прислушивается к голосу, ловит взгляд, острый и бойкий — азиатский.
– Как же далеко вы забрались, доктор Джонсон. Решили сбежать от меня? Потому что слишком громкая? Я ведь говорила, пойду даже в ад за вами!
А доктор не шевелится, пораженный тем же ядом что и солдат рядом. Тот же яд, когда начинаешь боятся за свою жизнь, потому что она — твоя жизнь.
– Не плачьте доктор, я бы всё равно не смогла жить там, за стенами. Это все ваши друзья? Вы же такой дружелюбный.
Заинтересованно любуется Джуном и Гё, а он кидает опасливый, слегка подозрительный взгляд.
– Она больна?
– Вовсе нет!
– У меня есть лекарства.
Светлая улыбка, такая же светлая как белоснежная одежда, сворованная у какой-то женщины-мусульманки, определённо. Эта девчонка выглядит взросло и кажется ребёнком одновременно, источает много загадочности и вызывает много вопросов. Из лёгких, молочных волн руки ловко вынимают пакетики медикаментов.
– Благо меня не обыскивали, я же девушка. Доктор, сделайте всем уколы, на всякий случай, тогда никто не заболеет.
– Откуда вы . . .
– Из Гонконга, больше не спрашивайте.
Мягко отрезает, хлопает чёрными, кошачьими глазками и вручает всю свою добычу всё ещё завороженному доктору.
– П-п-омогите . . . мне . . .
– Хорошо, сегодня я буду вашей медсестрой.
Смотрит до сих пор опасливо, на иглу, скользнувшую под кожу. Складывает руку пополам, сжимая слегка покрасневший участок от инъекции.
– Вата . . .
– Другим же не хватит, позаботьтесь о них, – на меня не хватит, ещё немного и не хватит, ещё немного и бесполезно. Она смотрит так, словно всё понимает, смотрит, безмолвно говоря победи всех, солдат.
Дверь открывается, мужчинам в чёрном указывает на выход. Прибыл какой-то грузовик, кого как не пленных принудить к работе. Разрешают выйти всем, а после обещают принести обед. Доктор кивает, потому что больным необходим воздух. Джун помогает подняться, придерживая за плечи, совсем похудевшие.
– Ты сможешь идти? Ненадолго, – мне нужен хороший план, нужно осмотреться снаружи. На пути болтаются лампы на дряхлых верёвках, тускло освещающие дорогу. Падают какие-то доски, и он едва успевает отпрянуть, прикрывая её своей спиной. Сыпется песок, как посланник надвигающейся беды — обвала. Лишь сейчас полностью осознаёт, в какой неминуемой опасности они заточены. Разрушение старых построек с каждой песчинкой ближе. Перед глазами мелькает белое пятно, режущие глаз в темноте. Китаянка почему-то смеётся, будто школьница, сбежавшая со скучного урока. Снаружи солнце, горячий ветер, прилетевший с песочных долин. Однако в окружении заборов и проволок почти ничего не видно. Лишь открытые ворота и грузовик с ящиками. Единственный шанс увидеть солнце . . . не в последний же раз?
– Гляньте, какое бесстыдство!
Вопит девушка, падая на колени. Из пересохшего, затверделого грунта выкарабкался цветок, такой же белый, словно ангельский, сладко пахнущий, уносящий в тропические леса.
– Разве можно такой красоте цвести здесь? Среди этих безмозглых обезьянок. Я не могу позволить тебе расти дальше.
Срывает и улыбаясь, подходит к Хегё, осторожно просовывает в чуть погрубевшие волосы. Склоняет голову, любуется с довольным выражением лица.
– Так красивее, правда? Вы заслужили носить такую красоту.
А он молчит, вспоминая всё до последнего слова, что успела сказать Гё. Снова, в очередной раз, убивая себя изнутри. Он держит её за плечи даже сейчас, будет держать всегда, чтобы не дать упасть. Она, кажется, решила вернуться, кажется, решила бороться и жить. Жизнь ей идёт, жизнь к лицу, как этот душистый цветок. Жизнь и Гё неразделимы.
Ящики перетащили через два часа, однако Джунки был занят совсем другим и моментами ловил суровый взгляд наблюдателя. Отвечал равнодушием, потому что какой-то случайностью стал здесь самым свободным. Его участь немного разница с остальными. Немного. Сегодня впервые принесли что-то похожее и пахнущие едой. Сегодня дали больше воды, даже холодной. Угадывает время и так привычно обнимает её, укладывая на своё плечо. Где-то начало десятого, пора спать. Ещё немного, потерпи немного и я выведу тебя отсюда. Немного. Касается губами тёплого лба, пытаясь измерить температуру. Облегчённо выдыхает, не чувствуя того разъедающего, палящего все внутренности, жара. И объятья снова крепче, ладонь укладывает волосы неспешными движениями, тяжёлые веки опускаются. [float=right] [/float] Его сон невероятно чуткий, слух затягивает в свою ловушку любой шорох, любое посторонние движение. Полоса слепящего света в глаза — просыпается. Рядом внезапно оказывается девчонка-приведение, усаживается и хлопает по коленям. Переговариваются без слов. Осторожно, чтобы не разбудить, укладывает Гё на худенькие коленки китаянки. Благодарно кивает и уходит, забирая с собой яркий луч фонаря и тяжёлое дыхание чужих людей. Бросают новые поручения, новые приказы, а он смотрит сквозь уже равнодушно, пустыми глазами. Совершенно ничего не чувствуя, соединяясь воедино с темнотой, улетая чёрной птицей за бесконечные ограды лагеря. Под большой, круглой луной, под звёздами, рассыпанными по небу. Точно бесстыдство. Можно ли так ярко сиять, когда на земле правит жестокая несправедливость? Можно ли смотреть так равнодушно? Она никогда не узнает, он никогда не расскажет. Пусть эта ночь навечно останется под тёмным покровом, в маленьком сундучке тайн, ключ к которому потеряется в бездонной пропасти. Прошу, пусть так и будет.
[/float] Его сон невероятно чуткий, слух затягивает в свою ловушку любой шорох, любое посторонние движение. Полоса слепящего света в глаза — просыпается. Рядом внезапно оказывается девчонка-приведение, усаживается и хлопает по коленям. Переговариваются без слов. Осторожно, чтобы не разбудить, укладывает Гё на худенькие коленки китаянки. Благодарно кивает и уходит, забирая с собой яркий луч фонаря и тяжёлое дыхание чужих людей. Бросают новые поручения, новые приказы, а он смотрит сквозь уже равнодушно, пустыми глазами. Совершенно ничего не чувствуя, соединяясь воедино с темнотой, улетая чёрной птицей за бесконечные ограды лагеря. Под большой, круглой луной, под звёздами, рассыпанными по небу. Точно бесстыдство. Можно ли так ярко сиять, когда на земле правит жестокая несправедливость? Можно ли смотреть так равнодушно? Она никогда не узнает, он никогда не расскажет. Пусть эта ночь навечно останется под тёмным покровом, в маленьком сундучке тайн, ключ к которому потеряется в бездонной пропасти. Прошу, пусть так и будет.
– Завтра утром ты должен увести эту девчонку.
– Куда? Зачем?
– Её будут ждать у старого дерева акации в двух километрах от лагеря.
– Значит она первая кто . . . Погибнет.
Вернувшись ранним утром, видит спину доктора и его быстрые, неуклюжие движения. Кидается мгновенно, ударяясь коленями о твёрдый, утоптанный грунт. Ухватывается за её руку как за спасение. Снова дрожь, снова выговорить слова не может, и глаза плывут бледно-красными пятнами.
– Ч-ч-то . . . случилось?
– Ничего, просто приступ, этого не избежать в любом случае. Я сделал только что укол, должен подействовать через полчаса.
– Гё . . . – голос срывается, сиплый, изодранный и измученный, совсем тихий, не его голос. Рука трясётся, но крепче сжимает горячую ладонь. Ведь ночью у тебя не было температуры, я не мог ошибиться, не мог!
– Вам нужно уходить, вы уйдёте вместе со мной, – оборачивается и выливает с какой-то злостью, смотря на светлое, укутанное спокойствием, лицо.
– Вы идиот или прикидываетесь? – усмешка.
– Что?
– Такой шанс, а вы! . . . .
Озарение льётся словно из раскрытых небес, словно огромные, свинцовые тучи с грохотом разошлись над головой. Ты можешь увести девушку. Ты можешь.
– Скорее соображайте, времени мало, нельзя вызывать подозрений. Мисс Сон Хегё пойдёт белый цвет, а вы отвернитесь. Все мужчины, отвернитесь! Извращенцы.
– Вы уверены?
– Да, милый, я не уйду без вас, а страдания этого человека слишком обременяют.
Он отворачивается, безмолвно благодаря небеса. Если сделаешь всё правильно, сегодня её страдания закончатся. Сделай всё правильно. Правильно. Растворяется в какой-то страстной молитве, шумно выдыхая, крепче сжимая пальцы в кулак. А где-то вдали перемешиваются голоса, безумный, мягкий смех и завывания ветра свободы, отправленного иллюзией.
– Не двигайтесь, вот так, никто не узнает. Ваши глаза так сияют, очень красиво, – тонкие пальцы обматывают бледное лицо невесомой тканью. Китаянка ловко одевается в образ кореянки, умещаясь в её одежде, спутывая волосы и становясь вдруг талантливой актрисой, облекаясь в болезненный вид. Джун оборачивается неспешно, удивление наползает на лицо тихо и незаметно. Полностью белая, точно ангел. Ангел, посланный на землю, Гё. Ты останешься на земле, со мной. Иначе быть не может. Не может!
– Теперь уходите, а я полежу у стеночки, никто не будет всматриваться в моё лицо, правда же? На самом деле, от меня не избавиться так просто!
– Спасибо, – одним губами, подходя ближе, смотря какими-то глубоко опечаленными глазами. Ты вернёшься, ты поможешь им. Спасение Гё тебе важнее. Не смотря, находит руку, утонувшую в белой ткани — крепко сжимает.
– Нам нужно уходить, Гё. Ты уже не вернёшься сюда. Последний раз прошу тебя, доверься мне, не смотри по сторонам, просто иди за мной.
Снова растворяясь в подземельном мраке, проходят под песочным дождём и обвалом мелких камней. В последний раз. За ними трое с озлобленными взглядами, в плотных, чёрных платках. Вдруг понимает, что для него тоже в последний раз. Идёт на верную смерть, догадываясь о скрытых планах. Лёгкие жадно впитывают горячий воздух, кожи щекотно касаются золотистые лучи и песок, вихрящийся кругами. Вы оба должны погибнуть под тем самым деревом? Оба? Трое молчаливых монстра тянутся позади, словно сделанные из камней, и сердца их точно ненастоящие, чёрствые и закаменелые. Он держится рядом, подставляет руку, тихо спрашивает всё ли в порядке? Можешь идти? Вдали возникает раскидистое дерево и падающая тень кажется миражом после палящего солнца. Подходят ближе, утопая в песках, выбираются на более ровную и твёрдую поверхность, потрескавшуюся, где карабкаются к свету выцветшие растения. Останавливается, замирает на месте, смотря на безоблачный, голубой горизонт. Хотелось бы окунуться навечно в его безмятежность. Прошу, не смотри на это, отвернись. Тебе не нужно видеть, Гё. Это неизбежно.
Напряжение достигает наивысшей точки, когда он полностью понимает, что от обоих должны избавиться прямо сейчас. Поворачивается, хватает за тонкое запястье.
– Не оборачивайся, не смей оборачиваться, – шёпотом, но требовательно и пылко. Не оборачивайся! Он закрывает глаза, будто превращается в совершенно другое существо, лишённое человеческих чувств и всякого разума. Разомкнув их видит перед собой лишь три цели, три жертвы — должен у н и ч т о ж и т ь. Они ходят кругами, точно хищники, пристально всматривающиеся в более слабое, более жалкое животное. А его дикий, залившийся кровью, взгляд сообщает о том, что будет биться до последнего. Они наступают первыми, он уворачивается. Если не победить силой — победи умом и ловкостью. Используй момент для нападения. Резко опускается и захватывая тяжёлый песок, кидает в глаза, помогая ветру, поднимает песчаную бурю. Наносит свои отработанные и чёткие удары, выискивая смертельные точки, норовя вцепиться именно в них. Однако теряет бдительность на секунду и тяжёлое тело валит с ног, замахивается острым кончиком кинжала, блеснувшего на солнце. Кто-то чёрным пятном проскальзывает, задевая белую ткань, кто-то прыгает в самое пекло и катится по мягкому песку, вырывая холодное оружие из рук. Джун не понимает, подрывается, потому что следует чёткой программе — биться дальше. Не замечает, как спины касается другая и кутает какой-то знакомый, родной запах.
– Почему меня не позвал? Одному же не справиться, дурак.
– Заткнись. Не спускай глаз с неё, не дай им приблизиться, это самое главное.
– Так точно, капитан.
Безумная улыбка на лице друга возвращает в привычное бытие, возвращает уверенность в себе и скорой победе. Это жестокая расправа и месть за в с ё. Это три тела, лежащих под песочным покрывалом, под ярким светом, ищущим добычу. Солнце любит всё чёрное. Шумный выдох. Кто-то из троих ловко рассёк ткань, оставив на память тонкую рану по руке и Джун ухмыляется, почти не чувствуя боли. Так привычно, совсем . . . Но это кровь, и она падает тяжёлыми каплями на песок. Хун перевязывает чужим платком, сам избитый, в синяках и ссадинах.
– Мы разрабатываем план Б, я забираю Гё, а ты возвращаешься и ждёшь. Это же точно она?
– Подожди, мне нужно . . . сказать кое-что, наедине.
– Точно она. Топай, я разберусь с этими, если кто-то ещё дышит, нужно забрать на допрос.
– Это бесполезно, этой стране уже не поможешь, они у власти.
[float=left] [/float] Ветер нежно окутывает, играя со снежной тканью, теребя подол, задевая платок, спрятавший прекрасное лицо. Под раскидистой акацией прохладная тень, сладкий аромат жёлтых цветов и тяжёлые, тёмно-зелёные кроны, тянущиеся к покоробленному песку, перемешанному с глиной. Под акацией расплывается тишина, приятное, долгожданное спокойствие, уносящие в небо и пушистые облака, делимое лишь на двоих. Под акацией возникает нежнейшая любовь. Он видит лишь глаза, глаза увидевшие многое, прожившие многое. Он видит усталость, всё ещё усмехающуюся болезнь и солнечный свет, вечно живущий в ней. Ведь ты моё солнце, мои звёзды, моя луна и небо. Ты — вселенная. Моя. Она утопает во всём белом, она прекрасна даже сейчас. Она всегда прекрасна. Делая шаг вперёд, поднимает в нерешительности руку, замирает, утопая в её взгляде. Помедлив, касается белой ткани, неспешно, растягивая минуты, цепляет и открывает лицо. Срывает платок, безмолвно, лишь взгляд отражает боль и волнение, трепет и нерушимую любовь. Лишь взгляд тихо рассказывает, как устал, как радуется сейчас её освобождению. Мне нужно сказать кое-что . . . что же? Ты сгорел под солнцем, рассыпаешься песком, и горло совсем сухое. Сжигает зной и лишь она, она удерживает своими глазами от полного разрушения. Быть может, не знает, но в её руках е г о жизнь. Она — вся жизнь. Так бывает, так безумно. [float=right]
[/float] Ветер нежно окутывает, играя со снежной тканью, теребя подол, задевая платок, спрятавший прекрасное лицо. Под раскидистой акацией прохладная тень, сладкий аромат жёлтых цветов и тяжёлые, тёмно-зелёные кроны, тянущиеся к покоробленному песку, перемешанному с глиной. Под акацией расплывается тишина, приятное, долгожданное спокойствие, уносящие в небо и пушистые облака, делимое лишь на двоих. Под акацией возникает нежнейшая любовь. Он видит лишь глаза, глаза увидевшие многое, прожившие многое. Он видит усталость, всё ещё усмехающуюся болезнь и солнечный свет, вечно живущий в ней. Ведь ты моё солнце, мои звёзды, моя луна и небо. Ты — вселенная. Моя. Она утопает во всём белом, она прекрасна даже сейчас. Она всегда прекрасна. Делая шаг вперёд, поднимает в нерешительности руку, замирает, утопая в её взгляде. Помедлив, касается белой ткани, неспешно, растягивая минуты, цепляет и открывает лицо. Срывает платок, безмолвно, лишь взгляд отражает боль и волнение, трепет и нерушимую любовь. Лишь взгляд тихо рассказывает, как устал, как радуется сейчас её освобождению. Мне нужно сказать кое-что . . . что же? Ты сгорел под солнцем, рассыпаешься песком, и горло совсем сухое. Сжигает зной и лишь она, она удерживает своими глазами от полного разрушения. Быть может, не знает, но в её руках е г о жизнь. Она — вся жизнь. Так бывает, так безумно. [float=right] [/float] Оставляя всё позади, за большим деревом акации, желает забыться. Беря в горячие ладони лицо, наклоняя голову, касается пересохших губ своими, такими же засохшими. Я ничего не хочу сказать. За деревом акации, окунаясь в недолговременное спокойствие и умиротворение, он оставляет нежно-сладкий поцелуй.
[/float] Оставляя всё позади, за большим деревом акации, желает забыться. Беря в горячие ладони лицо, наклоняя голову, касается пересохших губ своими, такими же засохшими. Я ничего не хочу сказать. За деревом акации, окунаясь в недолговременное спокойствие и умиротворение, он оставляет нежно-сладкий поцелуй.
а потом так же безмолвно
уходит

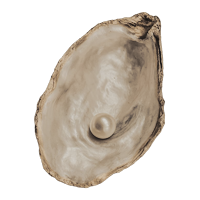

 [/float]И когда отвлекается уже совершенно, забывая проверять телефон, ветер шалит – с очередным порывом \а на открытых пространствах они всегда сильнее\ шляпа, что так надежно спасала от прямых солнечных лучей, поднимается в воздух, заставляя мгновенно забыть и о песнях и о своей ностальгии и бросить велосипеды на все той же гравийке. И она почти успевает схватить беглянку, вытягивая руку вверх, но кто-то опережает, перехватывает. Гё щурится, поднимая голову, глядя против солнца, хмурится слегка. А потом складки между бровями разглаживаются и она улыбается широко.
[/float]И когда отвлекается уже совершенно, забывая проверять телефон, ветер шалит – с очередным порывом \а на открытых пространствах они всегда сильнее\ шляпа, что так надежно спасала от прямых солнечных лучей, поднимается в воздух, заставляя мгновенно забыть и о песнях и о своей ностальгии и бросить велосипеды на все той же гравийке. И она почти успевает схватить беглянку, вытягивая руку вверх, но кто-то опережает, перехватывает. Гё щурится, поднимая голову, глядя против солнца, хмурится слегка. А потом складки между бровями разглаживаются и она улыбается широко. 
 [/float]Ты знаешь, я проиграла с самого начала. А если точнее с самого первого поцелуя, того самого, в том самом парке, который утопал в оттенках розового. Я совершенно точно проигрываю тебе каждый раз, как только ты целуешь меня, а я думаю – как я жила до встречи с тобой? Какой же бессмысленный был мир до тебя, ты знаешь? И, господи боже, как же все было просто и как же мне мало было нужно для того, чтобы быть счастливой до бабочек в животе.
[/float]Ты знаешь, я проиграла с самого начала. А если точнее с самого первого поцелуя, того самого, в том самом парке, который утопал в оттенках розового. Я совершенно точно проигрываю тебе каждый раз, как только ты целуешь меня, а я думаю – как я жила до встречи с тобой? Какой же бессмысленный был мир до тебя, ты знаешь? И, господи боже, как же все было просто и как же мне мало было нужно для того, чтобы быть счастливой до бабочек в животе.  [/float] Отдышавшись, Джунки начинает осматриваться вокруг и сплошные пески в голове раздувает ветер прояснения. Пустыня.
[/float] Отдышавшись, Джунки начинает осматриваться вокруг и сплошные пески в голове раздувает ветер прояснения. Пустыня.  [/float] Час за часом, время потерянно, время забыто и уже не способно напомнить о себе. Он идёт вперед, падает, поднимается и снова
[/float] Час за часом, время потерянно, время забыто и уже не способно напомнить о себе. Он идёт вперед, падает, поднимается и снова  [/float]Молчаливо опускается вечер, покрывая комнату мягким золотистым сиянием.
[/float]Молчаливо опускается вечер, покрывая комнату мягким золотистым сиянием.  [/float]После ей расскажут, что её лицо стало мертвенно-бледным за несколько секунд. Позже ей расскажут, что со стороны казалось, что она вот-вот и упадет в этой самой аудитории. Она всего этого не чувствовала, потому что в тот самый момент в голове царила абсолютнейшая
[/float]После ей расскажут, что её лицо стало мертвенно-бледным за несколько секунд. Позже ей расскажут, что со стороны казалось, что она вот-вот и упадет в этой самой аудитории. Она всего этого не чувствовала, потому что в тот самый момент в голове царила абсолютнейшая  [/float]Они собирают вещи, грузят их в грузовик. Последний раз меняют дислокацию, а потом нужно будет лететь домой, перед этим добравшись до аэропорта. Лететь домой ни с чем. Ужасно устала. Без_на_деж_но.
[/float]Они собирают вещи, грузят их в грузовик. Последний раз меняют дислокацию, а потом нужно будет лететь домой, перед этим добравшись до аэропорта. Лететь домой ни с чем. Ужасно устала. Без_на_деж_но.  [/float] Держа шарф в руке, протягивает загорелые руки, обнимает и крепко прижимает к себе, к быстро бьющему сердцу.
[/float] Держа шарф в руке, протягивает загорелые руки, обнимает и крепко прижимает к себе, к быстро бьющему сердцу.  [/float] – Я же обещал . . . милая, я обещал, – прижимая губы к горячей коже на шее, обнимает так же крепко. Минута, вторая, пятая . . . Время теряет свою значимость, время им неинтересно. Он забывает о времени, потому что она рядом.
[/float] – Я же обещал . . . милая, я обещал, – прижимая губы к горячей коже на шее, обнимает так же крепко. Минута, вторая, пятая . . . Время теряет свою значимость, время им неинтересно. Он забывает о времени, потому что она рядом.  [/float]— Я думала… Мне казалось… Что ты… - судорожно, не отрывая глаз, на дне которых все еще плещется боль этого чертового месяца, который, она, пожалуй, не забудет никогда. — Я люблю тебя. Я люблю тебя, ты ведь знаешь? Я. Люблю. Тебя. Я так люблю тебя. Боже, как я люблю тебя. – выдыхает, чувствуя, как что-то горячее течет по щеке. Одинокая слеза, которая, наконец, смогла прорваться. И Гё снова замолкает.
[/float]— Я думала… Мне казалось… Что ты… - судорожно, не отрывая глаз, на дне которых все еще плещется боль этого чертового месяца, который, она, пожалуй, не забудет никогда. — Я люблю тебя. Я люблю тебя, ты ведь знаешь? Я. Люблю. Тебя. Я так люблю тебя. Боже, как я люблю тебя. – выдыхает, чувствуя, как что-то горячее течет по щеке. Одинокая слеза, которая, наконец, смогла прорваться. И Гё снова замолкает.  [/float]— Интересно, долго еще… - Тэ шепчет себе под нос, но Гё улавливает смысл. Эти люди, лиц которых не разглядеть, лица которых спрятаны под черные платки, намерения которых не понятны, вроде бы не слышат. Или дают поблажку. Гё все еще смотрит в спину Джуну. — Пить хочется…
[/float]— Интересно, долго еще… - Тэ шепчет себе под нос, но Гё улавливает смысл. Эти люди, лиц которых не разглядеть, лица которых спрятаны под черные платки, намерения которых не понятны, вроде бы не слышат. Или дают поблажку. Гё все еще смотрит в спину Джуну. — Пить хочется… 

 [/float]Непонятные очертания домов в каком-то густом и плотном тумане из которого они вырастают. Вроде бы похожи на небоскребы, но не пусанские, а предположительно американские \говорят, когда нам совсем тяжело мы возвращаемся в детство\. И вокруг вроде бы очень много людей, слышно, как объявляют уходящие рейсы, почему-то в довершении слышен звук стука колес о рельсы. Это аэропорт или вокзал? Она не помнит, чтобы где-то такое видела. Опускает глаза на свои ноги. Синие сандалии, те самые, которые купили перед самой первой поездкой в Америку. Чувствует, как чья-то рука мозолистая слегка, загорелая, сжимает её детскую ладошку в своей. Поднимает голову, приходится задрать очень высоко. Туман скрывает лицо, но голос, который говорит «не глазеть по сторонам, а то потеряешься» знакомый.
[/float]Непонятные очертания домов в каком-то густом и плотном тумане из которого они вырастают. Вроде бы похожи на небоскребы, но не пусанские, а предположительно американские \говорят, когда нам совсем тяжело мы возвращаемся в детство\. И вокруг вроде бы очень много людей, слышно, как объявляют уходящие рейсы, почему-то в довершении слышен звук стука колес о рельсы. Это аэропорт или вокзал? Она не помнит, чтобы где-то такое видела. Опускает глаза на свои ноги. Синие сандалии, те самые, которые купили перед самой первой поездкой в Америку. Чувствует, как чья-то рука мозолистая слегка, загорелая, сжимает её детскую ладошку в своей. Поднимает голову, приходится задрать очень высоко. Туман скрывает лицо, но голос, который говорит «не глазеть по сторонам, а то потеряешься» знакомый.  [/float] – Гё . . . – пальцами по щеке, прикасается ладонью, а потом сокращает расстояние и касается губами лба. Горячий.
[/float] – Гё . . . – пальцами по щеке, прикасается ладонью, а потом сокращает расстояние и касается губами лба. Горячий.  [/float] – Теперь я вижу лицо мятежника, безжалостное, жаждущее кровавой расправы и мести, – вспыхивает раздражение на лице повстанца, потому что каждая мелочь задевает за свежие раны, за самолюбие и своевольство тех, у кого нет на это права. – На английском или . . . – дуло пистолета к виску — усмешка. – . . . останешься без головы, и все твои друзья. Я даю тебе сутки, не успеешь - твоя женщина умрёт. Окажешься в сговоре с американцами - твоя женщина будет умирать долго и мучительно.
[/float] – Теперь я вижу лицо мятежника, безжалостное, жаждущее кровавой расправы и мести, – вспыхивает раздражение на лице повстанца, потому что каждая мелочь задевает за свежие раны, за самолюбие и своевольство тех, у кого нет на это права. – На английском или . . . – дуло пистолета к виску — усмешка. – . . . останешься без головы, и все твои друзья. Я даю тебе сутки, не успеешь - твоя женщина умрёт. Окажешься в сговоре с американцами - твоя женщина будет умирать долго и мучительно.  [/float] База ООН не защищена высокими стенами, не спрятана в заброшенные шахты — здесь каждый кусочек территории охраняют хорошо вооруженные солдаты. Теперь он тоже один из чёрных с маской по самые глаза, теперь он выступает против своих же. Однако точно знает ради чего. Не сомневается, не балансирует между вариантами, выискивая более щадящий — времени катастрофически не достаёт. Время вновь вырывается вперёд и затевает злые игры. Он ненавидит время, не желающие остановиться. Шаг вперёд — ветер волнует песочные волны и заметает следы. Заходит сзади, перепрыгивая через ограждение, прячась между стенами из ящиков и коробок, вероятно, с гуманитарной помощью. Перекошенное, глиняное здание является главным центром, а различные палатки и временные амбары — склады. Ему нужна лишь одна вещь и минимум столкновений с военными, минимум шума. Это напоминает комнату с тонкими, почти незаметными лазерами — одно неверное движение, и ты мёртв. Джун наступает на 'мину', перед ним возникает чёрна фигура с закрытым лицом. Почему? Словно мутирует, превращаясь в машину, запрограммированную отбиваться и двигаться к своей цели, несмотря ни на что. [float=right]
[/float] База ООН не защищена высокими стенами, не спрятана в заброшенные шахты — здесь каждый кусочек территории охраняют хорошо вооруженные солдаты. Теперь он тоже один из чёрных с маской по самые глаза, теперь он выступает против своих же. Однако точно знает ради чего. Не сомневается, не балансирует между вариантами, выискивая более щадящий — времени катастрофически не достаёт. Время вновь вырывается вперёд и затевает злые игры. Он ненавидит время, не желающие остановиться. Шаг вперёд — ветер волнует песочные волны и заметает следы. Заходит сзади, перепрыгивая через ограждение, прячась между стенами из ящиков и коробок, вероятно, с гуманитарной помощью. Перекошенное, глиняное здание является главным центром, а различные палатки и временные амбары — склады. Ему нужна лишь одна вещь и минимум столкновений с военными, минимум шума. Это напоминает комнату с тонкими, почти незаметными лазерами — одно неверное движение, и ты мёртв. Джун наступает на 'мину', перед ним возникает чёрна фигура с закрытым лицом. Почему? Словно мутирует, превращаясь в машину, запрограммированную отбиваться и двигаться к своей цели, несмотря ни на что. [float=right] [/float] Срывается с места первым, и временный противник ловко наклоняется, избегая удара. Снова и снова, извивается змеёй, пока неизвестный отчаянно направляет удары в воздух. Сила, окружившая этого человека, не даёт ударить, отбивается прежде чем тот увернётся. И когда получается ухватить обе руки, совершает какой-то замысловатый пируэт, ненавистно смотрит в тёмные глаза. Безмолвное
[/float] Срывается с места первым, и временный противник ловко наклоняется, избегая удара. Снова и снова, извивается змеёй, пока неизвестный отчаянно направляет удары в воздух. Сила, окружившая этого человека, не даёт ударить, отбивается прежде чем тот увернётся. И когда получается ухватить обе руки, совершает какой-то замысловатый пируэт, ненавистно смотрит в тёмные глаза. Безмолвное  [/float]— Вы кто? – голос полон подозрений, Тэ Хи крепче сжимает руку подруги, хмурится.
[/float]— Вы кто? – голос полон подозрений, Тэ Хи крепче сжимает руку подруги, хмурится.  [/float] Гё усмехается, реагирует как может и насколько позволяют силы, потому что стараются. Все вокруг так стараются. А она читает в глубине чужих глаз точно такой же страх, безысходность, опасения. Все люди сильные, все люди прекрасные. Собравшиеся здесь и не знающие – увидят солнце, которое готовы были возненавидеть несколько дней назад или нет.
[/float] Гё усмехается, реагирует как может и насколько позволяют силы, потому что стараются. Все вокруг так стараются. А она читает в глубине чужих глаз точно такой же страх, безысходность, опасения. Все люди сильные, все люди прекрасные. Собравшиеся здесь и не знающие – увидят солнце, которое готовы были возненавидеть несколько дней назад или нет.  [/float]На какой-то краткий миг показалось, что стало лучше. Правда. Кажется, даже температура немного упала, дав спокойно вздохнуть и в кои то веки не снились кошмары. Может быть это вакцина, а может быть просто он был рядом, просто рядом. А больше уже и не надо, никогда не было нужно. Вытягиваешь ноги, которые до этого постоянно подгибала под себя, сжимаясь в какой-то комок. Смотришь сверху вниз, как обычно, как всегда бывало, когда валяешься вверх ногами на диване. С детства любила лежать на чьих-то коленях. Сначала отцовских. Теперь его. Рука все еще слабая поднимается, а потом останавливается в нерешительности и падает обратно на землю, потому что не может пересилить себя, потому что вот это – страшно. Смотрит внимательно, говорит негромко обо всем, пропуская нежелательные подробности и спрашивает о том: «А как тебе удалось?». И в упор, глаза в глаза пытается не замечать ответа на свой вопрос и верит, кивая головой. Верит любой выдумке, потому что не хочет, не хочет давить на больное. И пока есть силы и время, которое, к слову, очень жалкое и ничтожное, хочется говорить, говорить без остановки. Пока все не вернулось.
[/float]На какой-то краткий миг показалось, что стало лучше. Правда. Кажется, даже температура немного упала, дав спокойно вздохнуть и в кои то веки не снились кошмары. Может быть это вакцина, а может быть просто он был рядом, просто рядом. А больше уже и не надо, никогда не было нужно. Вытягиваешь ноги, которые до этого постоянно подгибала под себя, сжимаясь в какой-то комок. Смотришь сверху вниз, как обычно, как всегда бывало, когда валяешься вверх ногами на диване. С детства любила лежать на чьих-то коленях. Сначала отцовских. Теперь его. Рука все еще слабая поднимается, а потом останавливается в нерешительности и падает обратно на землю, потому что не может пересилить себя, потому что вот это – страшно. Смотрит внимательно, говорит негромко обо всем, пропуская нежелательные подробности и спрашивает о том: «А как тебе удалось?». И в упор, глаза в глаза пытается не замечать ответа на свой вопрос и верит, кивая головой. Верит любой выдумке, потому что не хочет, не хочет давить на больное. И пока есть силы и время, которое, к слову, очень жалкое и ничтожное, хочется говорить, говорить без остановки. Пока все не вернулось.  [/float]Забываешься по-настоящему, опять и опять. Твоя жизнь превратилась в круговорот однообразных событий, где одно похоже на другое. Так и с ума сойти можно. И кто-то трясет за плечо испуганно.
[/float]Забываешься по-настоящему, опять и опять. Твоя жизнь превратилась в круговорот однообразных событий, где одно похоже на другое. Так и с ума сойти можно. И кто-то трясет за плечо испуганно.  [/float]— Хватит уже… - разглядывая остатки крови на рукаве и умудряясь приподняться. — Пора остановиться уже. Стоп.
[/float]— Хватит уже… - разглядывая остатки крови на рукаве и умудряясь приподняться. — Пора остановиться уже. Стоп.  [/float]В фильмах и книгах любят повторять, что за секунды до смерти вся ваша жизнь проноситься перед глазами. Но это не так. Вы видите не всю жизнь, а только те вещи, которые вам дороги.
[/float]В фильмах и книгах любят повторять, что за секунды до смерти вся ваша жизнь проноситься перед глазами. Но это не так. Вы видите не всю жизнь, а только те вещи, которые вам дороги. [/float] Его сон невероятно чуткий, слух затягивает в свою ловушку любой шорох, любое посторонние движение. Полоса слепящего света в глаза — просыпается. Рядом внезапно оказывается девчонка-приведение, усаживается и хлопает по коленям. Переговариваются без слов. Осторожно, чтобы не разбудить, укладывает Гё на худенькие коленки китаянки. Благодарно кивает и уходит, забирая с собой яркий луч фонаря и тяжёлое дыхание
[/float] Его сон невероятно чуткий, слух затягивает в свою ловушку любой шорох, любое посторонние движение. Полоса слепящего света в глаза — просыпается. Рядом внезапно оказывается девчонка-приведение, усаживается и хлопает по коленям. Переговариваются без слов. Осторожно, чтобы не разбудить, укладывает Гё на худенькие коленки китаянки. Благодарно кивает и уходит, забирая с собой яркий луч фонаря и тяжёлое дыхание  [/float] Ветер нежно окутывает, играя со снежной тканью, теребя подол, задевая платок, спрятавший прекрасное лицо. Под раскидистой акацией прохладная тень, сладкий аромат жёлтых цветов и тяжёлые, тёмно-зелёные кроны, тянущиеся к покоробленному песку, перемешанному с глиной. Под акацией расплывается тишина, приятное, долгожданное спокойствие, уносящие в небо и пушистые облака, делимое лишь на двоих. Под акацией возникает нежнейшая любовь. Он видит лишь глаза, глаза увидевшие многое, прожившие
[/float] Ветер нежно окутывает, играя со снежной тканью, теребя подол, задевая платок, спрятавший прекрасное лицо. Под раскидистой акацией прохладная тень, сладкий аромат жёлтых цветов и тяжёлые, тёмно-зелёные кроны, тянущиеся к покоробленному песку, перемешанному с глиной. Под акацией расплывается тишина, приятное, долгожданное спокойствие, уносящие в небо и пушистые облака, делимое лишь на двоих. Под акацией возникает нежнейшая любовь. Он видит лишь глаза, глаза увидевшие многое, прожившие  [/float] Оставляя всё позади, за большим деревом акации, желает забыться. Беря в горячие ладони лицо, наклоняя голову, касается пересохших губ своими, такими же засохшими.
[/float] Оставляя всё позади, за большим деревом акации, желает забыться. Беря в горячие ладони лицо, наклоняя голову, касается пересохших губ своими, такими же засохшими. 

 [/float]— Он вернется.
[/float]— Он вернется.  [/float]Рассветный луч пробежит по подушке, скользнет на лоб, на закрытые веки, мягко, но настойчиво напоминая, что утро. Не слышала, как приходила медсестра, не слышала, как был обход. Уснула где-то только глубокой ночью и то по какой-то чистой случайности – опустила голову на белую подушку и провалилась в очередной сон без сновидений. Ресницы дрогнут.
[/float]Рассветный луч пробежит по подушке, скользнет на лоб, на закрытые веки, мягко, но настойчиво напоминая, что утро. Не слышала, как приходила медсестра, не слышала, как был обход. Уснула где-то только глубокой ночью и то по какой-то чистой случайности – опустила голову на белую подушку и провалилась в очередной сон без сновидений. Ресницы дрогнут. 


