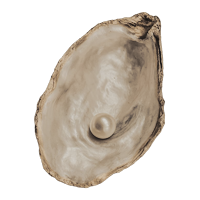***
любовь — война
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться22024-05-20 20:54:18
\\ Просто, я так легко с тобой простилась
считать минуты разучилась
Твоя любовь была, как сумерки \\
За окнами стоит непроглядная сизая хмарь, из-за которой не хочется и носа показывать наружу, вот и приходится сидеть за «тихими играми»: слушать как перешептываются фрейлины за игрой в карты, как тихо музицирует кто-нибудь в гостиной или наблюдать за тем, как легко порхает Наташина рука над пяльцами. Для Лизы страшнее пытки, нежели подобного рода «тихое» бездействие не придумаешь. И если раньше она испытывала горькую тоску из-за как ей казалось разбитого сердца, предпочитая всем дворцовым развлечениям, охотам и верховой езде чинное одиночество с книгой в руках, то теперь сердечная боль прошла [да и было ли из-за кого терпеть подобное неудобство, если подумать?] и снова хотелось ринуться в гущу событий с головой. Но, после отъезда Саши на фронт вслед за действующими войсками, наступили окончательные холода и вряд ли можно было помышлять о том, чтобы много времени проводить за стенами дворца. К тому же, после его отъезда все словно впали в какую-то тревожную спячку, словно о чем-то переживая. Лиза переживать отказывалась, потому что это значило бы, что что-то действительно идет не так, как нужно, а это было совершенной неправдой. С одной войны Саша вернулся, вернется и с этой, к тому же теперь с ним был Кирилл Андреевич, а следовательно с ним тем более все будет хорошо.
Шальная мысль о Волконском промелькнувшая в голове заставляет сердце невольно забиться чаще и это, право сказать, наверное ужасная глупость, которая может испортить их столь добрые отношения. Да вот только стоило лишь подумать о поручике, ушедшем на объявленную туркам войну вслед за братом, как волей-неволей она возвращается мысленно в один и тот же день на островок посреди озера, а глупое сердце, которому она еще после случая с Кречетовым приказала не испытывать ничего этакого [проще говоря не любить вовсе], стучало быстрее и громче в ушах и как бы не старалась она ни тогда, ни сейчас – голос его стоял в ушах, не отмахнешься. Она не могла отмахнуться от этого и тогда, пусть и пыталась по-первости вести себя как обычно [но попытки ее терпели поражение раз за разом их совместного времяпрепровождения и потерпели крах как только он поцеловал ее], считая, что так будет лучше, а любовь как она успела увериться только все портит. Но разум в этом деле оказался дурным помощником. «Дождитесь», «вернемся», «прощайте» - знакомый голос все крутится и крутится в голове, а руки все еще словно бы сохраняют теплое к ним прикосновение. И какая глупость, словно ее руки никто не целовал – целовали, целовали сотни раз графы, князья и генералы, целовали послы иностранные, целовали пылкие влюбленные и даже иностранные правители. Какой вздор, вздор, вздор, который среди прочего испортит их дружбу, ведь любовь это конечно глупость, глупость…но только почему из головы он больше не идет? Не идет все с того же острова, вот уже добрые несколько месяцев и как бы не гнала – удивительно Кирилл Андреевич оказывается упрямым и уходить из нее уже не хочет. И кажется, что она помнит слова его наизусть – столь часто она их вспоминала и столь прочны и сильны были те ростки, которые посеяли они в мятежном сердце. Ах лучше бы ему никогда этого не говорить, если бы могла она знать, что будет от них такая неожиданная смута в душе! Если б знала, что нарушает ее трагичный и печальный покой, в котором она планировала провести остаток своих дней, как героиня какой-нибудь печальной легенды или мифа, преданная своим возлюбленным. Да только мнимый возлюбленный что-то слишком быстро напрочь выпал из головы, а вместо него там зачем-то поселился Волконский со своими признаниями и Лиза никак не может решить – хорошо это или плохо. И будь у них больше времени может она бы разобралась что с этим делать, но началась треклятая война, которая все спутала [если бы могла – создала бы мир, в котором никто не воюет неймется же людям], а за то время, что было, Лиза только, увы, окончательно смутилась. Да и потом имела ли она право хоть что-то отвечать, пусть он и не ждал ответов [и в этом был весь Кирилл Андреевич, ничего не ждущий и удивляющий еще сильнее, ведь обыкновенно ответов ждут все], если так быстро забыла о вроде бы л ю б в и. Значит ли это, что несерьезна и ветрена, как говорят при дворе, а значит просто не может обнадеживать такого хорошего человека, или же…что то была не любовь вовсе? Как же право, сложно.
В довершении всего, видимо, столь плохо она скрывала свое смятение, что и другие люди вокруг начали внимание обращать – лукаво усмехалась предательница Варя, Наташа иногда бросала внимательные взгляды, Семен ходил неожиданно мрачный [впрочем в этом как раз особой экзотики не было] и все словно сговорившись ждали чего-то и знали что-то о том, о чем она сама еще не имела ни малейшего понятия.
Лиза прикрывает глаза, откладывая в сторону трактаты Александра Македонского, которые читала после трудов французских философов, но стоит ей это сделать, как перед ними неподвижная гладь озера, кряканье еще не улетевших уток, запахи надвигающейся еще только осени, а в ушах снова его голос. Голос, признающийся в любви.
_________________⸙♦⸙__________________
Лиза тоскливо оглядывает окружающую островок воду, впервые жалея о том, что место, которое она для уединения своего выбрала такое…уединенное. И не бросаться же от него, право, прочь, да и если убежит ведь непременно догонит и как потом намеревается она объясняться с Волконским из-за чего решила в догонялки поиграть. Не убежать – а следовательно остается лишь с достоинством выслушать, что решил он ей сообщить и желательно этого достоинства не потерять и после этого разговора. Что он мог ей в сущности сообщить, что так запыхался? Как он теперь станет на нее смотреть? Как он теперь на нее смотрит? Для этого надобно бы посмотреть в его лицо, но Лиза этой участи всеми силами избегает, уставляясь на лобастую голову Карая, который предатель тоже только и делает, что вертится вокруг Волконского, обрадованный появлению своего знакомого здесь. К чему он здесь, право слово? Ну не может быть такого, что решил прогуляться – как-то не по пути оказывается этот островок, именно поэтому ею и выбран, чтобы никто не думал даже сюда попасть. Придворные по большей части ленивы, никто из дам не умеет грести, да и погода уже не так располагает к водным прогулкам, а тут на тебе, получите и распишитесь – подпоручик Волконский собственной персоной. И как объяснить этой бесконечно благородной голове, что она просто не может его видеть, потому что не может вынести этого разочарования в его глазах [вероятного], показной вежливости, уверений, что «несмотря на то чему стал я свидетелем мы с вами останемся непременно добрыми друзьями» [и почему это добрые друзья в их случае кажутся чем-то фальшивым и ее не устраивают?], что представить себе какой показала себя в его глазах ей страшно, что она не хочет слышать от него всего того, что сказал бы на его месте любой из ее знакомых?
Лиза только из виду упускает, что он ни на одного из ее знакомых не похож.
Предпринимает слабую попытку отойти подальше, трусливо уйти, дав понять, что проиграла и стыдиться самой себя, а его присутствие все только усугубляет, но не тут то было: он просто ухватывает ее за руку, по которой невольно пробегает толпа мурашек – у него неожиданно горячие руки, а ее кожа холодная из-за продолжительного пребывания на осеннем воздухе. И это неожиданное, смелое действие, заставляет вскинуть глаза, заставляет удивленно смотреть на него – разгоряченного, взволнованного и бесконечно упрямого. И все это так неожиданно и держит он ее неожиданно крепко, что она теряется и выпаливает первое, что пришлось на язык, забываясь:
— А чего это вы на меня кричите? – почти возмущенно, скрывая охватившее смятение за выдуманным предлогом. Он и вправду повышает голос, словно пытаясь до нее достучаться и уже разумеется никуда не отпустит, оказываясь еще ближе к ней. Поймали – теперь уже не упорхнуть, как того может и хочется, но неужели же он удерживает ее здесь ради какой-нибудь светской беседы, неужели проделал весь этот путь и очевидно торопился только ради того, чтобы посмотреть на нее с плохо скрываемым разочарованием и уже никогда звездою не называть? Лизе приходится смотреть в его лицо, в неожиданно ясные для столь хмурого дня серые глаза, в которых с удивлением отмечает досаду, нетерпение, но уж точно не то выражение, что так боялась увидеть. И после этого осознания она уже не может отвести от него глаз.
— Откуда вы… — начинает она, а после замечает письмо, которое очевидно не выпускал из рук с того самого момента, как его прочитал. То самое письмо, которое уж точно не должно было к нему попасть, потому что она его не отправляла, не хотела отправлять и остается только гадать как оно оказалось теперь в его руках.
«Варя». Ну разумеется Варя – больше некому, больше никто так усердно не уговаривал ее это чертово письмо написать. И наверняка Варя рассказала ему, где искать Лизу, а теперь Лиза вынуждена мучиться. Настояла на своем невыносимая княжна Вяземская, а Лизе теперь становится и вовсе невыносимо, словно кто-то без спроса заглянул в комнату, в которой ты имел несчастье переодеваться. И никак уже не прикрыться от этой голой правды – вот она я, стою перед вами, столь боящаяся вашего порицания, что забываю о том, что ваше мнение не должно быть столь важно для царственной особы, да только оно важно и я сама не знаю от чего так сильно. Вот она я, называющая себя в собственном письме недостойной вашего внимания и признающая, сколь оно важно. Вот она я – как на ладони, делайте со мною что посчитаете нужным.
«Как я могу думать о вас плохо?»
Да очень просто – так подумал бы любой на вашем месте, Кирилл Андреевич. Шутка ли – сбежать абы с кем, едва ли не отдавая ему своей невинности, а потом узнать, что он тобою пользовался. И вроде бы да – виноват алчный похититель, но голову-то он вскружил именно тебе, а никому-то другому, а значит это ты оказываешься здесь совершеннейшей дурой, а кому понравится д у р а? Лизе бы дурак никогда не понравился. Но что же это за слово такое в голове промелькнуло только что? П о н р а в и т с я. Этак ты Лиза, пожалуй перегрелась, да только сильно яркого солнца что-то не наблюдается. И от чего только, чтобы подобрать правильное описание своим чувствам, решила именно это слово, совершенно здесь лишнее! И никому она более нравиться не собирается – что за вздор! До любви ли ей теперь, когда она кажется и совсем не знает, что это такое и бывает ли она на свете? Нет, нет, она просто устала, она просто смущена и надо же было Кириллу Андреевичу так внезапно появиться, чтобы она даже не имела возможности толком подумать, что же ему сказать! Да-да дело во внезапности. Вот и голова, кажется кружится.
Треуголка как-то досадливо отлетит в кусты, а ветер сразу же взъерошивает каштановые кудри. Лизе в пору подумать – не заболел ли он часом, раскидываясь головными уборами и так крепко удерживая ее за руку, словно она и вправду может уплыть от него на другой берег. А еще эти глаза…ох, эти глаза, в выражении которых она может прочитать что угодно, но вовсе не то, чего ожидала и чем больше выискивала следы разочарования и осуждения, тем скорее натыкалась на чувство совершенно противоположное, которое не спрячешь, но которого она еще не встречала. На нее не смотрели т а к. Точнее, может кто и смотрел, но она уж точно до этого самого момента не замечала. Смотрели с обожанием, как смотрят на прекрасную античную статую, с желанием заполучить столь ценный трофей, смотрели преданно, как всегда смотрели ее пажи, в конце концов со страстью и вожделением, Ваня тоже смотрел, но видимо всегда куда-то сквозь нее или же делал вид, а вот этот взгляд смущал совершенно. И не смотреть теперь на него в ответ было бы все одно, что не смотреть на солнце – оно все равно будет обжигать тебя и ты будешь чувствовать его тепло на своей коже. И поэтому она смотрела, онемевшая, растерянная и отчего-то задержавшая дыхание, словно вот-вот собирается нырнуть глубоко под воду.
«Вы безупречны».
«Самая прекрасная девушка на свете».
«Светлая, ослепительная, совершенная».
Лиза смаргивает, словно на секунду ослепла, не обращает внимание на ветер, который вдоволь наигравшись с волосами Кирилла теперь играется с ее волосами, беспечно подергивая завитые медовые пряди волос, хочет было выдохнуть, но получается только вновь судорожно вобрать в себя воздух, да так громко, что он должно быть слышал. И вид у нее, наверное, ужасно глупый. Мало ли делали ей комплиментов, так отчего же теперь от этих незамысловатых в душе и в голове все переворачивается, от чего же тогда она не дышит во все глаза глядя на него, от чего сердце, до этого бившееся так размеренно взяло и понеслось вскачь, словно никогда она не слышала ничего подобного?
Потому что их говорит он – человек, от которого ты, пожалуй не ожидала этого услышать, человек слишком серьезный и слишком правильный по сравнению с твоей неуемной и далекой от правильности душой. Потому что ожидала каких угодно слов, кроме тех, что вновь возводят тебя на божественный статус. В конце концов потому, к а к он их говорит. Иные могут сколько угодно называть ее совершеннейшей женщиной на земле и припадать к ногам, но на завтра тоже скажут еще какой симпатичной фрейлине или статс-даме, а он говорит это т а к, что невольно поверишь, что ты и правда с а м а я. И Лиза теряется совершенно, тушуется, но не отводит взгляда, а теперь наоборот – буквально впивается в его лицо, а в ушах задует ветер, застучит кровь, неожиданно приливающая до этого к мертвенно бледным щекам.
А дальше, а что же дальше скажет? Совершенно ни одной мысли в голове не осталось, кроме этой, одной-единственной, как бы не ругала она себя за это. Лиза ведь планировала стать трагичной девой, упивающуюся своим несчастьем, твердо убежденную, что любви как чувства не существует или же его приукрашивают изрядно. Но что же она, выходит, лицемерка, если даже такие слова спустя всего ничего способны заставить засомневаться? Да только об этом всем она подумает после, а сейчас остается только молча внимать его словам и не забывать все же, хотя бы периодически дышать.
«Ну зачем, зачем вы только так на меня смотрите? Зачем волновать и без того измученное сердце? Ну не смотрите так, не смотрите, не давайте мне шансов снова…обмануться, не смотрите вы своими серьезными глазами на меня так, что невозможно вздохнуть, что я теряюсь, ах, если бы вы только так не смотрели…».
Правильнее было бы сказать, что она не помнит, что спрашивала и интересовалась чем-то таким, в конце концов какое это имеет значение, но совершенно сбитая с толку, зачарованная Лиза спросит вместо этого:
— И какие? ... — и голос эхом отзовется в чужом вопросе, она лишь вторит ему и голос собственный кажется каким-то далеким, а ветер продолжит раскачивать кроны тонких берез и кленов, продолжит бессовестно дотрагиваться до волос, да только им обоим, кажется, все равно.
Какие могут ему нравится девицы [и почему это сейчас имеет для нее значения, для ее сердца, как она думала разбитого]? Сначала ей казалось, что ему на них совсем все равно. После, приглядываясь к нему и невольно совершенно примеряя к нему образ то одной фрейлины, то другой, задумывалась над тем, что это должна быть или настоящая русская что называется барышня, готовая рожать детей, слушаться мужа и находиться где-нибудь в загородном имении безвылазно, пока муж добивается одного чина за другим, или серьезная [такая же как и он], вдумчивая особа непременно с трагической судьбой, которая с удовольствием побудет дамой в беде, которую он в итоге спасет, отведет себе под венец и они подолгу будут молчать и серьезно смотреть друг на друга. Да-да, ему совсем не мог понравиться кто-то вроде Вари, но определенно подошла бы Наташа и Лиза даже грешным делом думала, что не испытывай Саша таких серьезных к ней чувств, быть может они с Кириллом и составили бы удачную пару [и горько признавать – но этому бы никто не стал мешать слишком сильно]. Оба правильные, оба спокойные, но ужасно добрые, оба до ужаса благородные. Слуги бы непременно их обманывали, они бы слыли парой безгрешной и попали бы в рай после смерти.
Себя Лиза никогда не рассматривала. Это ударяло по самолюбию, но следовало признать, что она как раз слишком уж…далека от правильного идеала, дамы в беде [разве что беды на голову навлекая постоянно], серьезной девицы, спокойной жены, которые непременно должны были нравиться Волконскому. Где уж там серьезности, когда ей и вовсе следовало родиться мужчиной, но по какой-то ошибке заключили ее природу в женские юбки и наградили милой внешностью, которой и научилась пользоваться, но которая не добавляла уважения?
Ее корабль слишком мятежен, ее корабль ищет бури, ищет шквалистых ветров, которые приведут его в невероятно прекрасные края и которые же могут натолкнуть на скалы. Слишком насмешливая, слишком громкая, слишком буйная, слишком любящая жизнь – в ней все слишком, все через край. Она совсем не Наташа, она совсем не покойная гавань, она сожжет, как солнце, пока будет обнимать. Лиза это знает, знает и поэтому пусть и верит во всеобщее восхищение, пусть и пользуется этим обожанием, но никогда не тешила себя надеждами, что кто-нибудь сможет при этом ее п р и н я т ь. Думала, что это будет Кречетов, но нет – она была ему интересна наименее всего. Думала, что вот она любовь, которой можно отдаться целиком и полностью, можно отдать всю себя – если уж сжигаешь, то и сама готова сгореть. Но никому такое пламя не нужно, не нужно, а она совершенно отказывается себя менять и корежить. Если любить наполовину и отдаваться тоже на половину – то это и не любовь вовсе.
Вот только одна фраза меняет все, заставляя захлебнуться, заставляя едва ли не сорваться с губ вопросу: «Не ослышалась ли я?». Лиза шевелит губами, но не произносит ни слова, то ли боясь спугнуть его, то ли просто не в силах сказать хоть что-то путное, совершенно оглушенная.
«Мне нравятся такие как вы».
«Совсем другая…».
И это хорошо, что он останавливается хотя бы на секунду, это хорошо, потому что она может опустить взгляд, опустить потому что нет сил. Хочется прошептать нечто вроде: «Остановитесь!», потому что больше нет сил. Это признание все одно что гром среди ясного неба, все одно что снег посреди лета. И Лиза отводит взгляд, как отводят его девушки, когда им признаются в любви – так твердит этикет, но она отводит его вовсе не потому, что он так велит или потому, что так выглядит кокетливее. Она отводит его потому, что правда смущена ужасно, смущена впервые в жизни при дворе, во времена когда смутить подобным сложно, ведь признаваться в любви к даме было чем-то вроде моды. Но это же Кирилл Андреевич. Тот самый, которого успела узнать – для таких людей как он это вовсе не мода. И за одно это хочется бесконечно восхищаться, но ей ли до восхищений, когда целый противоречивый ураган в душе поднимается.
Лиза чувствует, как пальцы касаются чужой ладони совершенно непреднамеренно, а чужой голос переходит на шепот, заставляя все же глаза поднять снова и осознать, что они теперь стоят совсем близко. Так близко, что дыхание чужое станет опалять кожу, а в голове только и останется, что его: «Моё сердце всё это время было свободным, потому что томилось в ожидании вас». Все неожиданно засверкает вокруг, словно миру прибавили красок и этот хмурый день вдруг начнет слепить глаза неожиданным сиянием. Фейерверки в голове разрываются, а за бегом сердца уже и не уследить. У нее тысяча вопросов в голове, тысяча слов, которые надобно говорить в подобной ситуации: «Мне очень лестно ваше признание», «Я крайне польщена…».
А она лишь прошепчет потрясенно не отрывая взгляда цвета лета от его, такого порою сумрачного, но теперь такого светлого:
— Так вы…признаетесь мне в любви?
Словно и сама поверить в это не может, вот и переспрашивает. Словно услышала что-то другое, что обычно в признаниях не говорят. Ване она признавалась сама, ни капли не смущаясь. Все остальные признавались в порядке моды и очереди. А тут… Смятение, потрясение такое, словно никогда такого произойти не могло, словно произошло здесь нечто совершенно неслыханное.
А как близко чужое лицо, как же близко, лбом касаешься и чувствуешь это тепло, даже жарко становится нестерпимо. И пальцы переплетаются, а она окончательно проваливается куда-то, ее окончательно что-то затапливает, мешает мыслить, мешает найти оправдание тому, что она не отталкивает, не твердит, что ей сейчас совсем не до любви, что он в конце концов ошибается, что это пройдет…может быть часть ее души предательски и не желает, чтобы это проходило так просто. Что она, в конце концов болезнь какая, чтобы проходить?
«Правда ли любите или это симпатия? Когда же вы поняли это и почему не признались раньше? Из-за Кречетова? Но братья Голицыны признаются на каждом балу ничего их не смущает. Вы любите меня или звезду, которую себе придумали? А знаете ли вы, сколь неумна моя душа? Ах да, вы как раз знаете и говорите об этом… Ну до чего же невероятным это кажется… Но почему не знаю я, что сказать, ведь на признания обычно два ответа».
Да.
Или нет.
Отпускает ее руку, а она стоит неподвижно, пробегает по лицу, выискивая любые метки, что это у него всего лишь шутка и не более, что он передумал, что не передумал, что он серьезно. В голове стучит «признался, признался, признался» и от того, что слишком потрясена, чтобы думать здраво она лишь хмурится, переспрашивая:
— Куда уеду?...
Сегодня она только и делает, что переспрашивает да задает вопросы, как совершеннейшая дурочка, но честно говоря теперь она уже ничего не понимает. Она молчит, когда следовало бы хотя бы сказать что-нибудь на прощание, прежде чем он уедет на той же лодке, на которой приплыл, она просто смотрит ему вслед не отрываясь, застывая на месте статуей, которую легонько ветерок в спину толкает и только когда Карай тыкается мордой длинной в ладонь, а лодка с подпоручиком оказывается на противоположном берегу Лиза словно просыпается ото сна, опускается на землю, будто почувствовав слабость неожиданно.
«Свободные и красивые душой, мечтающие о дальних плаваньях на кораблях, стреляющие из ружья получше любого охотника, сидящие в седле так уверенно…».
«…и вы привлекли его...».
«Я смотрю на вас и вижу самую прекрасную девушку на свете…»
Его голос – этот серьезный, но в тот момент такой неожиданно теплый и умоляющий ему поверить голос стоит в ушах, заглушая окружающий мир полностью.
— Боже и что мне с этим делать… — Лиза прикладывает обе руки к щекам до ужаса пылающим, пытаясь их остудить и запоздало думая о том насколько же они должно быть покраснели. Интересно он заметил или нет? Решил, что она дурочка, которой в любви никогда не признавались. Нет, боже, какой вздор, никогда он так больше не подумает, она ему нравится, нравится, нравится!
И Лиза неожиданно улыбается, впервые за все это время, улыбается, прыснет неожиданно коротко, совершенно уже собой не владея.
— И что это я? – прерывая такого рода смешки, почти строго обращается к самой себе, вновь поднимая глаза и наблюдая за противоположным берегом, где его уже и не видно. — Лиза, Лиза, глупая Лиза, может быть он вовсе и не в любви признавался, а так… — уговаривает она саму себя, пытаясь сохранить остатки разума. Может таким образом он просто говорил о том, что намеревается и дальше поддерживать дружбы. Ведь он, в конце концов просто уплыл, он не стал ждать пока она ответит, словно ему и не нужно это было, он не стал требовать от нее ничего взаимного. И да, это конечно хорошо – она бы все равно ничего ответить не смогла. Ей бы дышать-то заново начать, ноги до сих пор плохо слушаются.
«…самую светлую, ослепительную, и совершенную…».
«Мне бы хотелось время остановить, чтобы вас не терять…».
«Моё сердце всё это время было свободным, потому что томилось в ожидании вас…».
Лиза, в своих попытках обернуть это все лишь дружеской симпатией не замечает, как возвращается к этому разговору снова и снова, как вспоминает его фразы и главное – как снова улыбается невольно-мечтательно, как улыбалась бы любая девушка, которой взяли и признались в любви, да не абы кто, а почти прекрасный принц или как минимум благородный рыцарь. Она еще какое-то время этой улыбки не замечает, сидя на траве и безотрывно глядя на водную гладь, прежде чем таки подняться на ноги, заставляя себя перебраться таки на лодку, перебравшись на другой берег.
В тот же день, вечером, она оставит коротенькую запись в дневнике, который вела время от времени:
Любит?...
Любит.
Л ю б л ю?...
— Лиза? Елизавета? Елизавета Петровна!
Лиза вздрагивает, словно приходя в себя после забытья, озирается по сторонам. Заснула ли она или наяву грезила? За окнами все та же бесконечная хмарь – над Петербургом зависают густые туманы, благодаря которым сталкиваются беспрестанно экипажи, а в носу непременно свербит, вокруг все те же дворцовые стены с причудливой лепниной, амурами и нимфами на плафонах, кажется с того момента, как забылась не прошло и нескольких минут. Или наоборот – несколько часов она так просидела, снова провалившись в стоит признаться приятные воспоминания. Увидела бы матушка – непременно бы приняла ее глупый вид к сведению, от императрицы уже не отмахнешься так легко, как от Вари. Но с отъезда Саши, с начала новой военной компании, материнская мигрень только усиливалась к вечеру, поэтому на вечерние пусть даже тихие развлечения она теперь спускалась меньше, оставляя их на Наташу, как на императрицу действующую [уж не понятно – выказывая таким образом доверие или желая произвести той очередной экзамен].
Лиза встречается с Наташиным вопросительным взглядом и остается гадать только сколько уже она так ее зовет, внимательно разглядывая Лизино лицо. На ее коленях незаконченная вышивка, наполовину заполненные тонкими золотыми нитями купола соборов – вышивать Наталья Алексеевна и вправду умела по-всякому. Карай, мирно дремавший на коленях Лизы вздрагивает, как только Лиза подскакивает, подскакивает впрочем слишком резко, направляясь к Наташе, так и не дочитав несчастные труды по военной стратегии знаменитого полководца, проклиная про себя свою мечтательность. Не хватало теперь давать лишних поводов для того, чтобы в очередной раз словить какой-то ужасно понимающий взгляд от нее, которых в последнее время и так было достаточно. Такое чувство, словно отныне любая ее случайная улыбка, любой задумчивый взгляд, любая слишком затянувшаяся пауза свидетельствовала о том, что сердце ее отныне только и делает, что бьется ради одного-единственного человека. Ну и пусть, что в основном замолкая, засыпая, задумываясь она и вправду возвращалась мысленно к человеку, который все в голове перепутал и уехал! Но не всегда ведь и потом, только она, только Лиза, право имеет что-то там про себя понимать. Так странно теперь было быть на месте Наташи – ведь раньше с таким же лукавым пониманием смотрела она на нее. Разве что Наташе хватало такта намекать на это гораздо тоньше. Теперь ведь и улыбнуться нельзя просто для самой себя, вспомнив удачную шутку или подумав про лимонное пирожное или зефир, чтобы кто-нибудь из посвященных непременно не бросил бы своего лукавого взгляда. И возможно, этого бы и избежать вышло, да только не так много времени прошло с тех самых пор, как на подмостках дворцового театра он п о ц е л о в а л ее и был это уже вовсе не невинный поцелуй в лабиринте, какие обычно раздаривают направо и налево, о нет – это был настоящий поцелуй, который даже и не прикроешь предлогом актерской игры. И вот этот поцелуй, совершенно неожиданно сорванный с губ, лишивший возможности объясниться, да что там – лишивший возможности д ы ш а т ь окончательно спутал ей карты, окончательно был ее поражением в битве с самой собой и окончательно утвердил Волконского в титуле короля ее мыслей. Стоит глаза закрыть и вот тебе, пожалуйста: они стоят на сцене в окружении декораций, других актеров, публики, которая это все видит, а она стоит неподвижно, снова пораженно-оглушенная, пока чужие губы прикасаются к ее губам, пока этот поцелуй сводит с ума. И так странно – он ведь как и признание, тоже ураган, она даже не успела толком ничего подумать, ничего сообразить, просто потерялась, с неожиданно ослабшими ногами, вынужденная хвататься за чужие плечи и, о, ужас!, забываясь в поцелуе, которого не должно было случиться совершенно, отвечает на него.
А потом Кирилл Андреевич ускакал на войну и как же это, право, просто – признаться в любви, занять все мысли, заставлять после этого забываться от каждого слова, в конце концов поцеловать, а после уехать на войну, где непременно сложить голову на алтарь победы, а ей оставайся здесь и гадай что же это все значит! Как удобно!
Лиза, опускается рядом с Наташей и сама не понимает – скучает она или просто злится на друга [друга ли?], который такое с ней сотворил. По прошествии некоторого времени, Лиза начала сомневаться в том, что понимает все верное. Вот, к примеру, признание – вдруг это не признание было вовсе, ведь после таких признаний непременно хотя бы намекнешь на то, что ждешь ответа. Или поцелуй (все то у Волконского туманно) – целовал ли Кирилл Лизу или это Бенедикт целовал свою Беатриче. Господь Всемогущий – ну от чего теперь так сложно? И во всем, надо признаться виноват один Кирилл Андреевич, совершенно точно. Хотела бы она сказать ему, что если он только попробует не вернуться, она его из-под земли достанет, но теперь уж дознается в точности и запретит ему так играть с девичьим сердцем! Определенно!
Уверившись в своих грозных мыслях относительно участи дальнейшей поручика, Лиза обращается к Наташе, некоторое время уже разглядывающей ее лицо:
— Так что ты спрашивала, Наташа?
Да, поцелуй не заметить было нельзя, пусть из вежливости, они и принимали его за театральный.
Наташу в пору называть Ваше Величество, как жену императора в конце концов, но Лизе это слишком непривычно и она оставляет это на долю придворных дам, фрейлин, да сенаторов, да и Наталье Алексеевне сие, кажется, до сих пор не привычно, но виду она теперь не показывает. Наташенька вообще, кажется, создана была, чтобы быть императрицей – выдержанной, серьезной, вдумчивой. Не бешеному же «гвардейцу в юбке» ею становиться, а? Лиза исподтишка разглядывает красивый профиль Наташи и снова думает о том, что именно ей следовало говорить все то, что услышала от Кирилла она. Но только нет, нет, нет – все это принадлежало Лизе, одной Лизе, а это было ужасно поразительно!
— …говорила о том, что собираюсь написать Его Императорскому Величеству письмо… — Наташа видимо снова замечает, что ее никто не слушает и качает головой. — Право, Лиза, я не видела тебя такой задумчивой с тех самых пор, как господин Шварц задал тебе ту невозможную задачку, а покойный император заявил, что пока ее не решишь не возьмет тебя на морскую прогулку. Правда тогда ты не улыбалась так мило.
Лиза, которая видимо вновь совершенно за губами своими не следит, вздрагивает, притворно хмурит брови, мысленно отругав себя за такие глупости, которым смеет придаваться. Черт его знает насколько глупое у нее оказалось лицо. Откашляется и передернет плечами, приподнимая подбородок.
— Не понимаю о чем вы толкуете, Ваше Величество. Это вам все показалось, а я просто задремала наверное со скуки! Стану я улыбаться просто так! А-ха-ха!
Но это ее «ахаха» в конце выдало ее как раз с головой настолько вышло оно фальшивым и она выругивается на себя мысленно такими словами, которых приличная девица и знать никак не должна. Ругает она, впрочем, и Кирилла, который где-то там, в походе непременно должен умереть если не от ранений, то от икоты. Уж слишком часто она его поминает. Черт бы его побрал, если уж честно! Это ему в пору так себя вести, а не ей – будто впервые кто-то клянется ей в вечной любви, а этот ведь даже и не обещал ничего вечного, просто сказал не игнорировать его, а потом ускакал на войну, но разумеется обещал вернуться! А просил ли он себя ждать? Не просил. Вот и не будет!
Какая ложь, да ты только и делаешь, что его ждешь, чтобы…просто увидеть его еще раз. Ну и черт с ним!
Наташу Лизин спектакль тоже видимо не особенно убедил и она осталась при своем мнении, с едва заметной улыбкой разглядывая Лизино раскрасневшееся лицо, но не желая очевидно с ней спорить и смущать еще сильнее, за что Лиза была как всегда чуткой Наташе благодарна.
— Так вот, я хотела написать письмо Его Вели…
— Наташа, неужели ты его всю жизнь теперь после свадьбы станешь звать не иначе как «Ваше Императорское Величество»? — прерывает ее Лиза, откидываясь на мягкую спинку большого дивана, к окну приставленного. Зашуршит платье. — Это же как долго выходит, а уж в постели…
— А ты своего Кирилла еще долго будешь называть по имени и отчеству? – совершенно безжалостно на этот раз парирует Наташа, неожиданно становясь лицом до того суровой, что спорить с ней как-то не хочется и приходится язык прикусить. Да, никогда ей не нравилось, когда смущают ее подобным образом. И в такие минуты Наташа становится совершенно невозможной, почти жестокой. — Или дашь мне закончить?
Лиза осекается, хмурится, так и смотрят обе друг на друга нахмурив брови, но ясное же дело, кто выйдет победителем.
— Никакой он не мой… — бурчит Лиза, признавая свое безоговорочное поражение одним своим смущением.
— А я отчего-то склонна думать, что твой, — смягчаясь возражает Наташа, заставляя вскинуть глаза и спокойно встречает вспыхнувшие зеленые уголья в ответ. Лиза, впрочем, поспешно вспыхнувший взгляд отводит, не желая более показывать собственное смятение – каждый раз, когда она его испытывала казалось Лизе, что превращается она в совершеннейшую дуру. Ведь обычно именно она всегда находила, что ответить. — Как бы там ни было, я планирую написать письмо и хотела узнать, не хочешь ли что-то написать тоже, чтобы отправить с посыльным на завтра?
Лиза пожимает плечами, повертит в пальцах задумчиво брошку с изумрудами, которая до этого оказывалась приколота к платью. Цветы бриллиантовые отзовутся на движение – в этом и была хитрость этой вещицы, заказанной отцом у известного ювелира к ее 17 дню рождения: благодаря технологии установки камней нежные цветы откликаются на каждое движение. И не хорошо вроде бы – с началом войны дамы отказывались надевать яркие наряды и броские украшения, проявляя таким образом солидарность. Но право же, как это войне поможет непонятно, а вот унылую и безвкусную атмосферу отлично поддерживает. Если бы на время двадцатилетней войны со шведами все дамы поголовно так одевались, то пожалуй все бы сошли с ума. Вот и Лиза не могла себе отказать в своей слабости касаемо нарядов и украшений, которые нет-нет, но надевала. В конце концов что за траур, словно они уже войну проиграли. К тому же до чего же красиво эти изумруды сочетались с глазами… Матушка брошь увидела на прогулке и сказала все же снять, но Лиза если и сняла, то вечером надела снова.
— Нет, уволь Саше, я не буду писать, да и тебе не то чтобы советовала бы, — пожимает плечами, прикалывая брошку обратно к платью. — Разве не знаешь, как он отвечает на письма, если они не принадлежат какому-нибудь иностранному канцлеру или императору? Ты напишешь ему подробнейшее письмо, задашь вопросы, а он? «Да, я здоров, вернусь тогда, не знаю когда, привезу то, не знаю что, а вообще погода хорошая не солнечная и не дождливая, но ты не болей, милый друг, оревуар-репертуар!».
Наташа не выдерживает, прыснет в кулак, но мгновенно берет себя в руки – парочка фрейлин обернется на их угол и ей приходится себя в руках держать, Лиза такого удовольствия им не доставляет, а Наташе приходится. И все же веселые синие искорки останутся гореть в ее глазах. Определенно, Лиза права и Наташа это знает – Саша в случае писем неисправимый сухарь. Совсем иное дело, когда говоришь с ним лично – тогда он становится прекрасным собеседником, который обо всем на свете готов говорить без умолку и разбавит даже самую унылую беседу, превратив ее в оживленную. Но что касается переписок, если она не дипломатическая, когда можно использовать известные канцеляризмы – из него слова приходится выжимать. Редко его письма занимали больше одной страницы размашистого, но все равно красивого почерка и были до нельзя конкретны.
— И все же я рискну, мне несколько не спокойно… — Лизе покажется или набежит тень на Наташино лицо, пусть она и пытается это скрыть. И только теперь заметит Лиза как удивительно-исколоты иглой пальцы Наташи. И это странно – она вышивала без наперстка и вышивала прекрасно, иногда даже казалось, что не смотрела, вышивая сложные узоры в слепую, а теперь пальцы исколоты так, как обыкновенно бывали у Лизы, которая бралась за пяльцы разве что в период сильного отчаянья и скуки. Словно что-то не давало ей покоя, словно мыслями она была вовсе не здесь. — Просто, я бы предпочла, чтобы он остался здесь, никуда не ехал. С ним в последнее время что-то было не так – то проснется среди ночи, то голова разболится, то не может заснуть вовсе… Так я хотя узнаю, что все с ним в порядке.
— Да кто бы не хотел, чтобы он никуда не поехал? Но Саша ведь как батюшка – слушает в первую очередь себя – не отговоришь. Раз отец командовал лично – значит и я должен. К тому же сама ведь знаешь, что он не любит свою ответственность на кого-то перекладывать, никто ведь лучше него не сделает…
Лиза, правда сказать не замечала за Сашей особенных изменений. Да, перед отъездом приходили ему в голову внезапные затеи, от которых он никак не мог отказаться – тот же спектакль, совершенно внезапный. Но Саша был соткан из внезапностей, увы. Да, может быть замечала она некоторую лихорадочность за ним и он и вправду стал предпочитать завтракать, обедать и ужинать непременно на свежем воздухе жалуясь на то, что во дворце слишком душно, но может и вправду было душновато [пусть он не перестал жаловаться на это даже после того, как перестали так жечь печи, а Наташа куталась в их комнатах в теплые шали]. Но в основном это был тот же Сашка – порою непоседливый ребенок, которому нужно куда-то скакать, за кем-то бежать, что-то выдумывать, находясь как и отец в постоянном движении, порою блистательный император, способный выносить длительные церемонии и оставаться таким же блистательным.
Может быть Наташа просто видела больше, она всегда видела больше. Эх, наша глупая беспечность, которой не подвержено было ее любящее сердце. И как бы сама Лиза не любила брата, но никогда не сравнится это с тем, как любила его Наташа. К тому же отчасти Лиза все еще дулась на Сашу, но вот именно что всего лишь уже дулась – едкая горькая обида успела пройти, оставляя некоторое дурное послевкусие и только.
Лиза не заметила.
Никто не заметил вовремя.
— Но ты не переживай, Наташенька. Они вернутся. По крайней мере мне так обещали, — заканчивает тем временем Лиза свою мысль и осекается, потому что это тоже лишним оказывается, вот и приходится закусить язык.
Ведь ясно же – кто обещал и уж конечно он никогда свое слово не нарушал. Подобная осечка, впрочем, на какое-то время отвлекает Наталью Алексеевну от ее тревожных мыслей, снова заставляя улыбнуться и кивнуть головой, удобнее устраиваясь на диване.
— Как бы там ни было, я имела ввиду, может ты хочешь написать письмо вовсе не Его Величеству… — и взгляд синий становится таким красноречивым, что Лиза совершенно невольно фыркнет, отмахиваясь от Наташи, ставшей совершенно невыносимой теперь. Наверняка это все дурное влияние Саши, которое теперь над ней постоянно и даже по ночам.
— Глупости говоришь, занимайся лучше своим вышиванием и пиши письма своему мужу! — не мало не заботясь о том, как это должно быть прозвучало заявляет, тем временем, Лиза, что впрочем кажется Наташу нисколько не обижает. И спустя тягостные несколько мгновений молчания, Лизе приходится добавить, отлично понимая, на кого Наташа теперь намекает. — К тому же ни о чем таком он меня не просил, так почему это мне следует заваливать его письмами? Нужны они ему?
Хватило и того самого, которое вовсе не должно было попасть к нему в руки, но каким-то образом в них оказалось [известным образом вмешательства княжны Вяземской]. Да и потом – можно ли девице писать первой и навязываться, да и что она может написать? Написать ничего не значащее пустое письмо – нет, он же не дурачок какой, на которого жалко изводить чернил. А если писать много – не сочтет ли он ее навязчивой и того хуже влюбленной девушкой, тем более что он и вправду не просил писать ему куда-то на войну [до ее ли писем теперь] и не говорил, что напишет сам. Вот, пожалуйста, новая сложность, а все потому, что в душе она никак не может в их отношениях разобраться, а значит и не может придумать какой тон письму придать.
— Отчего же заваливать? – резонно возразит Наташа. — Достаточно было бы и одного письма в конце концов. А еще… — мелодичный голос станет чуть тише и чуть задумчивее. — Может он не просил ни о чем таком, потому что ни на что такое и не рассчитывает?
— Почему это не рассчитывает? – запальчиво, непонимающе, забываясь, что вообще собиралась все отрицать потому что ничего для себя подобного не решила. Раскраснеются щеки совершенно предательски. И ведь Лиза искренне не понимает в чем тут может быть проблема. Ведь захотел – написал.
— Я сужу по себе. Я не отвечала на письма твоего брата хотя бы потому, что не рассчитывала на то, что это хорошо закончится. Или вообще чем-то может закончиться. Мне повезло лишь в том, что Его Величество славится своей настойчивостью. Но он был цесаревичем, а я никем. К тому же… — Наташа внимательно и неожиданно серьезно посмотрит на Лизу, словно пытаясь прочитать что-то в ее лице или же душе. — …есть ли у него надежда?
Лиза так и читает этот немой вопрос: «Если он признавался тебе – ответила ли ты ему?»
«Нет!», - так и хочется в ответ крикнуть. «Не ответила! Потому что совершенно не ясно – хотел ли он этот ответ услышать и на какой он вообще ответ рассчитывал!».
Но ничего подобного Лиза не скажет. В конце концов как было бы просто, если бы мужчинам отвечали бы сразу же. А что тогда остается им? А как же «томленье сердца», о котором пишут начинающие поэты и просто бездельники? Вместо этого она поднимается с дивана, отряхивая нежно-зеленое платье от несуществующих соринок, делая реверанс перед Наташей.
— Позвольте удалиться, Ваше Величество. Вот знаешь, Наташа, — заметит как только та кивнет головой. — вернется он – тогда уж я и решу мой он или нет, — в зеленых глазах проскакивают огни свечей и лукаво пританцовывают. — Но никаких писем писать точно не стану!...
***
«Любезный друг».
Нет, так ведь оно не годится – такое чувство, что пишет какой-то старик своему боевому товарищу. Пишет, пишет, а в конце попросит протекции для своего сына, который хочет попасть в гвардию, а может и денег попросит в долг! Нет, не годится, в печку!
Лиза снова обмакивает перо в чернильцу и снова замирает над уже чистым листком бумаги, коих вокруг нее теперь целое множество – уж слишком много она их попортила. Они валяются вокруг письменного стола, скомканные, смятые или просто отложенные в сторону. Кого-то постигла участь последнего – их она сожгла, но какие-то просто валялись по полу и на столе. Перо успело сточиться, пока она придумывала это неожиданно-тяжелое письмо, пока выдумывала как его начать и закончить: повсюду виднелись любезные, дорогие, милостивые Кириллы Андреевичи, но всех их она забраковала, ей ничего не нравилось из того, что выходило из-под пера.
Со свечи маленькими каплями белыми стекает воск, падает на подставку – того и гляди совсем догорит. С пера капают чернила, оставляя на еще девственно-чистом листке бумаги отвратительную кляксу. И снова приходится браться за новый – нужно меньше раздумывать над этим.
«Почтенный Кирилл Андреевич!»
Еще лучше – вот теперь это он становится старцем, некоторые из которых заседают в Сенате. Какой же он почтенный, если он почти одного возраста с Сашей, которого таким она бы никогда и не стала звать? Нет, никуда не годится – порвать, начать заново.
Лиза не знает толком даже, что хочет написать. На самом деле Наташа ведь права – как только заикнулась она о письме, сразу же захотелось написать свое. И написать хотелось на самом деле о многом – о том, что теперь при дворе не носят ярких платьев и лишь она одна надела сегодня вот эту брошку; о том, как не хотят теперь выходить на морские прогулки, потому что без Саши, да и тем более без батюшки некому особенно подгонять на это дворян, о том что вычитала в одной книге о птицах райских, которые живут в далеком континенте и она бы непременно вырвала из книги эту страницу и показала бы не имея достаточного таланта к рисованию, в конце концов хотелось попросить за Сашу, пожелать скорой победы — да много всего хотелось! Но раз за разом перечитывая то, что получалось она просто комкала листок и летел он куда подальше, Лизе все не нравилось, быть может потому, что самое главное она в письме утаивала, сама того не понимая. То письма получились через чур сухими, то такими, что она сама путалась в собственной мысли. Не то, не то, не то.
«Милостивый государь!».
Ну и какой он государь? Еще немного и станет это письмо похоже на челобитную. Ну да, так и напишет: «Милостивый государь, Кирилл Андреевич. Не далее как этой осенью вы имели неосторожность поцеловать меня у всех на глазах и сие причинило мне много неудобств, прошу вас объясниться, а заодно и другим объяснить немедля – что сие значило».
Лиза перечитывает подобного рода записку, сминает ее в руках, усмехаясь и начинает писать письмо заново, на этот раз стараясь обойтись без подобных глупостей.
«Мой милый друг, Кирилл Андреевич».
Нет, мой следует зачеркнуть, стоит только вспомнить лицо Наташи. Много ли времени прошло с тех пор, как ускакал Кречетов в неизвестном направлении? Неужели правда она такая, как о ней говорят – ничего серьезного в конце концов! Нет, без «мой», по крайней мере пока.
«Милый друг, Кирилл Андреевич! Возможно вы не ожидаете получить от меня это письмо, поэтому можете вовсе его не читать, я не хочу показаться навязчивой Вам…».
Ну да, конечно – можете не читать, а зачем она тогда его пишет? С каких пор письма стало так сложно писать? А ведь она сама всегда не мало развлекалась над письмами других – отправляла их обратно, при этом непременно исправляя ошибки, если они там находились и непременно зачитывая удачные строчки вслух, не мало потешаясь над чьим-то влюбленным сердцем. Было такое? Было. Иногда писала короткие очерки в ответ, вроде: «Ваше письмо бесконечно приятно моему сердцу, но прошу искренне простить, сегодня хочу я принять баню вот и не смогу с вами увидеться! Пишите еще – очень интересно!». Дело в том, что она всегда о т в е ч а л а, но не начинала переписку первой – все искали ее внимания, вне зависимости от положения, а она словно богиня сердцами распоряжалась. А теперь что же?
И она начинает снова и снова, пока не начнет получаться нечто хотя бы отдаленно ее устраивающее. Лиза пишет о переживаниях Наташи, просит приглядывать за Сашей, передать привет его батюшке с матушкой, а потом задумывается о том, как он вообще это сделает, если находится за сотни миль от них. Что за глупость, глупость, глупость! А все Наташа – не сказала бы про письма, она бы даже не подумала, что нужно это делать! Невыносимая, невыносимая…
«Вот вы скажите мне прямо – вы любите меня или нет? А почему больше ни разу не намекнули на это? Я ваши мысли не читаю!... А вдруг вы не это ввиду имели? Кто вообще так поступает?».
Перо скрипнет, сломается, она отбрасывает его в сторону вместе с еще одним листком бумаги, потому что это уже никуда не годится, но Лиза неожиданно злится, вот и пишет такое, да и в голове звенеть начинает. Свеча догорает, сотни белых восковых капель по ней стекает, а Лизе приходится заточить новое перо взамен сломанному. Стоит успокоиться и сосредоточиться, но такое чувство, что теперь на бумаге она собирается вымещать неожиданное раздражение.
«…знаете, а я все вспоминаю то, что вы мне сказали, но мы ведь так и не объяснились с вами, а еще вы поцеловали меня и едва ли когда-нибудь испытывала я нечто подобное…».
Щеки краснеют, поэтому снова чиркает, поэтому снова ставит кляксы, запрокидывая голову и разглядывая все тех же издевательски-улыбающихся ей амуров со стрелами, с милыми крылышками и такими же румяными щеками. Поцеловал – мало ли кто ее целовал, большинство из этих поцелуев ничего не значили, но только этот… Пальцы невольно прикасаются к губам собственным, оставляя на лице чернильные пятна – она как маленький ребенок с ваксами прямо на носу, когда его учишь писать. Этот поцелуй иным был, совсем иным, ничего подобного раньше не было, ни со случайными кавалерами, с которыми просто было любопытно, ни с Ваней, поцелуи с которыми оказывались в итоге неуместными начиная с самого первого и долгожданного. Что это, что это, что это? Невыносимо!
«…А не пошли бы вы к черту с такими признаниями, если все равно сбежали?!».
Ну да, славный побег – прямо к туркам. Зачеркнуть. Перечеркнуть. Исправить. Такое она ни за что ему отправлять не станет.
Лиза клюет носом над несчастной бумагой, исписанной и почирканной, смятой, в кляксах за которыми все еще красивый почерк цесаревны проглядывается, но что только толку от такого почерка? Опасно накренится стул, она покачнется, что приводит в некоторое чувство. В окно заглядывает серпом месяц, а она оказывается так и просидела над своим не написанным письмом, успев написать на новом чистом листке всего одну строчку. Она смотрит на нее, а после махнет рукой на это бесполезное занятие, оставляя убирать это безобразие и отправляясь опочивать. В конце концов как только он вернется – оно вернее даже будет, тогда уж наверняка поговорят.
И останется листок на столе, не подписанный и не адресованный никому определенному. И только она запомнит, что было на нем написано в сонном состоянии, по какой-то инерции, почти под гипнозом.
«Скучаю и жду».
_________________⸙♦⸙__________________
Борис Федорович смотрит за тем, как рука князя Юсупова тянется за графином с вином, гадая рассеянно о том – сколько стоит перстень на его руке. Пожалуй, тысяч эдак десять точно. Не даром говорят – что если в Петербурге влиятельнее Апраксина сыскать сложнее, то среди московского дворянства Юсуповы властью обладали не меньшей. Известно было, что общее их состояние превышало Романовское, что не мешало последним носы задирать. Князю было немного за пятьдесят, но сохранился он неплохо – сохранялась в нем генеральская осанка участника Азовских походов и Нарвского сражения, виднелся над правым глазом шрам, говоривший о том, что он не просто в тылу отсиживался, правда сам взгляд производил впечатление излишне тяжелое – он был совершенно черен, что не поймешь было совершенно о чем князь себе мыслит, иссиня-черные волосы уже давно были подернуты сединой, но впрочем князь не производил впечатление совсем уж старика, собственно говоря еще бы, когда у тебя столько денег, столько душ и столько имений. И тем паче сильнее должен был быть оскорблен он тем простым фактом, что его считай ограбили, обошли, в конце концов даже не извинились. Хотя нет, это ведь он, Апраксин, пытался все это замять, увещевая несносного мальчишку-императора одуматься, а после разбирался с тем, что его крестничек натворил. Но об него, Апраксина, ноги вытерли, так что более подтирать грязь за императорской семьей он не собирался. О, едва только вспоминал он об этом, как вновь внутри все закипало, как и в первый тот день и во все последующие.
***
Давно уже дворец на набережной Невы, что смотрел окнами прямиком на отражавшийся в ее вечно беспокойных водах дворец Зимний, не слышал столь неистовой ярости, обуявшей его владельца. Кто поумнее – скрылся за печками, дверьми людской или по своим комнатам, не желая попасться под руку разбушевавшемуся барину, ибо достаться могло абсолютно всем. Вон – даже Кротову не повезло и был он в итоге выгнан вон, получив серьезного вида фингал под глазом. С виду благодушный всегда Борис Федорович в гневе оказывался ничуть не лучше теперь уже покойного императора, раздавая тумаки направо и налево, непременно используя самые лютые выражения, которые был способен вспомнить и непременно имея свойство портить мебель. Его жена потом долго со скорбным видом припоминала ему то разрушенный бюст какого-то римского мыслителя или императора [не сильна она была, впрочем в истории столь же сильно, как в денежных вопросах], разбитые хрустальные рюмки и фарфоровые блюда, да даже поломанную мебель, если он и вправду был люто зол. А зол теперь Апраксин был особенно сильно едва ли не ежедневно. Но особенно злился он сразу же, как покинул Петергоф при первой же возможности, внутренне едва ли не содрогаясь от справедливого по его мнению гнева. После, оказавшись дома, не желая принимать участия в дальнейших увеселениях по случаю коронации [его даже не слишком заботило, насколько поверит император в факт его неожиданного недомогания и не оскорбится ли], он долго ходил по длинным коридорам великолепного своего дворца, отстроенного сразу же за первыми фасадами Зимнего, ругался, бранился, похожий на загнанного в клеть зверя, которому все и остается что огрызаться. То и дело выкрикивал он угрозы, сотрясая воздух: «Ну ничего, ничего, пожалеете еще!», «Позорить вздумали!» и грозил каким-то невидимым врагам кулаками. Семейство его вынуждено было бурю переживать вместе с ним, ибо он, считая себя персоной безвинно оскорбленной, не видел возможным им находиться более на гуляниях, чем разумеется немало опечалило его супругу и сына [который очевидно долгом своим видел в беспрестанном увивании за юбкой цесаревны]. От гуляний и веселья он, впрочем, упрятаться не мог ведь вся страна с неистовым упоением встречала восход на престол нового императора, а значит и новую для себя жизнь – вот и приходилось сидеть здесь в крайнем оскорблении и слушать как за оградой лавочники предлагают наливные яблочки хохочущим горожанкам в праздничных нарядах, да наблюдать как по Неве то и дело снуют парадно украшенные лодочки дворянские, отмечая все ту же коронацию. И все это только усугубляло неожиданное ощущение собственной ненужности, гордого одиночества и обиды, которая постепенно перерастала в подобие ярости. Никто не имеет право с ним так поступать – ни иностранный посол [о, можно представить как презрительно теперь станет кривить рожу француз!...], ни мальчишка-император с блистательной короной на златокудрой головке, которая пожалуй ее через чур сдавила.
Первые несколько дней Борис Федорович еще уверен был в том, что получит письмецо, где заверит его бывший цесаревич, а ныне император, что сожалеет о случившимся, а лучше еще – ежели придет с повинной сам. Потом он ожидал с визитом по крайней мере этого его сподручного-ординарца, персона которого в немалой степени оскорбила ожидания многих влиятельных дворянских сыновей. Но и этот гордый [точнехонько гордый – достаточно взглянуть только в глаза… и право же было бы чем кичиться с одной-единственной усадебкой на отшибе отвоеванных земель! Да-да, а он, Апраксин, все знает!] мальчишка не соизволил явиться ни на следующий день, ни после него. Дворец хранил горделивое молчание и Борис Федорович окончательно уверился в том, что никаких извинений и уж тем более исправления сложившейся ситуации он не дождется. Тяжелой поступью расхаживал он по дворцу, отказываясь посещать заседания Сената, отказываясь совершать утренние доклады, ссылаясь на все то же таинственное недомогание. А к чему? Вновь увидеть на этих докладах еще совсем зеленого мальчишку, пригретого другим вздорным мальчишкой, будучи вновь бесконечно униженным. И это после долгих лет верной службы и желания только лучшего Отечеству? Да, было дело и батюшка его покойный совершал поступки прямо скажем безумные, но от голоса разума настолько не отказывался. Французы теперь требуют объяснений и шлют недовольные ноты, а ему чем это объяснять? Любовью? Какая чушь. Права, права была Анна Дмитриевна, которая теперь наверное потешается над его глупостью и верой в добрые семена, посеянные в наследнике престола! Но пусть сама отвечает за своих отпрысков, сама, сама, сама!...
Как только все грозные и бранные слова были сказаны и исчерпаны, извинения не были принесены, а планы окончательно как показалось можно было отправлять в печь, Апраксин сделал то, чего обычно себе не позволял и к чему не имел склонности, помятуя о своем пропащем отце – напился вдребезги.
Он пил без разбору то, что хранилось в погребах дворца – вино первоклассное и не очень, рюмки венгерского и каких-то наливок, развалившись в своем кабинете. Мертвые бабочки молчаливо взирали на него со стен, пока он предавался этому пагубному занятию. Пьянство – русский величайший грех и проблема. Способность мыслить ясно теряется, а язык наоборот развязывается. Вот и старался он не пить больше дозволенной себе нормы, даже при Петре, который спаивал всех до горячки. Но не все ли равно, в конце концов. Перед глазами так и вертится все тот же чертов прием, все тот же распрекрасный бал, на котором повернулся к нему спиной Александр Петрович. Нет-нет, не к нему – ко всей стране повернулся.
Рука, которая держит бокал сожмет его с такой страшной силой, что хрупкий хрусталь разлетится на мелкие кусочки, падая на пол, окрашиваясь в красный – цвет крови. С ладони начнут на пол стекать капли крови с разбитой руки, а он и не чувствует боли, чувствует только тупую, слепую совершенно, ярость. Она столь ослепительна, что застилает перед собой все – и здравый смысл, и осторожность, и возможно человечность.
Скрипнет дверь кабинета, на что он тоже особенного внимания не обращает, продолжая сжимать оставшиеся осколки в своей ладони.
— Батюшка, да как же это!… Да что же вы… — чистый, взволнованный голос, впрочем заставляет оторваться от созерцания одной точки.
Она опускается перед ним на колени, заставляя разжать руку и аккуратно убирает мелкие осколки впившиеся в кожу, шарит по столу в поисках тряпки, чтобы хоть как-то унять кровотечение в распоротой руке. Надя – хоть кто-то из детей его удался. Иные умерли, а сын… а что о нем говорить, коли вырастил непробиваемого дурака? А Надя – красавица, смотрит на него испуганно большими своими карими глазами-вишнями, в которых еще не успели высохнуть ее собственные слезы. Да-да, даже дочери его успел насолить император, даже ее плакать заставил – пренебрег, пренебрег его дочерью в свое время. А сколько Надежда его слез пролила, как только о свадьбе этой грядущей узнала? И сколько еще прольет? Она всегда была его отрадой, бесконечно послушная, покорная девочка, удивительно чистая – хоть в монастырь отдавай, да только монашки как-нибудь без нее обойдутся. А что за красавица – глаз не оторвать! Диву можно даваться как у его жены, которая с возрастом становилась лишь только шире и шире могла уродиться такая дочь – изящная, тоненькая словно тростинка с этими огромными глазами, густыми волосами, тихим ангельским нравом. И вот ее этот мальчишка плакать заставил, да и будущего блистательного лишил, лишил, лишил! И снова ярость, снова злость поселяется в душе, казалось утихшая с ее появлением.
Он гладит ее по волосам, пока она сидит у его коленей и причитает над его рукой и состоянием.
— Обидел он тебя, обидел, Наденька. И меня обидел… такое не прощается, за такое можно и стреляться, только стреляются идиоты, ведь там шанс половина на половину, а нужно наверняка…
— Да что вы, батюшка! Я зла не держу на Его Величество… Нельзя ведь заставить полюбить, мне грустно, но я сама виновата – он никогда меня не любил. И я все равно, все равно ведь его люблю, но этим беспокоить не стану и вы не беспокойтесь так, душу рвете…
Апраксин ухватит ее за подбородок, неожиданно крепко и кажется несколько болезненно – она поморщится то ли от неожиданности, то ли от боли. Он смотрит на нее ничего не выражающим взглядом, цвет которого и достался Васе, сжимая только крепче.
— Не держишь? Заставить нельзя? – он щурится, уже и не понимая говорит ли с любимой дочерью, али с тем же Кротовым. Она может и попытается вырваться, но хватка у него хорошая. — Нет, заставить как раз можно. А ежели совсем не выходит – можно и просто… с глаз долой, слишком много проблем… — взгляд темнеет. — Любить его вздумала? Да он тебе все будущее твое сломал! Могла во Франции жить, а может и королевой стать коли король бы их помер бездетный, дура! — может находись он в трезвом рассудке он бы никогда не назвал ее таким образом. Но сейчас, балансируя между пьяным безумием, в котором любил когда-то его собственный отец пребывать, и трезвым рассудком, он особенно себя в руках не держал. — А теперь кому же ты нужна – батюшка наш император так решил, удовлетворяя свои детские хотелки! Не беспокойтесь, как же! Если у моих детей гордости нет, то у меня-то как раз ее много! Да благодаря мне эта династия живет еще, а вы в золоте купаетесь! Со мной так не обращаются, глупый мальчишка! А кто в сущности? Император? Нет. Мотылек. А у мотыльков век короткий – даже накалывать не надо. Сами к огню летят.
Если бы был он в состоянии нормальном, трезвом, то пожалуй заметил бы весь ужас на побледневшем красивом лице дочери, которая задрожит всем телом, пока отпустит ее, поднимаясь тяжело с кресла, выискивая что-то в столе. Бумаги – у него есть бумаги абсолютно на каждого хоть сколько-нибудь важного человека в этой стране. И есть человек, который определенно не менее оскорблен теперь, как и сам Апраксин. Доиграетесь, Александр Петрович, точно доиграетесь.
— Да что же вы такое…говорите, батюшка – это ведь измена… - сорвется с губ, но он не услышит этого шепота, забывая о ее существовании.
Поделиться32024-05-20 20:54:32
***
Вот так Апраксин и вспомнил о князе Юсупове, на утро впрочем проснувшись с такой тяжелой головой, что едва ли мог вспомнить все остальное, на всякий случай допросив Кротова о том, что было, не слышал ли кто чего лишнего, а после зарекся от подобных попоек раз и навсегда. Может Кротов конечно юлит, а может и не знает всего, но несколько дней прошло, а за крамолу и изменнические планы никто его в подвалы Тайной Канцелярии не сопроводил, поэтому он успокоился и даже повеселел, приглашая князя на ужин в Борисовский дворец, представляя себе разговор во всех подробностях. Теперь вот и сидели они друг напротив друга, попивая вино от которого самого Бориса Федоровича изрядно мутило, разговаривая о каких-то делах, детях, планах, но не переходя покамест к главному.
— Должен признаться вам князь, — Апраксин вытирает губы салфеткой с императорским гербом. Отменное было, к слову мясо. — что дела в нашем государстве меня стали очень беспокоить. Боюсь, император наш проявляет наихудшие качества батюшки своего, вместо наилучших. Этак заведет нас прямо на рифы такой капитан.
Черные глаза прожигают кажется в нем дыру. Юсупов никогда особой симпатию к Апраксину не испытывал. Ну конечно же опять – его род ведется еще от времен Нагайской орды, а что род Бориса? Тем не менее князь все еще здесь, даже приехал, очевидно желая узнать, что же канцлер готов ему теперь поведать.
— Разве Его Величество не ваш, Борис Федорович, крестник? — черные глаза становятся непроницаемыми, а взгляд все тяжелее и тяжелее. Нет, не зря ходили слухи, что нещадно колотит он своих крепостных до смерти плетями убивая, а последнюю жену свел в могилу. Не зря. Что впрочем не отменяет его влияния. А жена что – найдет новую, а лучше – пусть забирает свою нареченную, Арсентьеву.
— Как видите – ко мне он тоже не прислушивается, в том то и дело. Вот теперь втравливает, с вашего позволения нас в войну с турками. Готовы ли мы к ней? Нет. А от вечных наших союзников открещивается. Ты, князь, хорошо Османское государство знаешь, послом там был. Так что – хорошая идея с ними воевать? Покойный император тоже самолично правил, да только все решения его на благо были. А это? Боюсь я, Николай Григорьевич, что наша страна не туда с ним зайдет.
Князь Юсупов откладывает нож, которым методично резал мясо. На тарелку упадет несколько капель крови, прежде чем он отправит себе в рот кусок и пережует.
— Борис Федорович, — неторопливо, запивая вином и только теперь обращаясь к Апраксину. — ты старый лис, но передо мной не юли. Чего ты хочешь?
— Извольте, — пожимает Апраксин плечами, старательно не обращая внимания на сменившийся тон и панибратское обращение, выуживая из камзола стопку писем, разворачивая их демонстративно и прищуриваясь, словно плохо разбирая, что в них писано. — интересное чтение тут обнаружил у Алексея Ивановича в его Тайной Канцелярии, вот и решил позаимствовать. Здесь, князь, пишете вы, что правят Романовы из рук вон плохо, что император у нас самодур и позорит честь страны своей. А пишите кажется своему двоюродному брату, в Польшу. Честно скажу – преинтересные памфлеты, правда за такие не только на дыбе обычно висели, но и головы лишались.
Юсупову следует отдать должное – даже мускул на лице не дрогнул, а черные глаза остаются все такими же совершенно непроницаемыми. О чем он думает – только гадать оставалось, сосредоточенно разрезая мясо, словно ему только что не сказали о том, что его в пору казнить.
— Угрожаете? – спокойно уточняет он, наконец.
— Отнюдь, - покачает головой Апраксин. — Если бы я хотел вам угрожать, я бы делал это чуть более изящно и не за ужином, а где-нибудь у Ушакова в его застенках. Я поддерживаю. Я долго закрывал глаза на то, что стало твориться со страной после смерти императора, — Юсупов Петра Великого все же любил, ходил с ним в походы, чтобы порочить и его имя. Где-то за спиной Апраксина висит его парадный портрет – бравый рыцарь в латах, гордый победитель Европы, наверняка сейчас пялился в Апраксинский затылок. И наверняка хотел убить, да что сделаешь Петр Алексеевич? Устал я, что ноги об меня вытирают. Того и гляди попросят в отставку. — но более не могу.
Нет, разумеется он угрожал – если Юсупов решит соскочить, что же, покажет всем эти письмена и прощайте дворцы, имения, титулы и прочая и прочая. Но предположим, что при таких разговорах признаваться в этом как-то и резонов не имеет. Юсупов молчит, очевидно ожидая продолжения.
— У Александра Петровича нет наследников. И было бы лучше, если бы они не появились. Очевидно, он не здоров. А теперь, отправляясь на войну – кто знает, во что это может вылиться. Болезни имеют свойство проявляться. Князь – в армии вас любят, а среди турок у вас есть связи.
— Допустим, я правильно тебя понимаю, — пожмет плечами Николай Григорьевич. — Но у него есть сестра. Даже если Его Величество по каким-то трагическим причинам отойдет в бозе, то все это продолжится. Впрочем, ты прав – с некоторых пор я вынужден думать, что страной управляет человек этого не достойный. Но кто вместо него?
— Помилуйте, князь, неужели вы о Елизавете Петровне? – Апраксин усмехается, совершенно, впрочем, искренне. — Кто же захочет в стране видеть бабу на троне? Отродясь такого в стране не было, так что теперь начинать? К тому же цесаревна наша вряд ли испытывает к тому желание. Но в этом мне и нужна ваша поддержка. У нас обоих одинаковые цели и одинаковое влияние. Если убедить кого следует – он примет единственно верное решение.
На тарелках останутся кровавые пятна от мяса, которое они доели оба. Отменная телятина с кровью надобно сказать.
— Не намекаешь ли ты, Борис Федорович на своего сына?
По этой ироничной ухмылке легко можно прочесть то, что о Ваське князь думает. И вправду, что скрывать – не удался.
— Он племянник Петра Великого и мужчина. Дурак, соглашусь, так теперь оно даже лучше, — спокойно признает это Апраксин. — довольно мы терпели умных мальчишек. Пора в свои руки это брать, Николай Григорьевич.
Молчание длится бесконечно долго – карты раскрыты. В случае чего он сможет заткнуть ему рот, но что-то подсказывает, что даже и не придется. Они поднимают бокалы вина, громко произносят: «За Россию!», чокаются в воздухе, а портрет Петра Великого молча взирает на них со стены.
И никто не услышит шороха за дверью и тихого испуганного вскрика, невольно вырвавшегося из груди совершенно потерянного.
***
Записку о том, что дело было сделано доставил ему Кротов, поэтому не стоило даже сомневаться в том, что видел ее кто-нибудь еще. Была она короткой и лаконичной, но несла за собой огромные перемены. Борис Федорович, разглядывает листок бумаги перед собой, вглядываясь в синий сумрак за окнами дворца. Сделал что должно было, иначе нельзя в конце концов – отбился от рук, да и не ценил никогда, погнал бы в зашей, а нужно понимать, что когда зверь в угол загнан, то он кусает первым. Теперь уже поздно раздумывать – еще немного и все получат горестную весть, а после даст бог и династия сменится. Он записку сжигает, собирается было вернуться в постель, да только вдруг взгляд падает на собственный стол, где среди прочего стоит себе игрушечный кораблик. Точная копия – что сказать, Петр Алексеевич был мастер.
«Дядюшка, а ты знаешь, что я тебя очень люблю?»
Он вздрагивает – до того этот чистый детский голос оказывается громким в голове, словно обладатель его где-то рядом находится. И он озирается, но в кабинете темно и пусто – только мертвые бабочки, да дотлевающие уголья в камине. Но голос был живой, словно пришедший из далеких воспоминаний.
И мальчик был живой перед глазами – голубоглазый и золотоволосый, о таких верно говорят «русич». Волосы как у херувима спадают на плечи – именно таким он в детстве Сашу и запомнил. С него все хотели писать портреты, а он упрямился и убегал к крестному, который мог по его мнению его спасти от такой участи. Этот голубоглазый мальчик мог бы быть ему сыном, но судьба распорядилась иначе, совсем иначе. Мальчик бежал к нему с распростертыми объятиями, обнимая за шею и отказывался с рук сходить.
«Дядя, я тебя и папку люблю, очень-очень, честно-честно! А когда я стану императором – ты тоже будешь меня спасать?».
И хочется уши заткнуть, но голос продолжает звучать, мальчик смеется, мальчик где-то тут, точно тут. Красивый, смелый мальчик, почти сын, которого воспитывал вместе с детьми, пока его отец не был в состоянии. И что это мерещится на руках? Кровь? Нет, не может быть, нет. И он в остервенении трет руки, много после осознавая, что что-то мокрое на ладонях, оттирающих лицо, это вовсе не кровь, коей он покрыл руки, а слезы, его собственные слезы, которые он даже не заметил. Он вглядывается в темноту мертвенную и видит этого мальчика с голубыми, необычно яркими теперь глазами. Он точно такой же, как в детстве, но только на губах его кровь. Мальчик смотрит не мигая, заставляя упасть на колени и отползти подальше, словно это может спасти от м е р т в е ц а.
— Дядя, — голос такой же, все такое же, но не может этого быть – он где-то в лагере на южных границах и пожалуй уже очень скоро умрет. Умрет? А может нет? А может спасется? А может не сработает? Сашка, Саша. — Почему ты меня убил? Я же тебя любил.
Он закрывает лицо руками, не желая больше видеть призраков, сгибаясь в три погибели и пряча мокрое от слез лицо, мотая головой и приговаривая невпопад: «Не виноват, нет, нет, не я это сделал, не я!». Он оборачивается вон, спотыкаясь выбегая вон из кабинета, открывая двери в освещенную еще столовую и натыкаясь на портрет своего императора, друга. Его черты все такие же, но и он теперь, кажется, смотрит осуждающе и холодно. Он словно бы тоже говорит ему, Апраксину: «Ну что, предал меня, друг?».
Борис Федорович падает на колени перед этим портретом, как завороженный, раскачивается в разные стороны, бьет себя в грудь кулаком:
— Нет, нет! Не правда! Не было у меня иного выхода! Не хотел! Сам он виноват, сам, сам! Не смотри так, Петя, не смотри, не смотри!...
И падает без сознания на дорогой персидский ковер, пролежав так в столовой до утра, где его и обнаружили, решив, что Борис Федорович Апраксин, канцлер Российской Империи, через чур перетрудился, вот и не выдержало его тело.
_________________⸙♦⸙__________________
Странно, пожалуй – все самые ужасные дни начинаются зачастую совершенно обыкновенно. Никаких дурных предзнаменований, разбитых зеркал и мрачных пророчеств, никакой необычной погоды или дурных снов. Это просто очередные дни, которые ничем не должны вам запомниться – вы совершаете в них действия самые обыкновенные, даже не помышляя о том, что именно сегодня ваша жизнь разделится невидимой трещиной на «до» и «после», что уже никогда после не будет так, как сегодня, что ваша жизнь изменится раз и навсегда. Нет, в эти дни вы занимаетесь своими повседневными делами, говорите на совершенно обычные темы, а вот-вот и разрушится все то, к чему вы привыкли, а вы даже об этом не подозреваете. Как это жестоко – не иметь возможности даже почувствовать неладное!... Но может и к лучшему, ведь изменить ничего нельзя, а так хотя бы еще пара часов будет проведена в относительном счастье прошлой жизни, о которой надобно будет забыть.
Лиза как раз собирается ко сну, позволяя Марфе распустить тяжелые медные волосы, с наслаждением чувствуя, как десятки шпилек ее волосы освобождают. Зима неспешно подходит к концу, но отступать не торопится – несколько дней к ряду в столице тревожно завывала вьюга, бросал злой ветер снежные хлопья прямо в окна. Замело дорожки, лестницы, то и дело слышалась брань от тех, кто на этих лестницах имел неудачу поскользнуться. Но именно сегодня метель стихла, оставляя место февральским морозам и ясному небу. В столице, как впрочем и практически по всей России о войне напоминало разве что временами приходящие печальные письма о первых погибших, да негромкое празднование незначительных побед, а также непривычно тихие казармы из которых в том числе и ушла гвардия в действующую армию. А в остальном – все было мирно и тихо, детям устраивали захваты снежной крепости, девки вновь гадали на святцы, а после Крещения устроили катание на санях, запряженных тройками лошадей. Вот и сегодня, в ясный и морозный день, Лиза боролась радостная и раскрасневшаяся с захватчиками крепости, залепляя снежками в лицо какому-нибудь особенно дерзкому разбойнику, а после едва ли успев обсохнуть, разъезжала в санках прямо с гор не мало не заботясь о том, что снег облепляет соболью шубку так плотно, что к концу забав становится она похожа скорее на снеговиков, которые дети придворных слепляют после очередного снегопада, нежели на приличную барышню. И было так радостно отчего-то, так хорошо, что даже голос как-то охрип от постоянно смеха, да криков.
И вот теперь, после всех этих зимних забав, должно было хотеться спать ужасно, но сна наоборот, не было, поэтому не долго думая забирается босыми ногами на приставленный к окошку диванчик. Ночь ясная, а следовательно тоже морозная, но звезд высыпает на него целая куча. Звезды обычно убаюкивают, вот она и разглядывает мерцающее вдалеке звездное небо и невольно улыбается, вспоминая неизменно, как разглядывала его когда-то лежа на сене черт знает в какой дыре. И человек, который теперь так далеко, что и не найдешь пожалуй, непременно называл ее звездой. Думает ли он о ней? А если думает, то как часто? Что она намеревается сказать ему, когда он вернется? Ведь постоянно отмалчиваться не выйдет, однажды ответить придется с определенностью, но сначала пусть сам еще раз признается. Нет, все же непременно стоило написать ему письмо – здоров ли, хорошо ли обмундирование, хорошо ли питаются… Лиза тряхнет волосами, смаргивая непрошенные мысли, пристальнее вглядываясь в такое далекое небо. Когда-нибудь они вернутся, по крайней мере если не с окончанием войны, то на период перегруппировки войск, да и не может же Саша оставлять страну так надолго, а Кирилл Андреевич его ординарец, а следовательно наверняка тоже оставить его просто так не может.
Лиза вскакивает с места, подходя к большому зеркалу, поставленному в комнату совсем недавно – по крайней мере теперь, если ей приспичит погадать ей не придется идти черт знает куда. Вот только к гаданиям теперь у нее никакого интереса нет – уже достаточно опозорилась. Приглаживает растрепанные волосы, медленно заплетая их в одну толстую косу и не мало не смущаясь кривляясь перед своим отражением.
— Вы вернулись, как и обещали, Кирилл Андреевич, — присаживаясь в шутливом реверансе сама перед собой. Если уж когда-нибудь он вернется, то совершенно определенно, что ей стоит репетировать. Непонятное веселье овладевает всем существом ее, когда она представляет себе и его и себя в этот момент. Протягивает руку для воображаемого поцелуя и фыркает, смеется чуть слышно самой себе – до того все это нелепо. — Я могу надеяться, что вы обо мне думали? Я вот о вас «да», — хлопнет ресницами, а после вновь придает лицу серьезное выражение.
Нет, так с ним нельзя будет – этак она покажется кокеткой, каковой была почти со всеми своими кавалерами, а с ним… некрасиво, как-то пошло в конце концов. И ведь совсем не это она должна сказать и без этой жеманной улыбочки. И Лиза пробует еще раз, живо представляя в зеркале не себя, а его. Его с этими курчавыми у лба волосами и постоянно серьезными глазами необыкновенными, за которыми она, впрочем, ловила необычайное выражение ласковой нежности. Никогда она такого не видела, может быть разве что у Саши, когда он разглядывал тихонько Наташу. И у нее в ответ. И как только представит его становится по крайней мере легче, а еще становится совсем не до кривляний.
— Я рада, что вы вернулись, Кирилл Андреевич, — просто и понятно, вот так пожалуй и скажет. — Признаться честно – мне вас не хватало и вы совершенно не выходите у меня из головы. Я репетировала нашу встречу, можете себе представить? На самом деле я долго думала – что мне делать, что я чувствую… И Кирилл Андреевич, на самом деле я поняла, что…
Восторженный вскрик очевидно не спавшей за дверьми Марфы, прерывает ее монолог, она мгновенно сбивается и недовольно спрашивает: «Ну что там такое?». И та мигом отвечает, словно увидела как минимум Бога, который сошел с небес: «Так звезды падают, Ваше Высочество!».
— Не говори глупостей! – сердитая, из-за того что ее прервали на столь важном моменте, да еще и по всяким пустякам. Голос прозвучит скучающе-поучающе. — Звезды в это время года массивно не падают. Они в конце августа падать изволят. Или когда угодно, но не в феврале точно. Никто такого не наблюдал.
— Так вы посмотрите, Ваше Высочество! — упорствует она на своем и Лизе приходится к окну возвратиться и с удивлением обнаружить, что она права.
Да, в далеком будущем, до которого она уже не доживет, это было бы объяснено куда рациональнее. У метеорных потоков есть строгие орбиты в космосе. Поэтому звездопады всегда можно наблюдать в конкретном месяце, когда Земля проходит точку пересечения собственной орбиты с орбитой метеорного потока. А значит это был, как сказали бы астрономы всего лишь метеоритный дождь – какой-то шальной метеорит раскололся и осколки его достигали Земли. Но это все будет понятно много позже, а сейчас Лиза с удивлением наблюдала как десятки звезд падали с небес, растворяясь где-то у горизонта. Неожиданный огненный дождь, звезды срывались с небесного лица подобные сверкающим слезам, словно небо оплакивало что-то. И Лиза завороженно глядит на развернувшееся в февральском небе представление, перебирая в голове известные даты, на которые такое событие могло бы прийтись, но не находя подходящего. Почти чудо. Только странно – от этого повального звездопада отчего-то становится не по себе. И ведь не хочется быть суеверной – астрономам давно известно, что ничего страшного в нем нет, но мурашки неприятные забегают по спине, по рукам, и поддаваясь какому-то странному порыву, она наглухо задернет шторы, закрывая от себя плачущее бриллиантовыми слезами небо.
Может и хорошо, что окно она закрыла, потому что не видела она взмыленной лошади, подъехавшей к крыльцу, не видела как соскочил с нее человек с надвинутой на глаза треуголкой, пахнущий войной и смертью. Не видела – и от того, смогла прожить еще хотя бы несколько минут в мире, где есть счастье, где звезды падают и это не страшно, потому что появятся новые, где все яркое и есть надежда. Где ей не нужно было взрослеть. Десяток минут счастливого неведения, за которыми скрывается настоящая пропасть.
«один юродивый на площади, как сказывают, пророчил ему счастливую жизнь, аки у звезды на небе».
Лизе бы лечь спать, но сон не идет теперь совершенно, словно падающие звезды растревожили что-то. От них не спасали даже задернутые наглухо шторы дворцовые – все равно казалось их прощальный свет прожигает сквозь плотную ткань дыру. Может быть, если бы легла она спать, то спряталась бы от этого. То не узнала еще хотя бы целую ночь. Жалкую ночь. Но не судьба ей прятаться.
Послышится топот шагов за дверью, заставляя набросить на плечи тяжелый халат парчовый, поспешно его завязывая кисточки-завязки, чтобы нежданные гости не застали ее в окончательно неподобающем виде. Сегодня, очевидно выспаться не получится. Едва ли она успевает запахнуться как можно плотнее, как в комнату буквально врываются мальчики, сразу втроем. И Лиза готовится было их шутливо отчитать – наверняка ведь вернулись с очередных веселых посиделок с актерками придворного театра, али с игрищ на морозе, в конце концов устраивали катание по замерзшей Неве. Вот только лица у них скорее бледные, нежели раскрасневшиеся. И не просто бледные, а скорее бледные смертельно. У всех троих.
— Мальчики мои?... — и прозвучит это озадаченно скорее. Она всегда их так называла, когда не хотела обращаться к каждому по имени отдельно, таким образом давая понять, что отвечать может кто угодно из троих.
А они стоят молча, мнутся и не произносят ни звука, словно проглотили ушат воды и боятся теперь его наружу выплеснуть. Бледные, испуганные и кажущиеся такими юными неожиданно, хотя все они здесь примерно одинакового возраста.
— Право, Паша, Матвей, Семен – вы как призрака увидели! Не смейте говорить, что правда – никогда в это не поверю и вам ли заниматься такими детскими розыгрышами? – она пытается пошутить, чтобы сбавить эту серьезность, чтобы развеять застывшее на их лицах выражение потрясение, которое ей совсем не нравится, потому что отчего-то кажется, что оно касается именно ее.
И снова мурашки нехорошие побегут по телу и отчего-то станет прохладнее, хотя с вечера в комнате затопили печку изразцовую и жаркое пламя то и дело потрескивало в ней. Нет, в комнате тепло было, это она начинала замерзать. А за окнами ведь наверняка падают проклятые звезды, падают и падают, ах, если бы они только перестали!
— Цесаревна, — начинает Паша, очевидно наконец нашедший в себе силы заговорить. — Нам сказали привести Вас к Ее Величеству Вдовствующей Императрице по неотлагательному делу… — его голос дрогнет, дрогнет предательски и это словно подведет какую-то черту.
Ее вдруг что-то ударяет, ударяет с такой силой, словно нож в спину вонзили. И ведь она не знает каково это – к счастью ее такая участь миновала, но она отчего-то уверена, что именно такую боль при этом и испытывают. И неожиданно ясно она стала видеть эту бледность, это потрясение вперемешку с ужасом и неожиданно страшно стало самой. Куда страшнее это, чем увидеть мертвеца. Она подходит к ним ближе, неожиданно пристально вглядываясь в их лица. Своего голоса она не узнает, но говорит, кажется, она:
— Кто умер?
Вот так просто, с тупой болью где-то под сердцем, в которое эта догадка поразительное ударила и не отпускает. Их лица, юношеские, безбородые лица, вытягиваются в немом изумлении и так и пробегает немой вопрос: «Но как узнала, неужели опоздали, неужели так быстро разносятся вести?», а это лишь служит ей подтверждением. Губы вытягиваются в нить, на лицо словно накладывается неживая мраморная маска. Маска, которую многие носили, которую надевала ее мать, маска, которую она обещала себе никогда не надевать. И неожиданно чувствуешь ее холод и тяжесть на своем лице, чувствуешь, как она с ним срастается и обещает стать твоим верным спутником. Не содрать. Не избавится.
— Говорите. Я узнала этот взгляд. Так смотрят – когда кто-то умер, я знаю. У вас руки дрожат – руки не врут. Ну же, я жду – кто? — короткие фразы неожиданно осипшим голосом произносит, как если бы много говорить ей было тяжело.
Они не отвечают, мнутся, бормочут очевидно сказанное приказание, а она пытливо смотрит на них и неожиданно охнет, отшатнется, когда новая догадка ударяет в грудь. Лиза медленно замотает головой. Если ночью позвали – значит умер кто-то важный. Если к матери позвали ночью – значит умер кто-то близкий и об этом надобно знать. А единственный близкий, кто находится не с ними, кто находится далеко, единственный и родной… Лиза мотает головой, а они смотрят на нее и она угадывает в этих взглядах жалость, вперемешку с искренней печалью.
— Нет.
Просто и коротко, пожимая плечами, отсекая любую возможность этого события.
— Нет, не может быть.
Ей и не нужно туда идти, чтобы это сказать – нет, такого быть не может, это попросту не могло случиться с ней, с ним, с ними. Все это просто чудовищная ошибка, а может она просто уснула и ей снится дурной сон. Да, просто нужно проснуться. Если бы только знать, что это вся предыдущая жизнь оказалась сном, а вовсе не этот ужасный миг. Это как раз реальность.
— Нет, он не может умереть, это же Саша, он всегда возвращается, он мне всегда обещал, мне обещали! – рвется уже криком из груди, прежде чем она отталкивая от двери пажей выбежит вон в длинный коридор с множеством дверей, босоногая в одном халате уже нараспашку.
И Лиза снова бежит, как когда-то в детстве бежала прочь из-за обиды на несправедливое наказание, бежит шлепая босыми ногами по холодному дворцовому паркету, бежит сквозь эти бесконечные двери. Одна. Вторая. Третья. Прочь, прочь, прочь. Мимо портретов отца, мимо дорогих картин, мимо молчаливо-безразличных скульптур, мимо многочисленных зеркал. Четвертая. Пятая. Шестая. Портреты не отзываются, портретам давно умерших людей все равно – больно живым. А она все бежит, бежит вопреки, бежит назло, словно чем быстрее бежишь, чем отчаяннее твой бег, то можно все исправить. Седьмая. Восьмая. Девятая. Бесконечный коридор места, которое было домом, а теперь кажется бесконечно чужим. А в ушах звенит, звенит его смех, звучит его удивленный окрик: «И куда ты так несешься – расшибешь себе нос и кто тебя такую полюбит?». Бежать, бежать по известным тебе коридорам, через которые ты можешь пройти с закрытыми глазами, бежать, чтобы не слышать этот голос, потому что он ж и в, а если она его слышит, значит она поверила в то, что нет. Вот сейчас только добежать и убедиться, что это всего лишь ее глупость, если кто-то и умер, то точно уж не Саша. «Там они будут, где заря догорела. Это Вега, Денеб и Альтаир. Увидишь их и я вернусь. Непременно их высматривай». Десятая. Лиза останавливается, замирает у материнской половины. Замирает, не замечая даже как холод ступни сковывает, не замечает, что потеряла где-то тяжелый халат, не замечает, как тяжело дышит. И хочет было уже зайти, но замирает, оглушенная и пораженная нечеловеческим криком из-за нее.
— Нет! Мой мальчик! Мой сын! Нет! Только не Саша, не Саша, нет!
Неправда. Так не кричат люди, так воют раненые смертельно звери на охоте – именно поэтому не любила она охоты на крупное зверье, которое нужно добивать. Не могла так кричать ее мать – всегда спокойная, хладнокровная с маской равнодушия на лице. Она не плакала даже на похоронах батюшки, а уж сколько там было слез пролито. Она не может кричать т а к, тем более кричать т а к и е слова, ведь Саша жив.
Но она кричит.
И Саша мертв.
«Саша любит играть, что в карты, что с судьбой своей, что… с моей. Вот только я этого делать не позволяла. И этого не прощу».
А это уже ее собственный жестокий голос, слова сказанные в сердцах, слова, которые она исполнила, слова, о которых она теперь не просто жалеет – они убивают, жгут изнутри. Она ведь действительно с ним не разговаривала, а как вернулась, пообещала, что и вовсе никогда не простит, что он жестокий и еще кучу всего наговорила, прежде чем разрыдаться. А теперь он умер.
Лиза разворачивается, даже не пробуя зайти внутрь – это выше ее сил наблюдать за материнской агонией, наблюдать за горем от потери единственного сына, это выше ее сил. И она просто идет назад. Одна. Вторая. Третья. Бесконечная вереница все тех же дверей осиротевшего дворца. Ее сердце все еще бьется, хотя биться не должно, потому что это больно. Ей и дышать-то больно. Как может биться то, что только что отняли? Саша никогда не вернется. Четвертая. Пятая. Шестая. Саша умер. Седьмая. Восьмая. Девятая. Ее брата больше нет.
Лиза замирает у дверей парадных, а после недолго думая, открывает их, прилагая какие-то немыслимые для себя усилия – тяжелые двери поддаются и выпускают ее, босоногую на мраморное крыльцо. И только теперь она по-настоящему ощущает холод. Крыльцо занесено слоем снега, но она не обращая на это внимание, спускается вниз, а холод въедается под кожу. Морозно. И небо ясное. И нещадно треплет февральский ветер, гоняющий поземку ее тельце, ничем уже толком не прикрытое, но она и этого не замечает, бредет вперед не разбирая куда и зачем. Снег под ступнями колючий и ледяной, а изо рта вырывается облако пара. Лиза поднимает голову к небу. И оно сияет над ней красивое и безразличное к потерям и проблемам и сияют миллионы звезд на нем, как сияли и до этого и будут сиять и дальше. А Саши нет.
И она молчаливо опускается на засыпанную снегом землю, постепенно коченея, упираясь в землю одной рукой и обхватывая себя другой. Может, она плохо молилась, молилась недостаточно, да и молилась ли вообще? О чем она думала? От чего даже не допускала мысли о том, что кто-то может не вернуться? Она думала о любви? Запоздало приходит вялая мысль о том, что Кирилл Андреевич должно быть жив. Она ведь даже не знает подробностей его смерти. Как странно – слово смерть и Саша как-то не вяжутся между собой это как-то совсем противоестественно. Она так и не написала ему письма, не получила письма в ответ… Мороз пробирается под кожу, кости деревенеют – от русских морозов и шуба иногда не спасает, что уж там говорить о сорочке и босых ногах? Но у нее уже нет сил, чтобы подняться. Как он мог умереть, если всегда обещал вернуться? Как он мог умереть, если только недавно женился и стал счастливым? Как он мог умереть, если ей Кирилл Андреевич обещал, что они вернутся?
Она сидит одна на промерзлой земле и никто, кажется, уже не спасет, никого нужного не окажется рядом. Как холодно. Право, как холодно. Она не увидит его более никогда. Кирилл должен был вернуться, не может такого быть, чтобы не вернулся и не пришел к ней. Почему это рассказал не он. Не отпустили? Не захотел? Не смог? Нет, должен был смочь – только ему она могла поверить. Но его нет. Никого нет.
И словно в ответ на эти мысли агонизирующего разума подбегает кто-то, чтобы растормошить ее кажется одеревеневшее окончательно тело. Кожа теперь белоснежная все одно, что мрамор, которым облицовывают стены во дворце. Она своего тела не ощущает, но кто-то с усилием разворачивает к себе, прикрывает чем-то. Плащ? Шуба? Кто это?
«Лиза, пташка, не дури, застудишься совсем, а меня это не вернет, вставай милая, вставай и улетай».
«Сейчас не больно станет, гляди…».
— Елизавета Петровна, да что же вы… Я ведь знал, что нельзя вас отпускать одной! – голос над ухом не принадлежит Саше, но тоже знакомый, только чей?
Она медленно поднимает взгляд на взволнованное бледное лицо напротив. Без треуголки, с растрепанными светлыми волосами, Семен выглядит еще младше, нежели обычно. От него пахнет дворцовым теплом [может ли быть тепло в месте, где зашло солнце?...], прошлой счастливой жизнью и обещанием покоя.
Семен ухватывается за ее окоченевшие руки, наверное чего никогда не позволил бы себе в иных обстоятельствах, дует на руки пытаясь отогреть эти ледышки, плотнее накидывая плащ ей на плечи, создавая хотя бы какую-то видимость тепла.
— Вы же замерзли совсем! – в сердцах, отчаянно твердит он, вглядываясь в ее отсутствующее лицо. — Позвольте вам помочь…
То ли казался он в тот момент единственным живым существом на опустевшей планете, то ли от него веяло желанным теплом, которое напрочь испарилось из ее окоченевшего тела – она не знает и не сможет дать ответ после. Просто никого иного не было. И она неожиданно ухватывается за пуговицы его камзола. Пальцы слушаются плохо, но все же слушаются и она притягивает его ближе к себе, стоящего на коленях, прячет лицо на чужой груди и разражается не своим, совершенно диким плачем, на который она думала совершенно не способна. И он, ошеломленный, разбитый и возможно растроганный, поднимает ее, укрытую плащом на руки, позволяя ей продолжать плакать, теснее жаться к груди, позволяя делать это до тех самых пор, пока звезды не начнут водить друг с другом хороводы, а воспаленное сознание окончательно ее не покинет и она не провалится в такую желанную, ласковую почти что тьму.
_________________⸙♦⸙__________________
Весь ее мир погрузился, казалось в черный цвет. И не столь фигурально, сколько материально. Весь дворец, все слуги, все придворные дамы оказались одеты в черное. Черные наряды мелькали перед глазами черными бабочками – говорили, что таков приказ императрицы, которая более и не желала надевать ничего цветного и видеть цветное на других. За нарушение оного могла последовать расправа, так что все разумеется исправно носили этот цвет. Носили его шпалеры в зале, в котором готовились к принятию тела, носили его и кони, которых гоняли изо дня в день таскать повозку, весь Петербург носил его и у Лизы в какой-то момент от черного цвета просто в глазах потемнело. Саше бы, пожалуй, не понравилось бы такое – черный шел ему [ему все шло], но более долгих разговоров он не любил только долгие прощания, слишком длительную печаль. И вправду, печаль его солнечной натуре не подходила и идею годичного траура по своей персоне он бы, пожалуй, не поддержал, но кто же его теперь спросит? Почти наверняка, не хотел Саша быть забальзамированным – различные уродцы заспиртованные в банках в Кунсткамере, оставленные отцом и вовсе его пугали и однажды он сказал прямо, что лучше заживо сгореть, нежели быть выставленным на всеобщее обозрение. Но без этого, как Лизе деликатно кашляя пояснил распорядитель: «Никак нельзя обойтись, да-с. Тела имеет свойство разлагаться-с. И требуется это для его надлежащей сохранности-с при возвращении тела Его Величества для прощания…». Далее она слушать не захотела, вновь почувствовав себя дурно и удалившись. Так неправильно было слышать слово «тело» и понимать, что говорит он о Саше. Просто мертвое тело и ничего больше.
Лизе вновь повезло и ее ночные прогулки на морозе не имели для нее фатальных последствий. Очевидно, крепкое тело вновь не подвело – вопрос лишь в том, почему неизвестная хворь так легко подкосила Сашу. Но вряд ли ее вид можно было назвать хотя бы немного здоровым – лицо осунулось и сохраняло нездоровую бледность, под глазами спрятались тени. Возможно, она могла бы выглядеть и хотя бы чуточку лучше, если бы ела чаще одного раза в день, но даже этот один раз был целым подвигом, которым отчасти могли гордиться ее мальчики – именно они и заставляли ее проглотить хотя бы пару ложек безвкусной каши, выпить стакан молока, откусить кусочек свежей булочки. И как бы не упиралась она, не грозилась уставшим и безразличным голосом, что сошлет их куда подальше за такое упрямство, они то стоя на коленях, то еще каким-либо хитрым образом, но умудрялись уговорить ее съесть хотя бы один из приемов пищи – все остальные оставались нетронутыми.
Через несколько недель Лиза имела счастье лицезреть своих сестер, приехавших почти одновременно друг за другом, разумеется с детьми и мужьями. Они обнялись, расцеловались, поплакали – сделали все, что полагается таким близким родственникам, а после разошлись по своим покоям, словно бы и не встречаясь вовсе. Так странно, Лиза только теперь понимала, что в конце концов их связывал друг с другом разве что старший брат, но между ними никакой связи и не наблюдалось теперь, хотя русские люди любят повторять свою любимую присказку: «Кровь не водица». Она оказывалась для своих сестер слишком глупенькой, слишком своенравной и в конце концов несправедливо-избалованной отцом и братом. Девчонка, которой всегда позволялось больше, нежели им и вот, смотрите к чему это привело – скоро постареет, но так и не выйдет замуж, хотя должна была сделать это еще в 18 лет. Ее жизнь слишком отличалась от размеренного уклада их собственных жизней, поэтому, пожалуй, они и не знали о чем с ней говорить, предпочитая общество друг друга, а Лиза же их общества для себя и не искала. Лиза следила за организацией похорон, рассеянно в перерывах от этой мрачной деятельности, подлавливая себя на мысли, что они до странности похожи на не такую уж и давнишнюю коронацию. Все те же выверенные до шага маршруты, все те же процессии, тот же строгий церемониал, да только разница в том, что главное действующее лицо мертво. Сашу бы, пожалуй, столь пышные похороны бы позабавили, но он больше никогда не рассмеется на такие попытки себя похоронить. Он больше не рассмеется вовсе.
Лизино участие во всем этом наверное никто не одобрял – ни сестры, ни возможно матушка, на которую и вовсе было больно смотреть, но ей сие было глубоко безразлично. Она тихо умирала, как только оставалась одна в комнате, как только голова опускалась на подушку она снова и снова видела Сашино лицо, вот и представляла для себя лучшим выходом с головой уйти в любое дело, даже участие в драпировке черным сукном стен и закрытию зеркал – только бы вымотать себя настолько за день, чтобы ничего не чувствовать ночью и без сил рухнуть в кровать, забываясь сном без всяких сновидений. Лучше уж так, чем вовсе бездействовать. И уж точно лучше, чем вести беседы с сестрами, с которыми у вас общее разве что фамилия, да и та у них теперь иная. Лучше, чем слышать вежливые переживания о том, что Лизе нельзя оставаться без мужчины теперь, что Саша об этом совершенно не позаботился и так далее и тому подобное. Выслушивать это настолько невыносимо, что уж лучше слушать о том почему тело императора должно быть забальзамировано и выставлено для всеобщего прощания.
Тревожил ее, впрочем, не только тот факт, что Саше бы вся эта кутерьма не понравилась – слишком трагично, слишком печаль, пусть и с размахом, как он любил. Было еще кое что, о чем наверное думать не стоило, но она упрямо думала. Она ждала, что он все же придет. Она ждала первые дни особенно остро, словно осиротевший ребенок ждет единственного оставшегося в живых родственника. Она ждала, высматривая его в окнах, поражаясь, насколько это иногда отвлекает от тягостного ощущения потери, которое грызло ее изнутри и пожирало ночами. Кирилл был последним, кто его видел и единственным, кого хотелось выслушать. Вот только его не было. Пажи, уже угадывающие по вскинутым на них глазам, молчаливо качали головами. «Нет, не видели», «не приходил», «не спрашивал», «сегодня не видели» и т.д. Лиза думала о том, что он возможно просто не приехал и приедет вслед за шествующим в столицу телом императора [каждый раз, когда она думала о предстоящей встрече ей становилось дурно]. Возможно, он заболел. Возможно ранен, возможно лошадь захромала и еще тысяча уважительных причин, по которым его не было здесь, по котором его не было рядом. Неужели он не знает, неужели не понимает насколько он сейчас нужен здесь? Неужели не понимает, что он единственный, кто знал Сашу также хорошо, как и она и способный ее понять? А если понимает, то боже мой, как жестоко и несправедливо с его стороны не приходить.
Лиза перестала спрашивать о Волконском только тогда, когда однажды Семен оторвал ее от перечитывания порядка следования траурной процессии: сначала семья, она должна идти третьей или четвертой в зависимости от того как будет идти Наташа, после придворные… Семен просто коротко сообщит о том, что Кирилл Андреевич, как известно в Петербурге и уже достаточно долгое время. А следовательно, просто не посчитал нужным по крайней мере принести свои соболезнования. Как странно и как на него не похоже.
И в другой раз Лиза бы дозналась до правды, непременно дозналась бы, но сейчас покойнее ухватиться за самое простое – а просто не пришел. На большее у нее попросту нет сил.
***
— Елизавета Петровна!
Она оборачивается на голос [увы, совсем не того человека, которого так хотелось видеть] с некоторым удивлением разглядывая несколько одутловатое лицо Михаила Михайловича Самарина, который спешил к ней на всех парах, поспешно и торопливо для своего возраста огибая случайных прохожих в парке и придерживая рукой сенаторский парик. Генерал, один из участников Северной войны [впрочем найдите в стране человека мужского полу, кто не принимал бы в ней участия] теперь стоял перед ней, тяжело дыша – не при его возрасте и несколько полноватом телосложении носиться так по паркам, а она и не заметила насколько быстро шла, почти бежала, лишь бы оказаться в блаженном одиночестве и как можно дальше от опостылевших за это время траурных стен и собственных родственников.
— Я надеюсь, что не оторвал вас ни от чего важного. Вы бы не были против пройтись со мной недолго, скажем, до того дерева – клянусь, я не задержу вас более.
— Ну что вы, Михаил Михайлович, пожалуй я пройдусь с вами с удовольствием, это лишний повод не торопиться возвращаться, — она устало качнет головой, принимая протянутую руку и уже куда более неторопливо следуя за ним, пряча другую руку в черную муфту. Погода стояла удивительно солнечная, противореча окружающей Петербург печали – возможно, солнце просто чувствовало скорое приближение Саши, вот и выглянуло может быть в последний раз, осветить его… гроб. Птица сядет на ветку и прочирикает что-то о приближающейся весне.
Сначала они идут молча, после он как и все вокруг приносит «искренние соболезнования», а Лиза наизусть может перечислить то, что он скажет следом. Невосполнимая [еще бывает горькая, ужасная, страшная] потеря для страны, он был так молод, он мог сделать так много, не описать всю боль, примите соболезнования и далее по списку. Это черно, это ужасно, но Лиза даже умудрялась шутить над этим, передразнивая мысленно сановников и развлекая себя мысленно тем, что станет он говорить следующим. Удивительно – но она всегда угадывала. Такое чувство, что все говорят по какой-то книжке, а ей ее не показывают. Неудивительно, впрочем, они же его совсем не знали. Совсем не знали.
— Елизавета Петровна, простите покорнейше, что спрашиваю, но вы задумывались когда-нибудь о будущем вашем? – после стандартного обмена словами «невосполнимая утрата» и «спасибо, генерал» начинает Самарин, пока они неспешно плывут по усыпанным снегом узким тропинкам.
Она покачает головой, а ветер теперь только и делает, что бесконечно холодит шею.
— О будущем ли теперь думать, Михаил Михайлович? Я осознала, что нельзя загадывать даже на сегодняшний день. И если честно сейчас я нахожусь в таком состоянии, что никакого будущего и не наблюдаю.
— О будущем стоит задумываться именно теперь, Ваше Высочество, — смеет возразить генерал, покачивая головой. Очевидно это именно то, о чем он и собирался говорить с нею. — Его Императорское Величество не оставил наследников и очевидно, не оставил никакой воли после себя. У нас не так много времени, поэтому спрошу вас прямо – никогда ли вы не задумывались о том, чтобы престол принять?
Лиза хочет было остановиться, замереть то ли в ужасе, то ли в удивлении, но Самарин не дает, упорно провожая ее до конечного пункта, словно чего-то опасаясь, слежки ли или того, что она после этого сбежит. Сбежать, право слово очень даже захотелось. Лиза думала, что теперь ее сердце уже ничего поразить не может, но кажется остались в этом мире вещи способные изумлять.
Лиза исхитряется все же взглянуть в лицо Михаила Михайловича, чтобы убедиться, что он не потешается над нею и уж конечно же не пьян с горя, но с удивлением для себя отмечает, что он кажется абсолютно серьезным. Престол? Ужасно тяжёлая императорская корона? Она, младшая дочь императора, которую как только не называли, но уж точно не наследницей престола. Да и всем известно – женщины в России не наследуют трон, на то они и женщины. Станет рядовой в гвардии подчиняться приказом девицы [а уж честнее сказать бабы]? Нет, кем она только не была – разменной монетой в делах свадебных, будучи невестой то французского короля [от чего и знала так хорошо французский], то голштинского герцога [не слишком удачно], но никогда не заговаривал отец с нею о престоле, да и ни к чему – всегда был Саша. Вот кто для него воспитывался.
Вот только Саши больше нет. И Наташа насколько ей известно не была беременна. А что тогда? Батюшки, чтобы спросить, нет. Не спросишь и Сашу. Но представить себя на его месте – немыслимо, невероятно. Да как может кто-то занять его место? Да и как можно об этом говорить теперь, разве не предает это его памяти?
— Позволю заметить себе, Михаил Михайлович, - голос зазвенит холодом. — что тело моего брата-императора вот-вот окажется в столице, а вы спрашиваете меня хочу ли я занять его место и задумывалась ли я об этом? И потом, простите, но это же вздор! Я младшая в нашей семье, есть мои сестры, да только что толку – не мне вам напоминать, что я женщина!
— Это было вздором, пока ваш брат был жив и здоров, Ваше Высочество. Теперь же вы единственный прямой потомок Петра Великого, вы Романова и ваша кандидатура как мне кажется является наиболее вероятной.
Кандидатура, занять престол, единственный потомок – возможно она все ещё спит и снится ей, как ее вдруг решили сделать императрицею. Вот бы Самарин сказал это при ее сестрах, чем не мало бы их позабавил. Наверняка кто-нибудь сказал бы: «Да небеса померкнут, когда на престол сядет Лиза!». Она горько усмехается.
— Я младшая, Михаил Михайлович.
— И вы не замужем, — продолжает он гнуть свою линию тем временем, пока они удивительно спокойным шагом движутся в сторону того самого дерева. Над головой захлопают крыльями голуби, словно бы узнавая свою хозяйку и пытаясь привлечь ее внимание. И она коротко свистнет, призывая кого-нибудь из них спуститься. Один пестрый голубь первым откликается на зов, пикирует с неба и удобно устраивается ворковать на ее плече, укрытым темной соболиной накидкой. — Вы не замужем и у вас нет детей, в отличии от ваших сестер.
Впервые это прозвучало не как недостаток, а скорее как выгодное достоинство. И вновь она горько усмехается, чего ее собеседник, впрочем, не замечает.
— Ваши сестры отказались от прав на престол как только вышли замуж. Поэтому, я убежден, что наследником стоит объявить вас. И я спрашиваю вас о том, что ежели бы это случилось – готовы ли вы к тому?
Лизе так и хочется ему ответить ещё одной русской поговоркой [а что русский народ всегда довольно меток в своем устном творчестве. «Если бы да кабы». Слишком много здесь ежели, да возможно. Но он ждёт ответа от нее, заставляя против воли об этом задумываться. Задумываться о том, о чем она не думала никогда в жизни и времени у нее на это каких-то жалкие десяток метров, за которые они достигнут треклятого дерева. У Саши так и не случилось детей – чудовищная несправедливость, но это действительность. Наташа никогда не сможет стать императрицей – не только из-за происхождения, но и хотя бы потому, что никогда того не захочет. Матушка? Вдову Петра Великого были бы, пожалуй, рады видеть на троне, да что толку, она не здорова и это тоже все знают. Лиза поднимает голову к беспечно-голубому небу на один-единственный миг и вправду представляя себя в роли императрицы, которая здесь всем повелевает. Управлять огромной страной, возможно закончить постройку кораблей и разобраться с начатой войной – и все это она, она одна? Немыслимо. Но хотел бы этого Саша? Представлял ли свою взбалмошную сестру на своем месте и не боялся ли, что заведет она огромный корабль совсем не в ту гавань?
— Ежели бы на то была воля моего брата, закона, Сената или народа, то я бы подчинилась им, — тщательно подбирая слова заявляет Лиза, наконец, стараясь с внимательными взглядами Самарина не встречаться и считая, что достойно на его вопрос ответила.
— А если её не будет? Да, завещания нет, но готов поклясться, что выбирая между вами и прочими, народ и гвардия изберут вас – наследницу законную.
— Михаил Михайлович, — она делает над собой усилие, чтобы не взорваться, не повысить голос и не остановиться. — Ежели занять престол таким образом, каким вы предлагаете – это переворот. Это кровь, это расправы, это в конце концов грех! Нет, я ни за что на это не пойду, я не стану после смерти любимого брата втравливать страну в кровопролитие! Это же смута!
Голые ветки раскидистого дуба уже совсем близко от них. Они как корявые пальцы какого-то старика-великана пытаются дотянуться до голубого свода небес. Саша в детстве любил придумывать сказки про этот самый дуб. То он был великаном, заснувшим и превратившимся в дерево, то рыцарем, которого злая ведьма превратила в дуб, не желая отпускать к возлюбленной. Саша умер. А дуб остался и возможно переживет и ее. И боже, боже мой, как же не хватает ей Саши! Как же не хватает…
— Смута будет, Ваше Высочество, если на престол взойдете не вы. На заседаниях Сената встаёт вопрос о наследии трона вашим двоюродным братом, но поверьте мне – в этом случае править будет его отец, хорошо вам известный.
Лиза даже не сразу понимает о ком он ведёт речь и только потом осознает, что кажется о Васе. Ну да, он же ее кузен, пусть она никогда и не думала о нем в таком роде. Если уж признаться честно представить Васю в короне ещё более нелепо, чем себя. А как же Борис Федорович? Он всегда был рядом с ними, почти родной дядюшка, который правду сказать имел с Сашей в последнее время ужасные разногласия, но все же … править? Не укладывается в голове, невозможно это толком понять. И к своему удивлению от самой себя она интересуется:
— И кто поддерживает подобные мысли?
Интересно становится до болезненного любопытства, кто в Сенате, организованным ее отцом стоит на стороне династии, а кто в подобной ситуации решил, что и династии больше нет. И вправду – уж лучше Вася, побочная ветка, зато мужчина. А женщина… женщина это не династия, выйдет замуж и сменит фамилию. Женщина никогда правит не будет. Так?
— Князь Голицын, возможно Мусин-Пушкин. Я допускаю в сомнениях Стрешнева. Борис Федорович лицо заинтересованное и в голосовании участвовать не может. От себя же хочу сказать, что всецело в случае чего предан Вашему Высочеству. Так же я думаю скажет князь Вяземский, с которым мы имели некоторую беседу.
«Он греет себе место в случае того, если эти безумные мысли сработают, заверяя в преданности. Но кто же предан несмотря на обстоятельства?...» - промелькнет рассеянно и улетучится. Нет, не до престольных ей мыслей. В конце концов, пусть это будет хоть Вася, хоть с черт с горы, а она устала, устала, устала.
Они как раз достигают дерева, Самарин целует ее руку, ещё раз говоря о том, что ей следует подумать, прежде чем удалиться, а она качает головой. Как угодно – только не кровь, убийства и потери. С нее достаточно. Со страны, наверное тоже.
Ох, если бы только знала, что предстоит пережить – согласилась бы со словами старого сенатора не задумываясь, отделавшись малой кровью. Но стране видно необходима была кровь большая.
_________________⸙♦⸙__________________
С любимыми не расставайтесь
Всей кровью прорастайте в них,
И каждый раз навек прощайтесь
Когда уходите на миг
Лиза, наконец, встретилась с Сашей, наконец увидела его и теперь стояла рядом с гробом, в котором он лежал и не могла отвести глаз от его лица. Радует, что вуаль надёжно скрывает лицо собственное – иначе все бы решили, что она тоже чем-то больна, а на заседании Сената их окончательно похоронят вместе с Сашей. Лиза смотрит на его необычно-умиротворенное лицо и не может понять, что же тут не так. Кажется, что он просто спит, а ещё немного и откроет глаза, обведет взглядом окружающих и расхохочется звонко так, как только он один умел и скажет: «А ну как я вас разыграл, а?». Но Саша все лежит и лежит в украшенном серебряной парчой гробе, лежит так смирно, как никогда не мог лежать за всю свою жизнь, слишком в этом похожий на отца – попробуй заставить его так чинно сложить руки на груди и спать так мирно. Одно радовало – невинно-покойное выражение его лица, словно видел он прекрасные сны, от которых совершенно тоне хотел просыпаться. Словно перед смертью он увидел нечто прекрасное, а вовсе не был на войне и не страдал ни от какой болезни, следов которой не обнаруживалось более на его теле, да так и заснул с блаженным выражением лица. Но что-то все равно было не так.
Лиза стоит около его гроба черным изваянием, стоит не шелохнувшись и все смотрит на тело, которое определенно принадлежало его брату, которое умудрились доставить в столь… хорошем состоянии, что он и выглядит-то почти живым. Но что-то с ним было не так. И дело не только в чуть слышимом аромате медикаментов, которые применялись при бальзамации или несколько отличном цвете кожи – при свете свечей Печальной залы оно отдавало болезненной желтизной. Нет, не только в этом.
Дрогнет вуаль от ее дыхания – длинная, касающаяся сцепленных перед собою рук. И тут она неожиданно понимает, что же ей кажется таким странным. Саши здесь не было. Да, было тело, идеально сохранившееся и похожее на ее брата всем, но это был не Саша. Саша это ведь про жизнь во всех ее проявлениях, про быструю верховую езду на коне, которого только он, кажется, смог приручить, про бесстрашные драки на шпагах, танцы с прекрасными дамами; Саша- это про солнечный свет, отражающийся в его улыбке и светлых волосах, которые в этой зале казались необычно темными для него, про белый ослепительный цвет, про постоянные и порою невыносимые шутки и извечные выдумки, проекты, дела. А здесь все плачут, все темное, все неподвижное и застывшее. Нет, Саши здесь не было. Оставалось только тело. Проблема состояла лишь в том, что она не сможет отправиться туда, где он теперь находился. И боже, боже мой вот что и вправду было невыносимым!
Лиза крепче сжимает руки в кружевных и тоже разумеется черных перчатках – как ей казалось, черный цвет ей не шел. Она не может и не хочет плакать, когда вокруг все эти люди, многим из которым все равно, да и совершенно не хочется показывать ни одной из своих эмоций здесь. Она выплакала, казалось, все слезы там, на холодном плацу перед собственным дворцом [надолго ли теперь этот дворец ее собственный?], на несчастной груди Бестужева, так что на главное действо сил и главное слез не осталось. Она лишь продолжает стоять, стоять рядом с такой же каменно-неподвижной матерью и Наташей, Наташей, которую она точно также, как и Сашу увидела только теперь и то разглядеть могла только ее затылок, окружённый черным флером куда более плотной, нежели у Лизы, вуалью. Наташа стояла на коленях у гроба человека, который совсем недавно сказал «да» пред алтарем, а в церковной тишине над ними обоими торжественно хор пропел: «Аллилуйя». Она удерживалась руками за край, ее лицо было обращено к нему, как и все ее существо, трепетное, потерянное существо, с которым жизнь обошлась так несправедливо. И по губам, которые двигаются казалось в совершенно невнятных словах Лиза к своему удивлению читает простое: «Ну вот ты и вернулся, Сашенька. Увидела тебя ещё разок». И вот тогда Лиза снова не выдержит, прикрывая глаза и чувствуя, как слезы одна за другой потекут по лицу, оставляя холодные мокрые дорожки по щекам. Перед глазами поле, по которому несётся карета и Сашка, который скачет рядом, который откуда-то черт знает откуда достает охапку цветов, который кричит: «Люблю!»; который стоит на одном колене при огромном скоплении людей и делает ей предложение, Саша, который дарит Лизе щенка, представляя своего друга, расписывая все его достоинства… Его друга…
Лиза потерянно поворачивается, отводя взгляд от того, что вместо Саши осталось, обводит взглядом толпу, что сжималась за их спинами и тут, среди десятков лиц находит одно-единственное, которое, как оказалось искала все это время. Он, кажется собирался уходить, но как же это может быть, когда ему наоборот следует пробираться сюда, к ним. К ней. Она не знает, возможно ли разобрать выражение ее лица сквозь черную вуаль, но наверное оно и к лучшему, если бы было нельзя – ведь оно меняется на глазах.
Она смотрит на него безотрывно, вопрошающе, умоляюще. Вот-вот, наверняка он теперь подойдёт, наконец-то подойдёт, потому что только ему здесь доподлинно известно кого они оплакивают, кого о н а оплакивает. Конечно он подойдёт, Лиза даже было дернется вперёд на пол шага, но после вновь встречается с его взглядом и не делает больше и шагу. Перед глазами все плывет и расплывается, а он так далеко, что разобрать что-то, кроме знакомой фигуры и лица сложно, сложно.
Он не подойдёт. И она это понимает. Ее оставят здесь о д н у по неведомым ей причинам и это, кажется, не менее больно, нежели потеря брата. Терять их обоих. Она посмотрит на него ещё пару мгновений, пристально, печально, но уже, кажется смирившись.
«От чего вы бросаете меня, Кирилл Андреевич?» - она спрашивает это, но не произносит ни слова.
«Почему вы оставляете меня именно сейчас, когда Саши не стало? Разве вы не понимаете что нужны мне не где-то там, позади, а рядом со мной?».
«Со смертью Саши могло измениться все на свете и изменится, но неужели первым станете вы. Не уходите. Не уходите. Не отворачивайтесь…».
Но она и сама отвернется, совершенно верно как ей кажется для себя истолковав его намерения, отвернется обреченно. Наверное, не суждено. Не суждено случиться ничему из того, о чем она когда-то задумывалась. Но было это в той, другой жизни, в которой Саша был жив. А теперь его нет.
Борис Федорович протягивает ей руку, на которую она с благодарностью опирается и оно покидают залу – впереди ещё так много прощаний, что и им и Саше остается набраться терпения.
Только Наташа остаётся там, стоять на коленях, словно и не слышала и не заметила, что семья императорская ушла. Но никто мне подумал нарушать покой овдовевшей императрицы слишком молодой и прекрасной в своем горе, чтобы называться вдовой. Никто не подумал разделять их теперь. Никто не посмел.
***
Черное, черное, черное. Оно ведь повсюду: на флагах, которые взвились над Адмиралтейством и дворцом, в одежде всех без исключения, на попонах лошадей и все неизменно черное – того и гляди перепутаешь собственную сестру взглядом с какой-нибудь фрейлиной до того приелся этот цвет. В Петропавловском соборе [давно ли отпевали здесь батюшку и вот снова, опять] людей казалось набилось куда больше, нежели на улице – нескончаемые черные волны, все прибывают и прибывают, а ведь присутствуют здесь только наиболее близкие, остальные в первых рядах за пределами каменных стен. И в соборе вроде бы покойно, слышится столь любимое ею церковное пение, которое напоминает о тех беззаботных как оказалось днях, когда пела на клиросе, влюбилась в Ваню и все было так п р о с т о. Громом в голове загрохочет Наташин голос, что у них с братом одна беда – не видят они препятствий и все у них просто решается. И только теперь осознала Лиза, стоя перед гробом, который еще так не скоро предадут земле [а ведь довольно, довольно – его надо отпустить, оставить в покое и дать людям отгоревать без всего этого маскарада!], в чем было дело. А дело было в том, что не сталкивались они никогда со смертью. Да и с чем бы то ни было серьезнее простой простуды.
Тяжкий день. С утра свету нет. Густой туман расстилается по городу… за туманом не видно крепости – виднелся только развивающийся черный флаг, словно ее захватили пираты. Саше бы понравилось подобное сравнение. Чуть позже прояснивается, словно ветер прилетел попрощаться, а солнце, что всегда о Саше напоминало сжалилось над этим черным немыслимым адом и выглянуло, рассеивая и туман и тучи февральские.
Служилась первая панихида о новопреставленном рабе божием Александре. Мерцают свечи в руках собравшихся, уносится ввысь панихидное пение хора.
Чудно поют певчие. «Блаженны непорочнии»… Лиза стоит неподвижно – мелькает перед ней лицо Владыки. Кажется, за это время она действительно научится не двигаться совершенно. Служба идёт. – «Упокой, Господи, душу раба Твоего». Стройно и торжественно повторяет хор: «Душу раба Твоего». – Прочли Апостол и Евангелие – «яко не ищу воли Моея, но воли пославшаго Мя Отца». – И вот наступила тишина. Митрополит прочёл отпускную молитву; Лиза видит со своего места, как он поклонился гробу, прежде чем отойти в сторону. Так странно, так неправильно – она уже видела это, когда хоронили отца, но совсем иным казалось хоронить и прощаться на панихиде в соборе с Сашей. Батюшка болел и все знали, что он уйдет, а Саша был здоровым и таким молодым, что все это казалось противоестественным, словно они все исполняют какие-то роли в выдуманным Сашей же спектаклем.
Певчие запели: «Зряща мя безгласна». Дивные слова звучали скорбно, но и как-то особенно – светло. Лиза держит в руке свечу, периодически, словно во сне, заполненном запахами ладана и цветов вперемешку с еловыми лапами – черт знает откуда удалось достать цветы. Быть может оборвали все дворцовые оранжереи. Свеча дрожит в руках или же это сама Лиза дрожит, чувствуя невозможную слабость. Чей-то голос над ухом неожиданно заботливо обещает, что скоро все закончится. Вася, который теперь уже без пяти минут новый император стоит чуть позади от нее, слегка сжимая ее плечи – она и не заметила, совершенно увлекшись собственными мыслями, пением хора, а также службой. Может быть и стоило поблагодарить его за заботу, но вместо этого неожиданно зазвенит в голове предательское: «Это могли бы быть Вы». Даже мысленно она называла его исключительно вежливо, но теперь это высокопарное «Вы», казалось каким-то разделителем, каким-то бесконечно отдаляющим их друг от друга. Пока они мрачной процессией двигались до Петропавловского собора, Лизе на миг показалось, что она слышала знакомое ржание, которое только Плутону могло принадлежать. Саша всегда говорил, что оно у него совершенно особенное. Но ведь и вправду могло только показаться – мало ли сколько десятков лошадей следовало за траурной процессией? Ей просто померещилось.
Отходят прочь несущие дежурство у гроба дворяне, давая место для «последнего целования». И Лиза замирает в ожидании это страшной минуты. Первою быстро подошла Императрица-мать и опустилась до земли у самого гроба, её поддерживали Борис Федорович и фельдмаршал Шереметьев. Долго голова её касалась подножия гроба. Потом быстро встала – подошла – поцеловала – взглянула – ещё поцеловала – зашаталась, и её отвели. Попрощался с Сашей и будущий Император [ведь теперь все наверняка решено, судя по словам Самарина], правда казалось через чур поспешно, словно опасаясь, что Саша чего недоброго выскочит из гроба и закричит, что это какая-то ошибка. Подошли к гробу и ее сестры. Наташа, которая как и в Печальной зале стояла на коленях теперь, укрытая черным кружевным платком, с места не двигалась. Наверное, никогда в своей жизни Лиза не забудет выражения ее лица, а особенно выражение глаз. Она не плакала, но лицо ее оказалось искажено ужасом, было казалось еще бледнее Сашиного. Возможно, дело в том, что Наташа еще с объявления о смерти его не покидала дворцовой церкви, простаивая там без еды и воды, не подпуская к себе никого, а может в эту минуту она действительно с ним прощалась. Лицо ее сохраняло эту неживую неподвижность и глаза ее оставались такими же остекленевшими и тут Лиза поняла, что приходит ее очередь и что она к этому совершенно не готова. Зашепчет кто-то: «Ваше Высочество…», но она лишь замотает головой. Не надо, не заставляйте, не надо. Но все же приходится, приходится подойти, наклониться, приложиться сухими губами к мертвенно-холодному лбу, отойти поспешно. Дальше не разобрать кто и как подходил – сенаторы, военные, важные и высокие чины. Но как только крышку гроба начнут закрывать она дернется вперед, дернется еще раз, кажется в последний, чтобы еще раз п р о с т и т ь с я, пока не пропоют «Вечную память» и он не останется здесь. Минута страшная – и удивительная по своей простоте и правде… Минута, в которой ты, по сути одна. Раздались выстрелы. Казалось, все в соборе проникнуты одним порывом.
Поделиться42024-05-20 20:55:03
Когда выходишь из собора на тебя накатывает солнечный свет непривычный после теплого полумрака, который внутри окутывал, приходится сощуриться – вуаль душит, поэтому и подняла ее, подставляя радостным и таким неподходящим к событию этому, солнечным лучам лицо. Площадь перед собором заполнена полностью, к ней пажи подходят, а она благодарно-устало улыбается, вдыхая воздух стылый полной грудью, как из огромной толпы отделится чья-та сгорбленная фигурка, ринется к ней, падая на ступени каменные. И Лиза было отшатнется от неожиданности, кто-то встанет перед ней, очевидно перекрывая ее и заодно всю царскую семью от возможного нападения. Да только нападающим оказывается всего лишь уже совсем постаревший старый солдат, в котором она неожиданно узнает того самого Семенова, который когда-то отправлялся с Сашей в первый его серьезный военный поход.
— Нет-нет, не надо, зла он мне не причинит! – предвосхищая взмахи шпагами со стороны собственной охраны. — Вы ведь Михаил Иванович. Я вас милый помню, помню…
Но подниматься и как-то смотреть на нее старик отказывается, стоя на коленях на каменных ступенях, качает сокрушенно головой и оттирает слезы. Неожиданно искренние слезы – можно было бы подумать, что набрался где-то, но нет. Чистенький мундир, пусть и старый уже и ордена памятные на нем, но старый солдат плачет, оттирая слезы рукавом.
— Простите, барышня-цесаревна, простите нас, не уберегли, обещалися, но не уберегли нашего Императора, подвели, потеряли нашего Императора, не уберегли, нет… - и мелко трясется седенькая голова старческая.
Лизе приходится опуститься следом за ним, приобнять за плечи, заставляя подняться, растроганная как обычно это бывало такой простой любовью к ее брату, которая стоила всех высокопарных речей и соболезнований. И ком в горле застрянет, как только посмотрит в эти честные глаза простого человека, который не побоялся вот так подбежать, кинуться под ноги, хотя мог быть бит или выпорот, лишен своих несчастных наград, просто чтобы сказать лично, как ему жаль.
— Ну что ты, милый мой Михайло Иваныч, — она теперь уж точно плакать не может. — Ни меня, ни Императора вы, наша гвардия не подвели – вы ему все преданно служили и служите. И я благодарна вам безмерно.
Толпа загудит неровно, взволнованно, а она, провожая глазами Семенова, неожиданно, не желая уже того совершенно сталкивается взглядом с Кириллом. И на этот раз ее взгляд неприкрыт вуалью, не прикрыт ничем и она боится, что в нем он прочитает безмолвный крик: «Ну подойдите, подойдите же ко мне, что же вам так мешает, кто же оказался таким пугающим, что рядом со мной в такую минуту кто угодно – Вася, мальчики, старый добрый солдат, но только не вы?». Но переживать не стоило – потому что он отводит взгляд первым. Да будет так. Да будет, к черту так. И Лиза сама отворачивается, позволяя помочь усадить себя в карету. Прочь, прочь, прочь, хотя бы на некоторое время.
— Это жестоко с его стороны, вот что! – Семен, вспрыгивающий на коня, так себе впрочем клячу, присланную отцом из имения, но очевидно князь на этот раз не особенно собирался расщедриваться. — Что ему черт возьми мешает? Недостаточно ей страданий? Он трус – вот что! – запальчиво, гневно и непримиримо вырываются эти слова, как только тронутся они вслед за бесконечной процессией обратно, оставляя тело императора внутри собора. — Вызвать бы его на дуэль, честное слово!
Семен злится. Злится от части от того, что Волконский ведет себя подобным образом и думает, что никто такой перемены не замечают. Злится от части и от того, что это не на него так жалобно и умоляюще смотрит самая прекрасная из существующих когда-либо на этой Земле женщин. И ведь она может ничего и не говорить ему, но он все равно все видит, как видел всегда. Сначала этот Кречетов, каналья, а теперь вот это и все, все, совершенно все делают ее несчастной, а он…а он беспомощен, потому что на него она так никогда, кажется не посмотрит. Для нее он – один из трех ее «верных мушкетеров», «ее мальчиков», перед которыми и переодеваться не стыдно дай бог. Он – незаконнорожденный ребенок князя, но и эти особым благородным происхождением не отличаются. А может рвануть на войну, совершить какой-то подвиг, а после вернуться, упасть к ее ногам в офицерском мундире и с гордостью сообщить, что он полностью принадлежит ей одной?
И даже на сцене, где обыкновенно хоть что-то у Семена получалось, где был реальный шанс показать себя, его место занял человек, которому теперь даже духу не хватает просто к ней подойти.
— Бестужев, ей богу, сейчас цесаревне не достает только разве что дуэлей, — Паша как обычно самый рациональный из них, мнящий себе заодно самым старшим [хотя старше был всего на пару месяцев] легко вскакивает на лошадь следом. — да и потом всему должно быть объяснение. Сейчас над нами всеми тучи висят и кто знает – какие теперь над ним.
— Ох, господа, тоска от всего этого ужасная, пожалуй черный будет мне сниться, но все же в толк не возьму одного. Как это наш Александр Петрович так заболел? — Матвей едет следом, равняется с их лошадьми. — Сдается мне – а тучи весьма черные, а?
— Ты бы болтал меньше.
— Да уж, теперь, пожалуй что всем стоит болтать поменьше, — Строганов кивнет молча на карету, где теперь восседал император, над которым даже они имели свойство подсмеиваться.
***
Лиза не знает, что здесь делает. Прошла кажется целая вечность, прежде чем вернулась она обратно, в этот собор, где мирно кадит священник кадилом, где теперь по сравнению с первым днем тишина, а лицо Саши кажется пожелтело еще сильнее и теперь он все более напоминает простую восковую куклу. Даже после смерти никакого покоя. Нет, она пришла вовсе не за тем, чтобы в очередной раз попрощаться. Она пришла потому, что ожидала найти здесь его друга и не обманулась совершенно в своих намерениях. Здесь спокойно, тихо и правда сказать никому до них дела нет. Разве что Саша бы сказал, что они теперь разводят комедию какую-то, вместо того, чтобы преданно его оплакивать. Боже, она продолжает с ним беседовать даже мысленно, давно отпустив его, давно определившись, что он правда умер. Значит не смогла. Не отпустила. И все же, она пришла сюда совершенно одна [что в последнее время делать все сложнее, потому что внимание к ее персоне неожиданно усилилось] просто чтобы, наконец, поговорить. Здесь-то уж точно ничего не должно помешать или вызывать неудобства – возможно все эти недели он столь упорно игнорировал ее из-за караула [можно найти время черкнуть записку], толпы [Семенову она не помешала] или смущения в конце концов.
Она писала ему записки. Короткие и длинные, но на самом деле их содержание можно было сократить до нескольких предложений.
«Приезжайте, прошу, умоляю, мое сердце разбито».
«Прошу вас, если вам все еще есть до меня дело – приезжайте, вы все что от Саши осталось».
«Дайте вас увидеть, дайте с вами поговорить».
Они летели и летели, но то ли до адресата не долетали, то ли он их не читал, то ли они на него не действовали. И вот теперь она стояла перед ним сама, окончательно униженная и потерянная, впрочем с маской, которая приросла к лицу спокойная и безразличная маска, только глаза выдают, жадно, пристально вглядывающиеся в лицо. Она самой себе толком не может объяснить от чего ей настолько важно было его видеть, от чего она так к нему тянется и от чего тот факт, что он ее отталкивает так убивает. Потому ли, что никто никогда не отвергал ее? Он кажется повзрослевшим за это время, измученным, но в общем и целом не поменялся. И хорошо, она теперь может его разглядеть. И ее глаза буквально умоляют поговорить с ней, поговорить, как разговаривали всегда, потому это канцелярское, «невосполнимая потеря» кажется, словно только что он ее ударил.
Потухнут глаза, она отойдет на несколько шагов назад, застывая с вежливо-холодным лицом. Это выражение она уже научилась лицу придавать за это время.
Что же дальше, Кирилл Андреевич? Он был так молод, он бы столько успел, какое горе, как жаль. И это все, что вы можете сказать? Сухое и дежурное, как и все те, кто знали Сашу едва ли также, как и вы. Это действительно все? Тогда почему смотрите затравленным зверем? Тогда почему же кажется, словно хотите вы сказать совсем не это, зачем тогда смотрите так? Неужели смелости не хватает признаться?
— Благодарю Вас за соболезнования, поручик, — она даже не скрывает в голосе разъедающего душу разочарования при этом, нарочно делая акцент на последнем слове, забирая из его рук письмо, но продолжая до болезненности пристально разглядывать лицо. — Мы очень благодарны за то, что вы сделали для Его Величества. Я передам это письмо по назначению.
«И это все? Неужели это правда все, что вы мне скажите даже теперь, когда уж точно никто не узнает?».
Неужели же ошиблась в нем настолько сильно и настолько болезненно? Но почему тогда он так смотрит. Почему, несмотря на то, что он старается от нее избавится она все равно ему не верит? С чего ради он не может попасть во дворец, если в нем она? И все же, как же больно, как обидно такое обращение!
Берегите себя.
Как бы ни было тяжело.
Впервые за эти бесконечные дни она чувствует нечто кроме удушающей печали и одиночества. Она чувствует раздражение, злость, обиду брошенного ребенка.
— Нет, Кирилл Андреевич, — прежде чем он оставит ее одну в очередной раз предоставляя разбираться с этим самой. Она покачает головой, почти мягко заметит это, только после голос леденеет против ее воли. — вы меня обманываете. Вас нет. Когда вы необходимы мне более всего на свете, рядом со мной кто угодно – но не вы. Вас никогда нет. Не обманывайте ни меня, ни себя. Ступайте с Богом.
Она спиной чувствует, что он уходит.
«Не уходите!»
Он уходит.
«Не уходите же, черт бы вас побрал!»
Но он уйдет, а она останется. И неужели в этом заключается их судьба? Уходить, когда хочешь остаться, оставаться, когда нужно убегать и не быть счастливыми?
_________________⸙♦⸙__________________
В карете прохладно, но уж определенно теплее, нежели снаружи – окна подёрнулись причудливыми морозными узорами, да так сильно, что толком не разглядеть в него – что творится за ними. Лиза сидит в ней уже очень долго, вызывая скорее всего совершенно немое впрочем раздражение кучера, вынужденного торчать на холоде такую тучу времени, пока она даже и не думает кареты покидать или же возвращаться обратно. Лиза ждет. По совести говоря она даже толком не знает – чего именно ждет, ведь несколько недель назад они ясно дали друг другу понять, что более не увидятся друг с другом [по крайней мере ей так показалось]. И вот, пожалуйста, теперь она снова здесь, прячется в простоватой карете, которую обычно использовали для коротких выездов без помпезности. Прячется, словно делает что-то плохое или потому, что от него теперь действительно следует прятаться. Рука нашаривает крестик, отданный матерью перед ее отъездом в далекое имение ее семьи в селе Петухово. Лиза даже не знает где это, кажется, что на краю света. И сколько бы она не спрашивала мать почему она уезжает так неожиданно и так далеко, не получила ответа кроме туманного: «Не может во дворце быть так много императриц». В тот день она неожиданно обняла ее, обняла так крепко, как не обнимала даже в детстве: «Моя бедная девочка, тебе придется так тяжело, так тяжело». А после отдала крестик, отцовский крестик, просила всегда помнить, чью фамилию она носит и кем был ее отец и предки. Лиза и так это никогда не забывала, просила не уезжать, просила остаться, просила ее не бросать, но было это бесполезно – ее мать уехала тем же утром.
А потом уехала Наташа. Наташа, черный цвет одежды которой придавал ей вид строгий и при этом неземной, неожиданно спокойно отреагировавшая, когда Лиза влетела к ней в комнату, грозясь разобраться с теми, кто решил отправить ее в какой-то монастырь в Суздале, а она ласковым голосом остановила ее одной простой фразой: «Я сама так захотела». Наташа вообще казалось при том разговоре была где-то не с ней, где-то далеко и возможно уже не на этой грешной земле. Лиза корит себя, обвиняет – может быть стоило проводить с ней больше времени, может быть нужно непременно отговорить было от такого. Ее Наташа – красивая, умная, преданная Наташа уже никогда не снимет черное, скроется за высокими монастырскими стенами и поминай как звали. А она, Лиза окончательно останется одна. И Лиза снова умоляет, кричит, требует, обнимая Наташины худенькие плечи, а она тихо похлопывает по то и дело вздрагивающей спине.
Монастырь – это ведь навсегда. Навсегда она присоединится к сонму сестер, «невест Христовых», благостная и святая [но Наташа и так святой всегда была] – и никогда больше не посмеяться, не станцевать, в конце концов никогда не родить ребенка!
«Пойми, Лиза. Если не монастырь, то снова замуж выдадут, а я для него одна была создана. Мне нет дела до жизни, в которой его нет. Значит – встретимся с ним в жизни вечной. Без него я не жить не буду – он это знал. Будь у нас с Сашей ребенок – иное, ради него бы жила. А так… я в послушницы пойду, даст Бог приму постриг, молиться за тебя стану, милая… А ты приезжай в святую обитель – Покровский монастырь место покойное, мне хорошо там будет…».
Лиза отчаянно мотает головой, совершенно отказываясь верить в то, что в монастыре может быть так уж хорошо – в монахини зачастую ведь насильно постригают, а Наташа сама туда отправляется. И стоит только представить, что как только эта последняя родная душа покинет каменные дворцовые стены она останется действительно о д н а, то только пуще она цепляется за черную ткань Наташиного платья, словно ребенок, которого мать вот-вот оставит. Лизу мама у ж е оставила.
«Тогда я с тобой уйду, тоже в монашки, я не хочу оставаться одна, Наташа…».
«Нет, Лиза, нет, ты для другой жизни создана – ты и есть сама жизнь. Не для тебя такой покой, милая – такую как ты в монастыре не упрячешь. Ты не останешься одна – Бог тебя не оставит и останутся с тобой близкие и преданные люди, они всегда будут. И пажи твои, и Варвара Григорьевна и в конце концов Кирилл Андреевич. Нельзя тебе в монастырь, пусть бы и взяла с собою».
Лиза оттирает холодные слезы с лица, горько усмехнется, отпуская Наташины плечи. Она прикусывает губу, заплаканно глядя в окно, где догорает очередной ужасный день.
«Бог меня плохо слышит, Наташенька. Иначе Саша был бы здесь сейчас. А Кирилл Андреевич… ну да, как же. Думается мне, что это совсем не так – ему не до меня теперь, надобно о себе беспокоиться».
«Нет…», — Наташа ласково качает головой. «Даже если он сказал тебе нечто подобное это лишь значит, что кто-то заставил, как меня когда-то. Он слишком на меня похож, а значит посуди сама – может ли он взять и предать так просто? Не отворачивайся от хороших людей, Лиза. А теперь давай прощаться, милая».
И Лиза осталась совершенно одна в комнате, которая неожиданно показалась опустевшей несмотря на то, что Наташа с собой в далекую дорогу взяла лишь самую малость. Лиза вдруг ощутила это одиночество кожей – огромные стены давили, а ты неожиданно чувствуешь себя бесконечно маленьким и снова замерзаешь. Все предметы в комнате стояли на своих местах – стояли стулья, диван, письменный стол и изящные вазы. Только она, казалась падала, задыхаясь от этого щемящего чувства потерянности. И единственным порывом тогда было согреться.
А значит – нужно было поехать к нему.
Так, Лиза и оказалась у стен все того же Петропавловского собора, согревая собственным дыханием стекло и оставив на нем маленькую дырочку-оконце, через которое могла наблюдать за подмерзающими гвардейцами на посту, за снующими туда-сюда детьми, за бабой с баранками и самоваром, предлагающей за скромную плату согреться горячим чаем и хлебом. Кучер несколько раз спрыгивал с козел, чтобы потратиться на этот чай, хлопал руками, стараясь согреться получше – у Лизы от долгого сидения на одном месте тоже начинали коченеть ноги, но она упрямо ждала. Поблизости от кареты мужики пытались отчистить проезд, каких-то молоденьких солдатиков, которых еще не успели командировать на войну поставили чистить снег на крыльце собора. Да, снегопад ночью был ужасный – она слышала всю дорогу, как кучер ругался на чем свет стоит, когда приходилось в очередной раз останавливаться из-за невозможности кареты по таким заносам проездить. Говорят [она слышала это из обрывков разговоров во дворце, на улицах, в дворне, да даже от Марфы], что службы совершенно обленились, лишенные контроля и каких-то распоряжений на время того, как избирался новый император и правительству было совсем не до дорог, случайных пожаров. Не исполнялись казни [что только радовало, впрочем], не расчищались дороги, стояли неподвижно все стройки – всем было недосуг, но государственная машина худо-бедно все равно работала, словно по инерции еще от тех преобразований, заложенных ее отцом. Вопрос лишь в том – сколько еще это продержится.
Зачем она здесь, когда сказала уже такие громкие слова неделей ранее? Она не знает. Периодически ее охватывало неистовое желание насильно узнать – что все же происходит, поговорить, наконец, по душам, без обиняков. Если понадобится насильно запихнуть в эту карету, а дальше будь что будет – она всегда равно до истины дознается. А после она мотала головой – нет, зачем же насильно навязывать ему свою персону? И все же, она торчала здесь, рискуя быть узнанной, обнаруженной, в долгом ожидании того, когда он, наконец выйдет и у него попросту не останется иного выбора, как выслушать ее и объясниться самому. Она то подготавливала речь, то забывала все слова, тревожно вглядываясь в свое смотровое окошко. И, видимо она так долго ждала, что едва ли не ринулась к нему, не обращая внимания ни на платье, ни на снег, ни на то, что кто-то узнает. Да только дела никому особого нет. Теперь в стране все точно так.
— Кирилл Андреевич! – крикнет в спину, стараясь перекричать бабу с ее пирожками, ругательства мужиков с лопатами, лошадиное ржание и прочее, а после несется следом настолько быстро, насколько позволяет платье. Получается, впрочем, не слишком удачно.
Она никогда за мужчинами не бегала – это они бегали за ней, а за ним приходится и ей совершенно безразлично, что могут об этом подумать. Не хочет говорить с ней – она заставит. Вот только платье, чертово платье, сковывает и не дает толком двигаться свободно, тянет к земле, намокнув от налипающего снега, но она упрямо следует за ним сквозь невозможные сугробы, пытаясь одной рукой придерживать при этом собственную шляпу, терзаемую жестоким ветром.
— Кирилл Андреевич, да постойте! Давайте поговорим!
Не слышит ли он ее, или просто не хочет останавливаться, не хочет видеть, вот и идет так быстро, все одно что корабль волны рассекающий? Нарочно игнорирует или по случайности? Лиза не знает, продолжая продираться сквозь белое и глубокое снежное поле, но ноги слушаются все хуже и хуже – слишком долго просидела в карете, вот ноги и перестали подчиняться совершенно. Да и сугробы слишком глубокие, чтобы в них быстро передвигаться, а его фигура все дальше и дальше отдаляется, а ей все сложнее сокращать это расстояние. Еще немного и он уйдет, а она уже не станет догонять – ни к чему, да и решительности не хватит.
«Ну остановитесь, ну хотя бы на мгновение, пожалейте меня в конце концов!...».
Он уйдет, уйдет, уйдет. Почему кажется, что если отпустить теперь – не увидит уже никогда? А с нее хватит одиночества, хватит потерь, хватит разрушения прошлой жизни, хватит, хватит, хватит! Останавливается на секунду, глядя на все быстрее уменьшающуюся фигуру Волконского. И совершенно невольно, отчаянно вырывается:
— Кирилл!
Мысленно она сколько угодно раз называла его по имени, но отчего-то никогда не могла позволить себе назвать его по имени вслух, словно было в этом что-то магическое. А тут – вырвалось само по себе, как если бы звала его так всю жизнь.
Дыхание сбивается, она спотыкается и окончательно падает в снег, поднимая вокруг себя тучи снежной пыли. Снег забивается под перчатки и возможно в сапожки, муфта потеряно в сугробе также, а она даже подняться толком не может окончательно притянутая к земле тяжестью собственного наряда. Да будь проклят тот, кто придумал женское платье! Лиза оттирает снег с шубы, но он только сильнее налипает – свежий, едва выпавший и от того ужасно липкий. Шмыгает носом. Он, конечно же ушел, а у нее уже нет сил его догонять, уже не догонит. Бросил, ушел, как и все. Как отец, Саша, матушка и Наташа. Все так ушли и даже толком не попрощались. Ну и пусть, ну и пусть, пусть, пусть! Шмыгнет носом еще раз – не хватало еще расплакаться, какая глупость. Никто ей не нужен, в конце концов сама выживет. Да-да, идите, идите, Кирилл Андреевич куда хотите, и!...
Она поднимет голову, когда холодное солнце перекроет чья-то тень, встречаясь взглядом с его лицом напротив собственного. В первую секунду покажется, разумеется, что ей чудится – может схватила белую горячку из-за этого холода. Но нет, правда он, протягивает руку, называет по имени – ну да, точно он, неизменно заботливый, напоминающий о Саше, бросивший, бросивший, бросивший. И чувство облегчение перебивается чувством такой глупой, детской обиды, что вместо того, чтобы принять помощь она только отмахивается досадливо, не собираясь помощь принимать и пытаясь подняться самостоятельно, но делая тем самым только хуже и снова падая в пушистый, холодный снег. Она в своем пышном наряде скорее начинается напоминать себе не грациозную даму, а какую-то матрешку или неловкую куклу растолстевшую. Понимая, что сама она не справится, а принимать помощь такого бесчувственного болвана не хочет, Лиза разражается гневной тирадой, пытаясь хотя бы какие-то остатки достоинства сохранить:
— И зачем вы вернулись? — бросит на него из-под шляпы злой взгляд. — Все в порядке, не нужна мне ваша помощь! — правда, положение ее говорит как раз об обратном. — Можете и дальше идти себе куда шли! Идите себе, хоть до Сибири дойдите! – продолжает возмущаться она, обиженная и почти оскорбленная, очевидно считая, что именно в Сибирь ему и следует отправиться после такого ее унижения. — А лучше ступайте к черту! — выкрикивает наконец, опуская взгляд, досадливо морщась и ударяя руками по сугробам, лишь глубже в них оседая – все одно что холодные зыбучие пески. — Надеть бы на вас платье и посмотрела бы – как бы побегали! И кто вы такой вообще, чтобы я за вами носилась? Простужусь – ну и вам что за дело? Вам до меня никакого дела нет, уже давно нет! Вот простужусь и умру – пусть вам стыдно будет, да, да, да! – отчаянно, шмыгая носом и понимая, что если он продолжит находиться рядом, то она окончательно не выдержит и расплачется снова. Она ненавидит плакать. — Почему я вместе с братом должна была потерять и вас тоже?! Вы меня бросили, вы меня обманули! Вы мне обещали, обещали, что никогда меня не отпустите больше! Вы обманщик! И я вас ненавижу, ненавижу, ненавижу!...
Но это конечно неправда. Она говорит, что ненавидит его, кричит об этом, а сама хватается за руку, которая ей протянута и сжимает так крепко, что вряд ли он бы смог отпустить даже если бы хотел. Она на грани этой истерики, которую так долго удерживала с тех пор, как из дворца один за одним исчезают дорогие сердцу люди, а ее жизнь перекраивается и ставится с ног на голову. Лиза смотрит ему в глаза умоляюще, заявляя, что он может уходить на все четыре стороны, а в ответ ловит все тот же его взгляд, который говорит о том, что никуда он идти не хочет. И она теряется, все еще сжимая его руку, оседая в сугробе, разглядывая это серьезное лицо.
— Ну отчего вы ко мне не приходили? Кто же вам помешал? Я ведь видела, я и сейчас все вижу, поэтому никак и не могла поверить в то, что вы вправду «меня разлюбили» не хотите больше иметь со мной дела. Если вы хотели уйти, то зачем бы вы так смотрели?... – приглушенно и устало, признавая безоговорочно свое поражение и отдавая себя в чужие \\ родные уже руки. — Вы болван, Кирилл Андреевич. Вы меня обманывали, чтобы я поверила. Но вы болван.
Он все же обернулся.
Лиза вслушивается в его слова, слишком уставшая, вымотанная за это время, чтобы пытаться разобраться в том, почему же кто-то так жестоко определяет их судьбы. Да и кто решил, что видеться им так уж опасно – Вася ли, которого когда-нибудь нужно будет величать Ваше Величество и которому корона придется не по размеру, а может быть кто-то еще, кого она даже не подозревает, да только ей это не так важно. Важно, что обернулся. Важно, что он здесь.
И теперь она уже может принять руку, опереться на нее и подняться из снежного плена, наблюдая за тем, как он помогает ей избавиться от налипших комьев снега, гадая все еще – не снится ли ей это. Нет, не снится. Благодарно принимает подставленную руку и движется с ним в обратном направлении, по крайней мере совершенно уверенная в том, что теперь он точно ее не отпустит.
***
Карета покачивается, неторопливо пересекая улицу за улицей. Неторопливо – отчасти из-за того, что торопиться особенно и не хочется, а отчасти потому, что тяжелая карета с трудом пробирается по всем же нечищеным петербургским улицам. То и дело кучер ворчит [наверное ко всему прочему не слишком довольный тем, что они теперь работают как извоз], натягивая поводья и переругиваясь с другими кучерами, если те не уступали карете дорогу. Лиза сидит рядом с Кириллом, чинно сложив руки на коленях и хотя бы немного, но согревшись после беготни по сугробам. С платья теперь, правда, стекает вода, но это мелочи – главное, что он едет рядом. Что с ними все худо-бедно, но по старому. Сначала она хотела с ним заговорить, но никак не могла придумать темы для разговора. В основном на языке крутился только Саша, а говорить о нем, надо признать все еще было нестерпимо больно. Теперь, оказавшись, наконец, вместе, она неожиданно вспоминает и о своем желании объясниться. Как странно – та Лиза, что сочиняла ему так и не отправленное письмо казалась совершенно другим человеком, а о своих намерениях она и вовсе забыла. Теперь говорить о таком и вовсе неуместно – слишком сильно изменилась жизнь, чтобы о таком думать, поэтому и говорить не стоит. Да и потом – разве она и правда знает, что сказать? Он ответов не требует, да и слава Богу. Поэтому, они просто молчат и в этом молчании, как это часто между ними бывало, Лиза находит определенное успокоение.
Она ловит его взгляд, буквально что ловит – до этого, как ей казалось смотрел он в противоположную сторону. Женщины на самом деле всегда знают, когда на них смотрят. Ловит, улыбается, впервые за это долгое время обнаруживая у себя способность улыбаться, а не притворяться жалкой копией самой себя, с вечно заплаканными глазами и чертовой маской, которая, кажется, именно благодаря нему теперь и разбивается на мелкие, острые осколки. Лиза улыбается, отводя взгляд, но хватает ее ненадолго и она снова поворачивает голову, стараясь разглядывать его как можно более незаметно – иначе можно и вправду подумать, что-нибудь не то. Так и играют они в свои переглядки впотьмах переваливающейся с боку на бок кареты. Крепче сожмет руки на коленях, бросая быстрый взгляд на его собственные. Отводит также стремительно уже и не позволяя себя на этом поймать, усиленно начиная разглядывать размытый пейзаж за окнами. Пейзаж, впрочем, оказывается ужасно однообразным, так как движутся они очень медленно – заносы ужасные, постоянно приходится менять маршрут и путь от собора до дворца, который обычно занимает куда меньше растягивается бессовестно. Она разглядывает вывески магазинов, мастерских и лавчонок: какие-то написаны на исковерканном иностранном, словно таким образом покупатели охотнее сюда заглянут, два золотые сапога друг к другу торчат носками, а на черном поле между голенищ прописано: «Сын Скварцев», на иной вывески из бутылки пена бьет фонтаном, да так само по себе ее в стакан и бросает, написано: «Эко пиво!».
Право слово уж лучше было разглядывать надписи питейных заведений, нежели ловить себя на странных мыслях. Вроде: «Вы вполне можете взять меня за руку!». Иногда ей казалось, нет – не так, она была уверена в том, что он и сам этого хочет, а она бы не стала протестовать, но ей ли не знать сколь мужчины бывают щепетильны в этих вопросах. Да и голос Наташи, неожиданно зазвучит в голове и снова напомнит о давнем разговоре о надежде, которую она как-то позабыла дать. Не хватало только, чтобы в ее голове теперь еще и Наташа за внутренний голос поселилась.
Так они и ехали бы дальше, ужасно глупые на самом деле, желающие по сути одного и того же, но не совершающие этого, если бы не счастливая случайность. Если бы не мальчишки, гурьбой пробегающие по мостовой и сбившие с ног торговку в нескольких платках, тащившую корзину с живым гусем. Корзина из рук выпала, гусь был таков, мигом решив с важным видом расхаживать по проезжей части улицы, вытягивая длинную шею и гогоча, тем самым пугая лошадей и заставляя возниц останавливаться и мгновенно начинать ругаться [кажется не быть тебе уважаемым кучером, ежели не начинаешь ты браниться едва хоть чего-нибудь не так пойдет]. Останавливаться, впрочем, тоже приходится мгновенно, из-за чего карета подпрыгнет, накренится отбрасывая ее тем самым куда-то к окну, а после остановится. Соскочит с козел Ефим начнет ругаться на торговку, которая начнет ругаться на него в ответ и тыкать толстым пальцем на гуся, которого тот грозится ко всем чертям поджарить, ежели она его не уберет немедля. Гусь же, к хозяйке возвращаться не особенно хочет и продолжает, вытягивая шею важно расхаживать по дороге периодически пытаясь ущипнуть того, кто пытается его схватить. Но ничего этого Лиза не слышит и не видит. Зато прекрасно видит его глаза, теперь уже совсем близко, чувствует дыхание на своем лице и руку, которая ее удерживает. Кажется, были они уже в таком положении, валяясь на траве, а он назвал ее глаза очень красивыми. Так и хочется ведь ответить тем же теперь, да только уместно ли это? А выразительные, серые, глаза все смотрят на нее и боже, боже мой, можно ли не заметить и не понять к а к смотрят? И Лиза теперь отчетливо понимает насколько же ей его не хватало. И понимает еще, что все бы отдала, чтобы и дальше так смотрел. Но он, конечно же ее отпустит, как только представится подходящая возможность, может быть и с некоторым сожалением. И она с затаенной улыбкой наблюдает за тем, как Кирилл сохраняет между ними «приличную» дистанцию, хотя вряд ли кто-то в карете станет наблюдать за ним и осудит это. Некому – не гусю же следить за приличиями.
Лиза вздыхает, осознавая, что желания свои нужно осуществлять самой, что это ей следует давать отмашку, да и к тому же… она и вправду ужасно устала.
Лиза совершенно непосредственно, спокойно придвинется поближе, удобно устраивая голову на чужом плече и прикрывая, наконец, глаза. Воцаряется неловкая тишина, которая для нее вовсе и не неловкая – просто говорить особенно не хочется. Поерзает подбородком, ощущая под ним жестковатую ткань мундира, прежде чем заговорить:
— Высадим, Кирилл Андреевич. Просто дайте мне пять минут. Я так устала…
Шутка ли – она спала последний месяц так ужасно, что нельзя это назвать сном. Пять минут покоя – не так уж и много, если подумать, и вряд ли за них она успеет отдохнуть, но в эти пять минут ей, наконец-то будет совершенно спокойно, словно Саша и не умирал, словно во дворце все по-прежнему. И через эти пять минут карета как раз успеет подъехать к назначенному месту и она поднимается, улыбается ему, несколько устало, но все же искренне.
— Конечно я приду.
Даже если придется отрастить крылья.
***
Если и не было это свиданием, то готовилась она к нему так, как если бы действительно шла именно на него. Она с утра гоняла Марфу туда-сюда, потому что прическа ей никак не нравилась – никаких украшений при трауре не наденешь, поэтому оставалось только колдовать над волосами, а когда горничная ее резонно отметила, что: «Так ведь все равно ничего не видно будет, зима же», получила в ответ такой взгляд, что более вовсе не перечила и едва ли не захотела перекреститься. С трауром отпадал и выбор платья – оно всегда теперь было черным, так что как бы долго и тщательно она бы не собиралась, в итоге наряд ее ничем не отличался от предыдущего.
А после – томительная поездка в карете, где снова ворчать будет Ефим на все те же непочищенные дороги, в которых колеса застревают – уж лучше бы сани взяли, на мальчишек-разносчиков. Томительная, потому что теперь-то он ее ждет, возможно мерзнет, поэтому нужно быстрее, быстрее, быстрее и она беспрестанно подгоняет кучера, а когда он в конец обнаглев заартачится, напомнит, что в крепости возить будет уже некого и карета и вправду станет ехать чуть быстрее. И если бы Кирилл сам не предупредил ее действий и не открыл дверцу, пожалуй, вылетела бы из нее сама.
«Вы приехали».
А разве могла не приехать? Разве могла остаться во дворце, где кроме мальчиков, которых оставить пришлось, чтобы внимания не привлекать, никого родного не осталось и постепенно только и делают, что все меняют, где теперь чувствуешь себя гостем, если здесь, на продуваемой всеми ветрами набережной Невы, должны были вы ждать. Лизе бы задуматься еще раз – отчего же ей так это важно, что он ждет, от чего сердце успокоилось едва его увидев, но забилось вновь с новой силой теперь, как только они прогуливаются вдоль Невы, которая постепенно от сна просыпается. Ведь посмотри кто угодно на них со стороны и подумай – влюбленные. Да только слово это больно кажется страшным в своей важности, вот она и не использует его вовсе.
— Вы ждали, — просто отвечает она, словно уже только это одно оправдывает ее появление здесь.
А вокруг стоит Петербург – стоят учебные кораблики у пристани и молодых матросов будущих гоняют туда-сюда по мачтам, не смотря на холод, стоят здания дворцов, коллегий и высятся недостроенными проплешинами, словно молчаливым укором те здания, которые правители так и не увидят и черт знает, увидит ли их теперь Петербург, а если увидит, то в каком качестве. Вот этот мост дугой над тихой канавкой, сжатой тяжелым гранитом, эта приземистая желтая башня, подпирающая арку дворца, из-под которой видна широкая река, покрытая тихо шелестящими льдинами, подобно стае лебедей, медленно свершающих свой путь, и там за рекой стены мрачной крепости, над которыми вознеслась сверкающая игла, увенчанная архангелом, — все это единство звуков, красок, форм, игры света и тени, наконец, чувства пространства — составляет этот город, который можно не любить и можно даже ненавидеть, но не восхищаться им просто невозможно даже теперь, когда он остается покрытым льдом и снегом, а уйди из центра и вовсе попадешь в разруху и распутицу, где из каналов исходит то еще зловоние.
Но здесь хорошо, красиво как это бывает и кажется, не считая все тех же замерших корабельных и строительных работ, что ничего не изменилось. Не умирал император, не нависала над страной угроза смуты – все было в общем то вроде бы хорошо. Туда-сюда носились дети, прогуливались пары, а они с Кириллом оставались неузнанными. Она крепче сжимает его локоть [исключительно для того, чтобы не поскользнуться] разглядывая город и понимая, сколь давно не выходила вообще ни на какие прогулки.
— Право, вам не стоит волноваться об этом, Кирилл Андреевич. Таинственные встречи обычно нравятся девушкам, если вы не знали, — она качнет головой, задумчиво разглядывая окружающую их местность. — Неужели немилость столь сильна? – и становится тревожно на душе, представляя, что таких встреч отныне может и не быть, а если и будут они случаться, то крайне не часто. — Что же, тогда тем более вам не стоит извиняться за нашу скрытность. Потому что потерять такого собеседника как вы мне не хочется.
Нет, нет, не правильно это звучит. И ведь где-то в глубине души хочется сказать совсем не это, но слова сами слетают с губ. Собеседник, ну да конечно. За простыми собеседниками не гоняются по сугробам, не плачут от отчаянья из-за того, что их нет и они не удостаивают тебя вниманием. Плачут ли так из-за друзей? Но не от того ли столь ценит она его, что являлся он ей другом, а разве не может друг являться кем-то еще?
Он говорит о Саше, а она затихает, прислушиваясь к знакомому голосу, разглядывая шпили Адмиралтейства и мачты кораблей. Ветер треплет края шубки, накинутой на платье, но разумеется плохо спасающей в такие моменты. Ветер слезит глаза – да, виноват во всем именно ветер, а не тоскующая по брату душа.
— Никто из нас не знает – как без него быть, — горько усмехается, покачивая головой. — Академия Наук была бы нам необходима – в том числе и для того, чтобы народ не страдал, — мрачно возражает она. — Если есть наука – есть и процветание, а то мы так и будем для европейцев варварами, — на секунду презрительно сморщится. — Это еще мой батюшка понимал, а Саша мечтал о том, что к нам все ученые съезжаться будут, а мы своих воспитывать будем – я знаю, правда без подробностей. Знаете, Кирилл Андреевич, я так жалею о том, что мало интересовалась тем, чего он хотел. А теперь это уже совсем не мое дело…
Они в некотором молчании, впрочем как это всегда бывало, уютном, добираются до стены, она провожает взглядом проходящих людей, корабли на Неве, далекий вид дворца, в который ей совершенно не хочется возвращаться. Стоило бы построить новый – этот никуда не годится теперь. Но ей н у ж н о вернуться, потому что именно ее выбрали в качестве красивой куклы будущему самодержцу, не желая отпускать восвояси. Лиза сейчас даже не задумывается о том, что не отпускать ее могут и от того, что некоторые люди в государстве до сих пор считают, что именно ей на троне сидеть следует.
Ветер треплет опушку песцовую, дергает за медные локоны, а она все всматривается в это грандиозное сооружение, не чувствуя теперь к нему ничего кроме глубокого отторжения.
— Помните я как-то сказала вам, что несмотря ни на что – дворец мой дом? Так вот – боюсь скоро это будет не так… Или уже не так. А вы…
Она может и хотела добавить еще что-нибудь, рассказать о том, как ей рассказали о смерти Саши, расспросить его в подробностях как это произошло, может быть хотела посмеяться над детьми, которые устроили борьбу в сугробах, а может вспомнить как они сами кидались едва ли липким снегом, а она показывала ему «свой» корабль. Вот только ничего такого она не скажет, не успеет сказать, потому что спустя каких-то пару мгновений она окажется в его объятиях и мир перестанет существовать совершенно. Правильнее было бы отстраниться, пока они окончательно не прояснят то, что следовало бы, но кому какое дело, когда тебя обнимают, а ты впервые понимаешь, что оказывается з а л е д е н е л. И дело не только в ветре, зиме и холоде, но и том, что с той ужасной ночи, когда падали звезды, а им сообщили о смерти Саши, она так и не согрелась и только теперь, кажется ей т е п л о.
И нельзя, нельзя было ему этого делать, даже если хотел попросту укрыть от беспощадного ветра. Потому что как только ей кажется, что она справляется, что она сильная и в конце концов выдержит, то вот в таких объятиях она напрочь ломается и понимает, что нет. Не справится. Она всего лишь Лиза, всего лишь Светлячок и пташка, всего лишь женщина в конце концов. Жалеет ли он ее, сочувствует ли или…ты ведь знаешь, Лиза, в чем дело. Ты знаешь, что он тебя любит. А она не отстраняется, вместо этого только сильнее прижимается к его груди, кажется слышит биение сердца. Когда-то так же стояла, прячась за шторой. Но тогда она не понимала, не понимала, а теперь понимает, на самом деле понимает, в душе уже давно понимает, а тем более теперь. Душа понимает, просто самой Лизе об этом никак не хочет сказать. Может потому, что никогда на самом деле до этого удивительного человека ты и не испытывала ничего такого – вот и не можешь понять, что это твоя…
— Не уезжайте, — умоляющим шепотом, обнимая, наконец, в ответ и пряча свое лицо. Он что-то говорит и она вроде бы и слушает, но в голове набатом стучит только одно-единственное, словно он уже уехал, или уедет, хотя вроде бы как даже и не собирается. Тогда почему такое чувство, что это последний раз, когда она его видит? Почему такое чувство, что в следующий раз она увидит его очень не скоро и от этого становится так невыносимо жутко? — Не уезжайте, не уходите… — как если бы это зависело только от него, она все повторяет и повторяет эту фразу, тихо и отчаянно, пока он только крепче прижимает ее к себе. Бог так плохо слышит молитвы теперь, что только остается, что умолять у него самого.
Не уезжайте теперь – я без вас не смогу в этом городе.
Не уезжайте теперь – это же вы меня обняли, я бы быть может и смогла, если бы вы этого не сделали.
Не уезжайте – иначе снова замерзну.
…а потом к ней утром заявится Вася в сапогах, которые кажутся ему не идут или вовсе не по размеру сшиты и с сияющей улыбкой заявит:
— Ну что же вы, кузина так не веселы? Теперь я Император, о чем объявлено везде и пожалуй, первым приказом отменю траур. В конце концов яркие платья идут вам гораздо больше!
И будет проведена новая черта, которая начнется с тех самых пор, как уедет Кирилл. Конечно же уедет, потому что помимо черного новый Император не любил разве что только его.
_________________⸙♦⸙__________________
«…Кирилл Андреевич, можете ли вы себе представить сколь неожиданным был для меня Ваш отъезд и как бы хотелось мне увидеть вас перед ним? Но я также осознаю, что такой скорый отъезд был обусловлен далеко не вашим собственным желанием, но был следствием вашей нелегкой службы. Впрочем, пусть вы и не пишите этого (вероятно по причинам известного мне благородства), но я смею догадаться, что причиной тому также могли стать некоторые наши общие знакомые, кои ныне с невиданной лёгкостью определяют наши с Вами жизни…» Письмо от 14 апреля 1727 год.
Личность нового императора являла собой предмет крайне занимательный для всех. Простые люди, продающие товары на рынках, работающие в полях и на бесконечных новых стройках, извозчики, трактирщики, половые, кухарки и портнихи и вовсе не могли взять в толк откуда он такой взялся и какое отношение имеет к царствовавшей фамилии. Слово «кузен» для них было не особенно понятным, зато куда яснее оказывалось «канцлеровский сынок», но последнее предпочитали они произносить шепотом и в основном за рюмкой чего-нибудь покрепче – всем известно, что про нового императора или хорошо или никак [прямо как про мертвецов]. Те, кто по каким-либо причинам забывал эту простую истину заканчивали дни на деревянных помостах, мрачно возвышающихся над землей, сгибаясь под ударами плетьми, а особенно рьяные болтуны и вовсе сначала посещали Петропавловскую крепость, а оттуда как известно редко кто-то выходит в здравом рассудке. Приучились к таким порядкам быстро – люди вряд ли ждали чего-то доброго от сына Апраксина, которого и в лучшие времена побаивались. Чуть более сведущие в дворцовых делах поговаривали, что править страной теперь будет вовсе не царь, а де «много царьков», сокрушенно качали головами и за все той же рюмкой-другой горячительного вспоминали былые славные дни, когда страной управлял Петр Великий или же его сын. Образ бывшего императора [как бы старательно новая власть не пыталась стереть его из народной памяти], проправившего столь недолгое время обрастал все более фантастическими подробностями, тем временем, ореола святости становилось тем больше – чем больше вводилось глупых законов или притеснений. Такова уж русская душа – при жизни правителей принято ругать, но посмертно в их правлении находились исключительно положительные черты. Покойный молодой император к тому же, умер так неожиданно и, обладая внешней красотой и удалью, женившись на простой девушке и вовсе, после смерти едва ли не заслужил образа святого [хотя бы из-за того, чьим был сыном, ведь сын Петра Первого куда лучше, нежели сын не столь любимого народом канцлера] и народный плач по нему оказался куда более продолжительным, нежели можно было ожидать. К тому же, невольным сравнениям не в пользу выбранного монарха было и то, что весь его облик и поведение по весьма скромным оценкам уступали тому, к чему народ привык – к блистающим, властным, высоким правителям, которым достаточно было разве что одного взгляда, чтобы по телу дрожь прошла.
Василий Борисович никогда высоким ростом не отличался – тому помешали то ли болезни, перенесенные в детстве из-за которых не мог он долгое время проводить за активными играми на свежем воздухе, то ли что-то в его теле заложенное. Водянисто-голубые глаза может и имели сходство с голубыми глазами Романовых, но весьма отдаленное – куда больше напоминали они о всезнающем взгляде его собственного отца. Сам Император наверняка подозревал о своих внешних недостатках, имея теперь полное право если не закрывать на них свои глаза, то закрывать им всем остальным – он одевался в мундиры, шляпы с перьями и высокие сапоги, которые возможно должны были удлинить ноги или придать его внешнему облику статности. Он производил впечатление человека, который стесняется в обществе, считает долгом сказать что-либо умнее других и боится, что это ему не удастся. Постоянно остающийся в тени более остроумных, удачливых и в конце концов смелых знакомых, теперь он мог по крайней мере заставлять все делать вид, что они смеются над его шутками, дивятся его познаниям и желательно не возражают ему. Возможно, какая либо не любовь к критике происходила у него из самого его детства, когда он оказывался нелюбим собственным отцом, предпочитающим посвящать свое время или государственным делам или своему крестнику. По крайней мере теперь новоявленный монарх мог отыграться и заставить, что называется себя любить самыми разными методами. Неожиданно свалившаяся на его голову власть представлялась ему не ответственностью, а скорее шансом получить то, чего никогда не удавалось: уважение, любовь, восхищение. Насколько фальшивыми они будут Василий Борисович задуматься не желал.
Он всегда смотрел угрюмо, блуждающим взглядом; в нем нет и никогда на самом деле не было уверенности в себе, что он скрывал за вспышками гнева, угрозами наказаний [к чести его пока остающимися угрозами, чего не скажешь об его отце]. Ему бы не любить никаких телесных кар – в детстве приставленный к нему воспитатель порол его нещадно и часто, но, император кажется не торопился исправлять такого рода ошибки. В нем не было статности, скорее какая-то нелепость, скрываемая за императорскими одеждами, он казался каким-то злым ребенком, которого посадили на трон, но не сказали, что с этим троном делать.
В детстве он рос нервным, впечатлительным, любил музыку и живопись и одновременно терпеть не мог все военное. Оно и не было удивительным: война в свое время отняла у него отца, пропадающего на ней вместе с императором, а он с детства не был создан к ней не обладая ни физическими для того качествами, ни психологическими – громкие крики приводили его к слезам, чем еще сильнее отца раздражали. Следовательно – уважения среди сверстников и собственного отца он добиться не мог, завидуя им, разъезжающим на лошадях и дерущихся на шпагах издалека. Таких сверстников ему всегда ставили в пример, а он упрямо опускал голову и молчал, мысленно желая, чтобы кто-нибудь из них непременно сломал ногу. А так как он сам к военному делу предназначен не был, то и все военное казалось ему грубым, жестоким и не имевшим особенного смысла. Он вырос вместе с будущим наследником престола, но на его фоне он смотрелся еще более нескладно, если не убого. Его отец однажды выразил это вполне точно: «Стоят рядом – ангел с горгульей». И все же он живо принимал участие во всех забавах юного тогда еще Александра Петровича, который Апраксина-младшего скорее терпел, нежели любил, позволяя невысокому и всего боящемуся мальчику ходить за собой хвостом. Благодаря дружбе, если ее можно было так назвать, с цесаревичем, он по крайней мере приобретал для себя нужную защиту, хотя и обрекал себя на некоторые шутки, порою выходившие за край.
Он жил дичком, в бурьяне, слабый во всех отношениях по природе и заглушаемый сорными травами. Воспитатели сменяли одни другого, а единственным человеком, кто хоть как-то обращал на неудавшегося Васю внимание была его собственная сестра, с которой он и выучился сносно разговаривать на французском, что теперь сослужило ему вполне добрую службу, ведь французов при дворе отныне очень даже жаловали. Он был подвижен, бестолково суетлив и крайне неустойчив. Его недостаточные знания пополнялись фактами воображения, лживости и фантазии, причем он, даже будучи императором, не стеснялся публично говорить о том, чего никогда не было, и хвастался тем, чего никогда не делал и не мог делать по самому простому соображению. Но попробуй кто-нибудь теперь скажи ему, что это совершеннейшая ложь или засмейся над такой работой его воображения – хорошо если бы тогда обошлось простым карцером на пару дней или понижением в должности. Насмехательства теперь над собой император не терпел.
И все же, он не был глуп, каким мог показаться с первого взгляда и уж точно не был полоумен. Иначе он бы и не догадывался, что думали о нем его собственный отец или же уже почивший кузен. Но нет, Василий Борисович как раз отлично знал и видел, что родной отец едва ли считает его разумным человеком и всегда знал, что блистательный Александр Петрович насмешничает над ним даже не прикрыто, презирая то за трусость, то за глупость, то просто за то, что он не удался внешне. К тому же, недолюбливать в душе своего кузена Василию Борисовичу было за что – его собственный отец любил молодого императора сначала куда сильнее его, Васи и даже теперь, когда он сидит на троне, законно-избранным Сенатом, отец не торопится уважать его. Александр Петрович всегда был тем, кем Васе было быть не дано и от того, вряд ли он мог испытывать огромное сожаление от факта его смерти или желать дальнейших сравнений. Отец его не уставал напоминать ему, что он пошел в его неудавшуюся родню, прозябающую под Костромой – полнейший бездарь и ничтожество. Смелый человек бы возразил, но отца он всегда побаивался, тем более когда тот был не в настроении. А не в настроении тот прибывал такое чувство каждый раз, как только видел нелюбимого сына в поле зрения. Вася всегда знал, что отец его стыдится, но виду не подавал. Уроки, которые отец по началу худо бедно, но давал своему отпрыску бывали в детстве настоящим мучением, как и проверки выученного с учителями, которые менялись один к другому. И опять, опять, неслись бесконечные сравнения с распрекрасным Сашей, от которых хотелось провалиться сквозь землю. Конечно, Саше с его прекрасной памятью было достаточно пробежаться глазами по параграфу, и высший балл и похвала были обеспечены!.. Он никогда не опускался до зубрежки или простого выполнения урока, небезосновательно уповая на свою уникальную память, исключительные способности к импровизации и умение на лету схватывать любой материал. Получая подзатыльник за подзатыльником Василий Борисович уверился в том, что в жизни ему ничего не светит, а отец в конце концов просто забыл о том, что образование ему необходимо и тогда Вася занимался тем, чем хотел, сменив отцовский гнев на самое обычное равнодушие.
Был ли он настоящим другом для детей императорской фамилии? С его точки зрения – нет, но он держался за них и тем самым получал для себя нужное уважение или по крайней мере м е с т о, за которым можно было бы закрепиться. Он не понимал шуток и поэтому обычно был угрюм и нелюдим, а Саша называл его «Нюниус», но он молчал, потому что не находил что колкого ответить на это, ненавидя себя в душе за нерасторопность. Впрочем, после ненависть к себе переросла в ненависть к другим – ведь если столь сильно ненавидеть себя, то путь один и это петля, а для такого шага нужно по крайней мере обладать некоторой смелостью.
Нет, он не был глуп так, как его считали, пусть и не получил такого же хорошего образования, как прочие [отец предпочитал воспитывать Сашу, а не его]. Шпагу ему заменяла кисть, с которой он управлялся превосходно.
В его жизни на самом деле было две огромные страсти и живопись была первой из них. Отец подобное увлечение разумеется называл блажью, не мужским занятием и очередным доказательством, что его сын уродился идиотом. Ему предоставилась свобода, как только его батюшка решил, что он ни на что не годен, поэтому он мог рисовать столько, сколько душе угодно. При отсутствии преподавателя, ему с легкостью удавалось поймать мимолетное выражение человеческого лица при помощи только угля, с не меньшей легкостью смешивал он краски идеально подбирая нужный цвет на палитре и безошибочно передавая его в картине. А как только преподавателя ему все же выписали, очевидно попросту чтобы «с глаз долой» [уж слишком настойчиво даже для своей трусливой персоны он просил об этом отца], то очевидный его талант стал только укрепляться. Его комнаты завалены бывали свежими холстами, были наполнены запахами масляных красок и растворителей, в них творился хаос, но в этом хаосе он отлично ориентировался. Его одежда нередко оказывалась испачкана красочными разводами и в таком виде он еще большее презрение вызывал, но только когда рисовал он чувствовал себя на своем месте. Впрочем, теперь он мог чувствовать себя на своем месте вольготнее всего – никто просто не посмел бы назвать его излишне странным. Теперь он мог завести моду на французский язык, так им любимый везде, на рисование или же к черту послать фехтование – и все кивают, кивают и делают как он скажет. Почти все было у его ног теперь и так или иначе, глядя на нового и еще пока не коронованного императора можно было легко сказать как страшен бывает тот факт, когда вечно унижаемому так или иначе человеку достается в руки власть.
Его вторая страсть смеется мелодично какой-то наверняка глупой шутки одного из этих ничтожных [несмотря на собственное унижение о своем всегда высоком положении он не забывал и будучи сыном канцлера – плебеи всегда оставались плебеями] пажей, запрокидывая голову, и изящно подпирает висок тонкой рукой. С отмены траура она, наконец смеется, но все еще не с ним и не для него, одетая в необычайно скромное для себя серо-голубое платье и все равно выглядящая при этом как богиня.
Она волшебно красивая, и Вася с трудом сдерживается, чтобы не приоткрыть рот, когда смотрит на нее. Тонкие ключицы часто вздымаются, по плечам рассыпался блестящий каскад медово-рыжих волос, сочные ягодные губы, которые мечтал поцеловать с тех пор, как ему исполнилось 15 лет и никто еще и не думал обращать внимание на гибкую, стройную девочку, младшую дочь императора, растягиваются в обворожительной улыбке, а хризолитовые глаза сверкают в золотом блеске дворцового убранства. О, сколько раз он рисовал ее в самых различных ипостасях, позах и образах. Когда он рисовал греческую богиню любви в ней безошибочно угадывалось ее лицо, Он смотрит на Лизу так, словно она неземное создание, и жадно следит за каждым поворотом миниатюрной головки и всплеском нежных рук. Он в миллионный раз злится на себя за то, что не может свободно вскочить, веселым вихрем влиться в ее компанию, отпустить уморительную шутку и запросто закинуть руку ей на плечо. Нет, теперь может конечно, но это все равно будет не то и не так. Он не может так обаятельно ерошить волосы, искренне и жизнерадостно улыбаться, непринужденно сыпать остротами, как умел делать это Александр Петрович, взирающий на него с одного из парадных портретов. Он понятия не имеет, как иным господам удается кружить девичьи головы, лишь бросив пристальный дерзкий взгляд, вкрадчиво прошептав тонкий комплимент, опалив дыханием раскрасневшуюся щеку и с обезоруживающей бесцеремонностью притянув к себе за талию ту, которая приглянулась [как выходило это у беспечных кутил Голицыных или даже у этого треклятого кудрявого Матвея Строганова] Ему же, отлично осознавая, что личного обаяния никогда достаточно не будет, оставалось лишь приказывать, надеясь на очевидное подчинение, но боже, это ни в какое сравнение не шло с добровольностью. С той самой, с которой она относилась к своим пажам или к «этому выскочке», как величал безвременно покинувшего Петербург [хотелось бы верить, что навсегда] поручика Волконского, отец.
О, эта персона вызывала в нем сначала раздражение, а после и почти безотчётную злобу едва появилась во дворце, неожиданно и как полагал Вася несправедливо приласканная Сашей. Но ладно бы только бывший император рассыпался перед Волконским в любви, пусть Василий Борисович и считал такое неприемлемо и в конце концов не честно – такой дружбы от Александра Петровича он не видел никогда, пусть и рос с ним вместе. К черту симпатии такой нарциссической персоны. Но симпатии цесаревны в его отношении он снести не мог. Она улыбалась ему, она гуляла в его обществе, она с м о т р е л а на него! Последней каплей стала шекспировская постановка, при которой весь мир его перевернулся и едва ли он не выбежал на сцену, чтобы наглеца задушить. Вася знал отлично, сколько кавалеров сменила его кузина, но все равно считал [очевидно снова впав в определенную степень фантазии], что принадлежать красавица-кузина будет ему, а значит целовать на его глазах ее никто не может. Целовать ее губы, держать ее за руку, а после еще и вернуться с войны и снова маячить перед глазами! Нет, нет, не мыслимо, непозволительно – Волконского он ненавидел ничуть не меньше, нежели поровшего его воспитателя, насмешничающего Сашу или собственного отца. А может и больше. В нем сочеталось все то, чему можно было Васе завидовать: военная выправка, любовь окружающих, уважение тех, от кого он сам этого так и не добился, внешность в конце концов и карьерная удачливость. И чем больше он замечал взглядов, брошенных цесаревной в сторону поручика, чем сильнее желал тому сгинуть в какой-либо канаве. И если с прочими кавалерами милой его сердцу дамы он ничего ранее сделать не мог, то теперь, обладая свалившейся на голову властью, мог разобраться хотя бы с одним потенциальным. И в этом вопросе, впервые возможно, они оказались солидарны с отцом. Отец, как только Сенат провозгласил Василия Борисовича императором, от части сменил свой гнев на милость, как обычно предоставляя ему делать что вздумается, пока это не позорит его или не мешает ему – находиться за бумагами и делами наскучило его сыну быстро, а пока он не особенно раздражал отца, Вася получил определенные полномочия, которыми и распоряжался, начиная потихоньку чувствовать вкус. Вкус власти. И вот теперь, стоя в дверях гостиной дворца [его теперь дворца] он разглядывал ее лицо и радовался только тому, что по крайней мере избавился от Волконского. А на войне он скорее всего сгинет, нужно только подождать.
О, он разумеется сразу сказал ей, что приказ об отправке того куда подальше подписал сам [скажет не без гордости – в конце концов одно из первых назначений, где можно подписываться как «Его Императорское Величество»] и что за взгляд он тогда получил в ответ! И нет, она тогда не стала кричать, как он рассчитывал или умолять его вернуть возможного любовничка, как он надеялся. Но этот взгляд зеленых глаз, неожиданно наполнившийся смесью разочарования и презрения, словно говоривший: «А иного я и не ждала», он запомнил надолго. Этим же взглядом одаривала ее мать его отца, а теперь и он получал его в ответ. Но ничего – теперь у него было множество возможностей сбить эту бесконечную спесь. Он оставил ее при себе, он оставил ее себе, никому другому она достаться не может даже если придется запереть ее в Шлиссельбургскую крепость. А покорности можно и добиться.
Он смотрит на нее с некоторой смесью брезгливости, которая мешается с уже привычным восхищением. Этот Кирилл Андреевич уже целовал до исступления ее притягательные губы - как, впрочем наверняка и до него, но это все равно, все равно было прерогативой исключительно его, теперь императорской. Обжигал свое горло будоражащим ароматом пряностей и красных роз – он представлял, что пахнет она именно так, запах роз всегда следовал за ней, когда она проходила мимо него. Еженочно Василий Борисович, теперь император и самодержец Всероссийский представлял, как его руки уже шарили по ее изящной фигуре, скользили по изгибу талии и упругим бедрам и сжимали до хруста нежные пальцы. Она всегда была его наваждением, проклятием, главной и единственной страстью, музой и вдохновением, да собственно всем. Надя могла сколько угодно раз увещевать его в том, что такая любовь безумна и слепа, но она сама по честности говоря, любила Сашу, который ни разу на нее иначе как на милую маленькую девчушку и не посмотрел, да и не всегда его идеальная младшая сестрица могла быть права. Он кашлянет, привлекая к себе, стоящему в дверях внимание – все обязаны вскочить, обязаны теперь ему кланяться и боже, как же теперь ему это нравится!...
***
Лиза смеется над очередной историей с похождениями Матвея в половину актерок [теперь вынужден был он бежать оттуда через окно], хотя куда смешнее оказываются комментарии на этой Вари. Варя и Матвей на самом деле определенно грани одного и того же стакана, но при этом умудрялись обмениваться порою настолько язвительными друг другу замечаниями, что наблюдать за этой любовной битвой и вправду смешно. Язвит конечно же Варя, потому что насмешливый ее и в высшей степени саркастичный характер иначе не может, но Матвей не обладает совершенно, кажется, обидчивостью из-за чего никакого конфликта в итоге не происходит, зато за перепалками их порою весело наблюдать. Лиза, конечно, смеется, беззаботно и звонко, но делает это скорее на зло собственной судьбе. Мол, если решил господь наказать меня, сделав пленницей в собственном доме, если забрал всех родных и милых сердцу людей, то пусть и не рассчитывает на мои стенания – нет, я буду смеяться и веселиться как можно дольше! Но даже когда ей действительно становилось весело, в зеленых ее глазах нет-нет, но мелькала хорошо скрываемая тоскливая печаль. Мелькала и вновь потухала, чтобы не давать никому поводов для вопросов или жалости.
Траур отменили столь поспешно, столь резко, что все черное убранство столицы даже не успели полностью убрать, а многие люди и вовсе не поняли каким образом им так быстро запретили горевать, вернули маскарады, охоты, яркие одежды и веселье. Никакого годичного или же полугодичного траура теперь и в помине не было, а она все больше и больше под блестящим, горящим каким-то темным [чего раньше она не замечала за ним, хотя впрочем, она видимо много чего раньше не замечала] желанием, ощущала себя куклой, которую необходимо нарядить в красивые платья, которые исправно присылались ей каждую неделю и очевидно отбирались самолично императором и таскать с собой повсюду, выставляя на показ. Она знала, наверное, что нравилась ему, но она нравилась многим. Но и подумать не могла, что симпатии его настолько сильны и…навязчивы. Настолько, что он, как выразился в то утро: «…избавил вас от общества столь вам не подходящего», пусть и не называя имен, отослав Кирилла на войну. И да, солдаты должны служить, но боже, боже, почему сейчас? Сейчас, когда она может начала по-настоящему осознавать, что как только осталась без него из души вырвали еще один кусок. Самое жуткое из этого состояло в том, что понятия она не имела где он теперь, что с ним, здоров ли вообще. Одна мысль о том, что это война и с нее, как выяснилось теперь, можно и не вернуться, приводила ее в ужас. Не увидеться больше никогда! Никогда больше не поговорить, не почувствовать то тепло, которое худо-бедно пыталась сохранить в душе, в конце концов не обнять… Но внешне своей тоски она не показывала не желая ни раздражать становившегося за этот месяц все более вспыльчивым Васю, ни давать поводов для лишних пересудов, которые могли бы еще сильнее навредить Кириллу. Боже, только бы был жив, даже если ранен, но жив!..
Поделиться52024-05-20 20:55:46
— Цесаревна, очевидно вы услышали смешную шутку, раз так улыбаетесь – ко мне вы, впрочем, не столь благосклонны!
Он входит в гостиную, где они столь мило расположились теперь с мальчиками, чудом оставшимися при ней, поэтому ничего не остается, как подняться, впрочем в отличии от всех остальных, проводивших ленивый досуг здесь же за картами и вином, которого во дворце теперь пьют очень много [как же иначе, если при дворе столько французов, а именно с ними заключили договор на поставки спиртного и в том числе этого заморского «шампанского»], Лиза встает не столь поспешно, неторопливо, делая приличествующий статусу его и своему реверанс, как обычно изящно, как всегда умела, но от зоркого глаза не укроется ни это промедление, ни некоторая неохота, которую она разве что не высказывает открыто. Для нее он, пусть и называется император и она будет величать его, как и все «Ваше Императорское Величество», но в душе он останется просто Васей, двоюродным болезненным братом, который хвостом ходил за Сашей. Император. После ее брата называть так еще кого-то казалось кощунством и он тоже это знал и видел. Но они оба не подавали вида или же не хотели его подавать.
Он милостиво, наверное по его мнению величественно, махнет рукой, прежде чем все вновь продолжат заниматься своими делами, впрочем уже не так охотно и несколько неуверенно, изменившуюся в гостиной атмосферу можно кажется даже пощупать.
— Ваше Величество, — почтительно-вежливо, впрочем, без особого энтузиазма приветствует она его, краем глаза наблюдая за выстроившимися за спину мальчиками.
— Я не отниму у вас много времени, на самом деле зашел сюда проконтролировать кое-что, — он хлопнет в ладоши, слишком театрально, два неизвестно откуда взявшихся лакея в париках и красных камзолах появятся из-за его спины. — Снимайте и выносите, да поаккуратнее – это все же работа Джузеппе Бьянко, остолопы! Испортите – будете биты.
«Будете биты» теперь, пожалуй, одно из самых часто употребляемых выражений при дворе. Да, никого пока не отсылают сразу в застенки, а вот угрожают повсеместно, словно иначе и нельзя. При отце угрожать было и не надо – все и так знали, что в случае чего последует. Саша подобное терпеть не мог. И вот – мы здесь, в атмосфере неустойчивости и нервозности.
Лиза не сразу осознает, что именно повелевает снять прочь со стены новый император, поэтому ей приходится несколько непонимающе обернуться и ахнуть, едва ли сдерживая гнев. Сзади нее висел портрет ее брата – на самом деле достаточно старый, на нем ему едва-едва исполнилось восемнадцать и по этому случаю из Италии и был выписан вышеназванный живописец, писавший парадные портреты многим монархам Европы. На портрете Саша получился прелестно и оставался похожим на себя – живые, горделиво взирающие на мир голубые глаза смотрят лукаво и вызывающе на тебя, словно говоря: «Ну, каков я?», видно было, что цесаревич - хозяин всего этого пространства, а потом станет хозяином и всей страны. И несмотря на то, что был он светловолос, в гвардейском мундире, удивительно хорошо шедшем ему Саша напоминал здесь отца куда сильнее, чем в реальной жизни. И теперь два молчаливых покорных человека в красном избавят дворец от напоминания о том, что Саша здесь существовал. До этого они так же избавились от вещей в его кабинете, а теперь взялись и за портреты.
Лиза изменит себе, изменит своему поведению, планируя до этого вести себя равнодушно-вежливо, дернувшись вперед и пытаясь остановить этих людей, остановить их от этого невероятно злого поступка, да только она все еще никак не может привыкнуть к тому, что являясь все еще дочерью Петра Великого и цесаревной, в реальности она просто красивая игрушка в руках нового императора, которую вряд ли кто-то станет слушать.
— Перестаньте немедленно! – вскрикивает севшим голосом предательски, наблюдая за тем, как те приставляют лесенку к стене, равняясь с нижней частью портрета. Интересно, как они вообще намереваются снять такой по истине громадный портрет вдвоем? Они замирают в нерешительности, очевидно не зная кого слушать – некоронованного императора или сестру императора умершего. — Не смейте трогать портрета императора и идите вон, — цедит каждое слово, забывая, что император стоит совсем близко от нее.
— А я сказал снимайте!
Они прожигают друг друга взглядами. На лице Васи заходят желваки, болезненно-бледное, оно покроется заметными красными пятнами. Оно всегда имело такое свойство в моменты его сильного давления. В гостиной воцаряется гнетущая и мрачная тишина, все замирает в ожидании развязки подобного спора. С императорами не спорят и не важно какого они происхождения. Лиза забывает, что перед ней не ее брат, который верил что в спорах рождается истина, поэтому, очевидно не собирается отказываться от своих слов. Ее упрямство императора вовсе не забавит, хотя очевидно вызывает некоторый азарт, который бывает у берейторов с особенно сложными в укрощении лошадьми.
Кто-то осторожно тронет за запястье, очевидно это Варя, предупреждающе намекая на то, что не лучшее время и место, чтобы спорить с ним. Но есть ли теперь для этого лучшее время или место?
Василий Борисович прячет вспыхнувшее возмущение свое за снисходительной, впрочем теперь несколько кривоватой улыбкой, взмахнет рукой еще раз, чтобы лакеи продолжили-таки свою работу, подходя к ней совсем близко. Редкие и мелко вьющиеся волосы проглядывают из-за императорской треуголки с пером. Да, он стал одеваться еще лучше, нежели когда был просто сыном канцлера, да только какого-то особенно величественного вида это не прибавляло.
— К чему это, Ваше Величество? – почти умоляюще [и очевидно ненавидяще себя за подобное проявление слабости], горько спрашивает она, а его рука ложится на ее талию, настойчиво отводя в сторону от портрета брата, пажей и Вари и она мгновенно ощущает себя совершенно беззащитной. Матушка говорила, чтобы она помнила чья она дочь, но кажется помнила об этом только она сама, да и толку от этого? Одно отчество осталось.
— К тому, дорогая моя Елизавета Петровна, что здесь будет висеть мой портрет, потому что действующий и ж и в о й, — он зачем-то делает на последнем слове особенный акцент, заставляя ее на секунду отвести глаза, прикусывая губы почти до крови. — император перед вами. А мертвым императорам можно повисеть где-нибудь в другом месте. И не стоит, вам право, так расстраиваться, вам не к лицу это, — пальцы свободной руки удерживают ее за подбородок, заставляя посмотреть в несимпатичное, настороженное всегда лицо Васи. Нет, пожалуй она совсем его не знала или не хотела замечать очевидных его склонностей. — Вам к лицу блистать на полотнах самых лучших художников, Елизавета Петровна, смеяться, улыбаться – за вашу улыбку готов я умереть! И одевайтесь ярче, я посылал платья по вашим меркам…
«О, нет, теперь я наряжусь в крестьянский сарафан – едва ли я хочу доставить вам удовольствие!» - мстительная мысль засядет в голове, но внешне она останется спокойной. Впрочем, кажется даже если посмотри она на него иначе и покажи лицом все, что она о нем думает в данную секунду – он бы решил это не замечать, а может уверил себя в том, что она еще передумает. И надо же ему было выбрать объектом своих притязаний именно ее, хотя перед ним теперь все дамы высшего общества Петербурга, если не света. Готова поспорить какая-нибудь фрейлина не прочь была бы выбиться в фаворитки, или дочка графа или полковника, но нет – всех их он в упор отказывается замечать. Красота – это для Лизы скорее проклятие.
— Так или иначе, завтра мы отправляемся на охоту, поедите со мной! – и это звучит совсем не как просьба, просить он не был обучен и даже не как предложение. Ее мнение не имело никакого значения, в его голове она попросту и не могла отказаться.
И ничего не остается как опуститься вновь в реверансе, мысленно проклиная все на свете с ничего не выражающим, впрочем лицом, словно ему на зло – она знает, что он мечтает о той благосклонности, которую оказывает она иным людям, но не получает ее даже теперь, будучи императором.
— Как вам будет угодно, Ваше Величество.
— Вот-вот – все как будет как м н е угодно, — кивает он, бросит не особенно уже заинтересованный взгляд на то место, где раньше висел портрет Саши, а теперь зияла пустая стена, каким-то молчаливым укором она казалась Лизе.
Пожалуй, она бы предпочла, чтобы рука его напоследок оставалась на ее талии, но уж точно никак не ниже того.
Того же, кажется, желали и пажи, руки которых так крепко сжались в кулаки, что кажется дрожали.
«Кирилл Андреевич, может быть и хорошо, что вы этого всего не видите. Но, боже, боже мой, как же при это хочу я увидеть Вас!... Да видно и правда не судьба».
***
«…Охота нынче (не знаю право сколь уместно писать вам о них, но я знаю, что вы поймёте и выслушает меня как всегда это делали) стала иной, как и все в государстве. Зверя загоняют просто ради забавы, охотясь без всякой методы, натравливая собак. Да и охота теперь не охота вовсе, а пиры, застолья, праздник за праздником…».
Лиза прохаживается вдоль столов, уставленных всевозможными яствами, кутаясь в светлых мех накидки, пытаясь укрыться от весеннего, но совсем не теплого ветра и предаваясь далеко не радостным мыслям и тоскливым воспоминаниям. И право, странно – ведь охоту она всегда любила, не пропускала ни одной, которые когда-то устраивались, но теперь все чего хотелось поскорее это место покинуть. Никогда еще так много охот не устраивалось, охот с таким размахом и таких…бездумных. Всем лишь бы куда-то лететь, глупо улюлюкать и падать с лошадей в итоге, потому что ноги уже не держат толком, подгибаясь от количество выпитого за не такое уж и продолжительное время. Вместо лесной свежести повсюду стоит стойкий запах вина и венгерского, словно находятся они вовсе не в лесу, а как минимум в кабаке. Да и уместно ли было поедать захмелевшим придворным всю эту еду, когда где-то на южных границах происходит настоящая война, солдаты питаются черт знает чем [хорошо если той самой капустой, над которой однажды посмеялся Саша, вопрошая, что какой мужчина вообще таким наестся?], где-то гибнут люди и прочая и прочая? Подобного расточительства, не понимала на самом деле ни она одна, но и большая часть народа, у которого сыновья сейчас воевали. Ведь расточительность эту никто и не скрывал, выставляя на показ так, как не делал никто из Романовых до этого. Ее отец вообще в быту был экономен, если не скряжист, Саша блеснуть любил, но будучи прирожденным дипломатом по крайней мере осознавал, когда делать это уместно, а когда не стоит. Да и разве это была охота? Зверей загоняли ловчие, на зверье натравливали собак, пока баре развлекались выпивкой, выступлениями актеров и шутов [последние императору нравились особливо – видимо потому, что на их фоне смотрелся он Александром Македонским не иначе], в основном приходя только за тем, чтобы зверя застрелить и помахать «трофеем» перед остальными. И ведь странное дело – сам Вася ранее охоты терпеть не мог, никогда толком не умел охотиться, как и честно говоря ездить верхом, а теперь – ты погляди, не оторвать. Впрочем, не сказать, что он как-то научился это делать, просто теперь охотиться можно было так, как бог на душу положит.
Лиза останавливается у одного из столов, отпивает из бокала душистое вино, пытаясь согреться самостоятельно и никакого особенного энтузиазма к действам где-то за лагерем не проявляя. Поодаль пара французов, в съехавших набок треуголках, пытаются выяснить у мужичка в тулупе, что значит показавшееся им смешным выражение: «Где утка – тут и мутка». Они смешно каверкают русский, с ужасным акцентом пытаясь повторить за ним это выражение, и она бы с удовольствием подкинула бы им новое: «и лыка не вяжете», но остается немым наблюдателем того, как заморские господа слушают простого русского крестьянина:
— Так, барин – утка это баба, а мутка это ну… наветы всякие, сплетни значится. Бабы болтают много.
— Ты слышал, Поль? У них утками называют женщин! Варварская, варварская страна!...
Французы это место не любили, но ощущали себя едва ли не хозяевами положения. Лиза отлично французский знает, еще с детства, потому что отец собирался выдать ее замуж за французского короля, да после передумал, а язык остался. Борис Федорович считал Францию для России и другом и союзником и кажется именно на этом они с Сашей однажды не сошлись…но теперь при дворе их оказалось столько, приехавших вместе с послом Франции и ящиками шампанского, что речь и язык этот отчасти ею любимый, теперь не мало раздражали. Раздражало и то, сколь презрительно отзывались они о здешних местах, сколь пренебрежительно общались с «русскими варварами», подпинывая вот таких мужичков, давая им тумаков без разбора, обзывая идиотами и так далее. Двор совершенно переменился.
Вино начинает горчить на языке, а настроение становится до нельзя мрачным, соответствующим погоде, зависшей над столицей и окрестностями, совсем уж не похожая на весеннюю. Боже, кто же охотится, если подумать весной – зверье только из нор выбралось, худое и неотъетое, да и нужно дожидаться, пока потомство вскормит, а так скоро не на кого охотится будет, не на кого! И это же пытались донести до Васи егеря, ловчие, псари, да только без толку. Не разбирающийся в тонкостях этого дела никогда император, слушать никого не желал, а устав от них попросту выгнал.
Единственное, о чем ей мечталось, теперь это уехать отсюда как можно скорее. Но сделать это было никак нельзя – подобное посчиталось бы за пренебрежение к императору. Рядом не было даже мальчиков, которым настоятельно было рекомендовано остаться во дворце, поэтому она бродила по унылым и голым площадкам между натянутых шатров и расставленных столов в своем гордом одиночестве. Снова начнет накрапывать совсем мелкий и колючий дождь, а ветер ударяет в спину, невольно напоминая об одном-единственном дне, когда удалось согреться, когда ее прикрывали от этого злого ветра и казалось от всех невзгод разом. Да только его отняли, отняли, отняли!...
Тяжелая рука опускается чуть ниже талии и Господь Всемогущий, как же радуется она тому, что платье вместе с шубой делает это прикосновение не настолько крепким и проникающим!... Его дыхание так сильно отдает алкоголем, что она невольно [хотя сделала бы это в любом случае] отстраняется насколько позволяют его руки, отводя лицо и морщась. Удивительно, что он все еще стоит на ногах. Наверняка, снова напоили Голицыны. Но если оба брата в достаточной степени крепки к алкоголю, да и вообще знатные кутилы, то для императора такое очевидно совершенно непривычно. Хорошо еще, что при всем честном народе не свалился в весеннюю грязь и распутицу. Нечего сказать – хорошо теперь первое лицо у России. Невольно в голове зазвучит голос Михаила Михайловича: «Смута будет, ежели на престол взойдете не Вы!...». Но поздно, теперь уже совсем поздно это вспоминать.
— Как вам…— слова даются ему с некоторым трудом. —…праздник, а Елизавета Петровна?
Путал ли он праздник и охоту совершенно искренне, или же действительно не видел в них никакой разницы, а может просто был так пьян, что путался в словах она не знает, все еще удерживая шатающегося самодержца от дальнейших на себя посягательств одной рукой и отклоняясь.
— Вы пьяны, Василий Борисович… — морщится, с укором взирая на не менее хмельных Голицыных, которые до этого вроде бы не были замечены в особенной дружбе с Васей, но теперь кажется ставшими лучшими его друзьями и видно собутыльниками. Вася в их дружбу верил или же уверил себя в том, что теперь хотят быть его товарищами едва ли не все знатные семьи. — Коля, Гриша – не стыдно? — те пьяно покачают головами, будто извиняясь или же ерничая снимут шляпы. — Ваше Величество, кто же так напивается? Какой зверь любит пьяного, опасно это в конце концов! – увещевать его, впрочем, в чем либо кажется совершенно уже бесполезно, но она все равно пытается. — Что это за охота такая?
Он икнет, прижимает ее крепче и приходится таки терпеть это невероятно смрадное дыхание на своей коже – никто и не подумает ее защищать. Некому.
— Ох, что бы сделать с тобой хотел… - и этот пьяный шепот приводит далеко не к приятной дрожи, но несмотря на то, как содрогается внутренне, внешне она лишь улыбается вежливо и отстраненно. Маска вновь опускается на лицо. — А охота славная! И зверя мы поймали, идемте, я поймал его вам! – неожиданно вскидывается и тянет за собой, не замечая особенно хочет она того или нет.
~
Очевидно, лисицу подняли из норы, загнав в узкий овражек, который раскинулся снизу, но стрелять в нее не стали [возможно Вася, который и стрелять толком не умеет просто не попал с первого раза], оставляя рыжего зверька носиться туда-сюда, подгоняемого сворой собак, вдоль флажков, а как только загнали в угол собак натравливали черт знает зачем с какой-то ненормальной агонией наблюдая за его мучениями. Лиса все равно огрызалась на гончих, которые потихоньку ее раздирали, скалилась, кажется даже парочку покусав, но к концу такой «охоты» зрелище представляла собой совершенно жалкое. Лиза не может оторвать от этого зрелища глаз, которые постепенно наполняются самым настоящим ужасом, но тем не менее она продолжает смотреть на эту бесчестную, глупую и жестокую расправу, больше похожую на живодерню. Наблюдают и остальные и в отличие от нее, кажется, испытывают от этого наслаждение. Лиза невольно вспоминает, как однажды еще в детстве спокойно отрывал крылья у бабочки Василий Борисович, когда она посмела сесть на его рисунок. Или как пнул случайно подвернувшуюся под ноги собачку, приблудившуюся к ним в имении. Сама она, переняв видимо от деда своего, царя, к животным особенную любовь, что впрочем не мешало любить и охотится [только не так, не так, не так!] рассказала о том Саше, а тот влепил кузену такую затрещину, что он осел на землю. Борис Федорович за сына заступаться не стал, отругав его за то, что тот вообще ему нажаловался – собственно, он никогда за него и не заступался. И вот теперь живо встала перед глазами эта картинка, когда она наблюдает за его завороженной действом этим реакцией.
— Боже, это же ужасно, жестоко в конце концов! – не выдерживает она, но никто не обращает на нее особого внимания. Императору нравится и ладно. В какой-то момент она словно ловит взгляд затравленного и истерзанного, но все еще живого зверя. Взгляды перекрещиваются – зеленый и янтарный и мерещится ли ей, или может она словила горячку, но взгляд становится каким-то умоляющим. Понимая, что это так и продолжится, Лиза отходит в сторону, чувствуя, как в животе образуется ком и едва ли сдерживая тот же ком в горле, повелительным тоном требует у старшего из братьев Голицыных:
— Дайте ружье, князь. Давайте, пока собак не спустила я и на месте этой лисы не оказались Вы!
И то ли он не хочет спорить с глупой девицей, то ли в голосе ее было нечто такое, что заставило подчиниться и отдать ружье, которое так привычно ложится на плечо. А после и вовсе отойти в сторону, оставляя ей место для маневра.
Лиза почти не целится – с такого расстояния промахнется только слепой [ну, или же Вася], вскидывая двуствольное и совершая всего один выстрел. В воздухе запахнет порохом, но ветер быстро унесет с собой этот запах, вместе с запахами крови, вина и прочей м е р з о с т и. Перед глазами еще будет стоять лисий взгляд – взгляд существа непокоренного и перед смертью, которую она ускорила, не желая больше смотреть на мучения. Зрители равнодушно разошлись, слишком пьяные, чтобы сообразить, что толком произошло – ну, застрелили и ладно, можно снова пойти выпить и посмотреть на драку карликов. Лиза опустит ружье, пошатнется неожиданно, отойдет на несколько шагов прочь, прежде чем содержимое ее желудка окажется на стылой земле.
А ветер продолжит бегать по кронам деревьев, раскачивать их и зловеще завывая. На дворе весна, но холодно ей так, словно вместо нее сразу наступила осень.
***
Она возвращается во дворец едва ли чувствуя себя живой – скорее она кажется себе заболевшей. Перед глазами все стоит и стоит сцена жестокой расправы, которую волей-неволей примеришь и на себя и на всех остальных. И правда – уж лучше застрелиться, чем быть мучимой без конца. Лучше ужасный конец, нежели ужас без конца. Лиза не чувствует себя вовсе, тем не менее без помощи императора [которому самому, пожалуй, требуется помощь] направляясь в свои покои и падая на кресло, даже не потрудившись позволить себя раздеть.
— Лиза у меня письмо. Передали, пока тебя не было… Да все ли с тобой хорошо? – Варя душистым вихрем врывается в ее покои, радостная было, но радость смазывается с ее лица как только она видит ее, глядящую в одну точку где-то на ковре, бледную и дрожащую, словно все еще не может согреться.
Варя прижимает руку ко лбу – не горячий, но что это за вид, словно она увидела на охоте призрака или побывала при смертной казни?
Лиза даже не замечает, как она уходит и возвращается со своей обычной сумкой, где держала снадобья, лекарственные мази и бальзамы. В воздухе запахнет мягким ароматом мелиссы и лаванды, Лиза послушно выпивает то, что ей подсовывают все еще балансируя между явью и кошмаром увиденного. И только спустя еще одну дозу, спустя время, проведенное в тепле дворцовых покоев взгляд становится осмысленнее. Она позволяет снять с себя накидку, стягивает перчатки с рук и все также обессиленно опускается в кресло.
— Боже, Варя, это было ужасно, это живодерня теперь, а не охота. А его спаивают, пока комплименты говорят!... — в сердцах отбрасывает перчатки куда-то в сторону и обращается наконец к подруге. — Что за письмо? Я никому не писала.
— Письмо? Какое письмо? — Лиза хмурится, Варя хмурится и кажется обе они теперь гадают кто из них издевается. Спустя мгновение другое лицо княжны просветляется. — Ах да, письмо! С твоим видом я успела забыть, зачем я пришла! – она достает маленький листок, сложенный вчетверо, протягивая его с какой-то таинственно-насмешливой улыбкой. — Я решила, что лучше чтобы никто его не видел, так на всякий случай. Так что если решишь ответить – думаю отправить от своего имени…
Лиза, все еще хмурясь листок забирает, разворачивает, а после вскрикивает, вскрикивает от восторга, радости, неожиданности, прикладывая руку к губам. На этом маленьком листочке бумаге, писанном в спешке черт знает в какой дыре все одно, что солнечный луч для нее и она вскакивает, хватая Варю за руки и кружится с нею по комнате в каком-то невероятно счастливом танце. И забываются на миг все ужасы охоты, пьяные намеки, забывается холод. Они смеются, пока кружатся вдвоем по Лизиным покоям, задевая мебель и хохоча громче.
— Ты даже не представляешь, что это за письмо, Варюша! Он жив! Он мне написал, он жив, жив, жив! Боже, нужно написать в ответ, немедленно, вот прямо сейчас! Принеси мне бумаги и чернил! Это лучшее письмо на свете, лучшее!...
Варя усмехается, оставляя Лизу наедине с ее листком и поручиком – она письма не читала, но догадалась легко от кого оно. А Лиза, едва получив возможность и средства сесть за стол строчит без остановки в ответ, на этот раз даже особенно не волнуясь ни о правильных словах, ни об обращениях.
И сердце, глупое сердце, колотится быстро в груди. Но она пока не задумывается об истинной природе чувств своих, обмакивает перо в чернила и начинает переписку, которая станет судьбоносной…
«Мой милый друг…».
_________________⸙♦⸙__________________
«Сегодня ходила на верфь и сердце кровью обливалось - мои кораблики, мои любимые хереют постепенно и никто не думает ими заниматься…». Май, 1727 год.
Лиза врывается в кабинет даже о себе не предупредив. На часах у кабинета разумеется никого нет – теперь на часах вообще стоят из рук вон плохо, поэтому никто не подумал ей препятствовать. В окнах его виднеются строительные леса, что очевидно весь вид из оных портит, но перекраска стен из розовато-красного в желтый пожалуй одна из самых невинных перемен, которые продолжают случаться в государстве раз за разом. Деятельность развертывается вроде бы нешуточная – не успевают рассылать новые и новые указания, а вроде бы и совершенно бесполезная. Император словно получил интересную игрушку и теперь переделывает ее под себя.
Не понравился цвет дворца – перекрасим в охровый, потратив на это какую-то немыслимую сумму денег, на которую можно было снарядить еще пару батальонов или улучшить довольство во все еще воюющей армии.
Не нравится, что полки гвардейские, оставленные в столице, не слишком тебя жалуют – так можно организовать свой, новый, назвать в свою честь, придумать отличную от прочих, темно-синюю форму и потянутся к тебе желающие быстрой славы молодцы, которым в общем-то все равно, где обретаться, а тут и на войну не отправят и дозволено много – как никак личная охрана императора. Васильевский полк теперь считался подразделением элитным, отбирали правда туда, как хотелось ей заметить, полный сброд, по принципу того, кто лучше расхвалит новоявленного императора, которому за всю его жизнь не говорили столько хороших слов.
А не нравится флот – так распродадим.
Поэтому ничего ей, в общем-то и не остается, как ворваться к человеку, который, как всегда казалось, понимал и поддерживал.
Борис Федорович вскинет на нее глаза, до этого занимающийся очевидно какими-то бумагами и покажется ей, или же нет, но глянет с видом некоторого неодобрения. Так смотрят на ребенка, который помешал родителю работать ну, или же на женщину, потому что женщины, как известно ничем не лучше детей. И все же, выгонять не стал, дожидаясь пока дверь она прикроет и вопросительно воззрившись на нее.
— Борис Федорович – это правда? – выпаливает она сверкая гневно глазами, почти подбегая к его столу.
— Что правда, Ваше Высочество? – терпеливо переспросит тем временем канцлер, уставляясь в бумаги и кажется не особенно интересуясь тем, что она собственно от него хочет.
— Правда, что сказал мне император. Мы продаем трехмачтовый фрегат «Звезда Петра» французам? Он же едва достроен. Совсем новый! Я знаю этот корабль, я знаю, что батюшка хотел с ним сделать и это далеко не продавать Франции! Другие корабли мы тоже перестали строить, хотя идет война и всем известно, что без флота в ней победить невозможно, ведь мы имеем делом с Османским государством!...
Он помедлит, прежде чем вновь посмотреть на нее и в глазах дядюшки, человека, которого знаешь всю жизнь промелькнет раздраженное выражение: «Да что ты можешь понимать и знать в кораблях?...», но быстро это выражение пропадет, скрываемое за доброжелательной улыбкой, показавшейся, впрочем, скорее терпеливой. Вот сейчас за ней последует нотация, а после ее попросят вон, как просят нашкодившего ребенка. И это неожиданное наблюдение сбивает с толку – никогда он не смотрел на нее таким образом.
— В этой войне, Елизавета Петровна победить невозможно в любом случае, а мы лишь оттягиваем неизбежное, — выдает он терпеливо, объясняя с его точки зрения вещи очевидные. — я говорил это покойному брату вашему, но он ко мне не прислушался. К тому же продаем мы только один фрегат, как вы верно заметили. Потому что на эту войну с вашего позволения нужны кроме всего прочего деньги. А содержать военные корабли для казны очень накладно. И я бы показал вам сметы, но не хотелось бы, чтобы вы забивали этим головку вашу. Оставьте это нам, право слово… Черт побери, дурак ты что ли совсем! – он неожиданно прерывается, дергаясь и выругиваясь, как только один из рабочих, призванных на перекраску Зимнего, заглянет в окно. Откашляется сердито, поправляя кружевной воротник богато расшитого камзола. Пробормочет себе под нос что-то и Лиза разберет пару слов только: «идиот, вместо того чтобы стены повелевать красить…» и «шут гороховый». Потом, словно вспоминая, что она все еще здесь поднимет глаза, придаст выражению лица озабоченность и ласковость, но она почувствует, что он был бы не против – исчезни она с глаз.
Нехороший холодок пробегает по спине от какого-то предательского чувства. Словно ее долгое время обманывали.
— Вы простите, Елизавета Петровна – дел много…
Она посмотрит на него неожиданно пристально, не отрывая взгляда присядет в реверансе, но он остановит ее у дверей.
— И еще… если император что-то сказал – значит так и есть. И сомневаться вам в том не стоит.
— Я поняла вас, Борис Федорович, — она горько усмехается. — Думаю, что поняла вас правильно.
И захлопывает за собой дверь.
***
«Звезда» встречает ее белоснежными боками сверкающими на солнце. Встретит приветливо, покачиваясь на волнах, словно приветствуя едва-едва накреняясь. Теперь она уже красовалась новыми парусами, такими же белоснежными, как и ее корпус и при виде своего [а для Лизы это всегда было только так] корабля неожиданно навернутся слезы, словно встретился с кем-то родным и живым. Этот корабль видела она в детстве, разглядывая чертежи отцовские, этот корабль рос вместе с нею, обрастая палубой, мачтами и парусами, этот корабль пережил двух самых близких ей людей, а теперь этот корабль отнимали у нее, отнимали безвозвратно, угоняли в чужую страну, где возможно сменит имя, станет возить бесполезные грузы туда-сюда, вместо того, чтобы на парадах ходить или принимать участие в сражениях, став жемчужиной флота, до которого, впрочем, теперь мало кому было дело. Другие корабли, стоящие здесь, спущенные на воду, также томились без дела, просто покачиваясь на воде как куклы-неваляшки. Их капитаны и команда не получавшие жалованья [конечно, ведь денег нет, увы], проводили досуг в кабаках и притонах, а корабли тоскующе упирались мачтами в небо, скучая по императору Петру и былым временам. Кораблю безопасно в гавани, но не для этого строят корабли.
Василий Борисович сообщил ей о продаже фрегата с какой-то бесконечно мстительной улыбкой – не мудрено, он наверняка знал о том, насколько корабль этот важен лично для нее. Когда-то она рассказывала о нем всем, вот он и запомнил. Но неужели личная месть ей за шалость, невинную шалость, стоит трудов десятков человек и возможного будущего? Да и как мог Борис Федорович при этом поддержать такой бездумный поступок? Или же поступок этот был сделан с его молчаливого одобрения? А может идея эта и вовсе не императору принадлежала, а он просто решил лишний раз поиздеваться, думая, что чем больше наказаний свалится на ее голову за непокорность, тем быстрее свалится она к нему в объятия? Дудки.
Лиза прикладывает ладонь к деревянной обшивке, любовно поглаживая рукой в перчатке корпус любимого корабля.
— Неужели больше не увижу тебя? Вот и ты от меня уплывешь…
Казалось, что вместе с кораблем она потеряет еще один счастливый кусок прошлого. Так все растащат – ничего и не останется. Быть может, не устрой она маскарад на очередном приеме французов, этого бы и не случилось. Ей хотелось лишь делать все на зло в тот день, вот и нарядилась вместо платья, отправленного ей нарочно в мундир, сшитый специально для нее. И надо сказать, что выглядела она в нем на диво хорошо – при дворе часто говорили, что мундир ей идет даже больше иных мужчин. Но император такого самоуправства не оценил, вновь пошел красными пятнами и зашипел:
«И что это, право такое?»
«Как же, вам не нравится, Ваше Величество? А все говорят, что в мундире у меня удивительно стройные ноги! И потом – это мундир Преображенского полка, преданного вам служащего! Нет мундира лучше!» - щелкнет каблуками, кивнет головой, по-мужски, залихватски, задорно.
То ли сказанное последним слово был воспринят как намек на то, что новый полк в России лишь фарс, то ли ее издевательский тон, а может тот факт, что танцевала она весь прием с Варей сыграли злую шутку, а может и все вместе, но «Звезду» продавали, хотя с приема прошло приличное количество времени. А ей теперь оставалось лишь прощаться, поглаживая белоснежный ее бок, славливая сочувственные взгляды спускавшихся и поднимавшихся с нее на берег матросов. Корабль — это не просто киль, палуба, паруса. Хоть без них и нельзя. Просто корабль... «Звезда» была для нее свободой, пусть всегда призрачной и эфемерной, но свободой, которую теперь так безжалостно отнимали.
— Надеюсь хорошо ты будешь плавать, милая, не подведешь меня. А может и лучше, что уплывешь ты отсюда, только забрала бы ты меня с собою и отвезла…
…к нему.
И подступают в глазам слезы, которым уже не даст пролиться, пусть сердце и рвется на мелкие части от одной мысли от такой потери. Это был не просто корабль – это целая жизнь, это мечты, которые теперь так нещадно и так символично распродавали. Мы не можем скучать по чему-то, пока не потеряем это навсегда. Получив всё, можно так же легко всё потерять… Она и сама была кораблем, который теперь мотало из стороны в сторону, который грозился пойти ко дну. Правда, моряки часто говорили одну интересную фразу: «Иногда маленькие шлюпки спасают корабли».
Но где же, тогда ее шлюпка?
Ты знаешь где, Лиза. И тебе туда хода нет.
«"Звезды.." нет больше. Продали французам, продали. Как, впрочем и совесть свою продали. Я не стану писать, что это значит для меня в конце концов это уже не важно…»
***
«я готов слушать Вас вечно…».
«Я думаю о вас ежечасно…».
«Вы должны выстоять, и тогда выстоим все мы…»
«обещайте, что споёте мне, когда вернусь к Вам!...».
Она бродит медленно вдоль кромки моря, а волна с шипением откатывает от берега, оставляя за собой мокрой песок и пенистый след, а после накатывает снова, рассыпаясь тысячей прозрачных капель. Свежий воздух с Балтики приносит запахи соли. Позади нее – молчаливые соглядатаи, без которых не обходятся ее поездки, если совершает она их дальше городской черты. Ну да, мало ли она сбежать захочет из такого райского места, которое она некогда думала называть домом?
Море продолжало бушевать. И сколько бы синяя гладь не подражала золотому игривому солнышку, она продолжала оставаться лишь холодным отражением, но летний ветер всё равно её очень любил. В знак своей бесконечной любви, разгоняя синие волны, рисуя чудесные узоры на поверхности темной воды. Любовь ветра и моря оказывалась совершенно бескорыстной.
Это место, окруженное белыми известняковыми скалами обнаружили ее мальчики и именно они и должны были бы ее сопровождать, но им император не доверял совершенно, вот и поставил к их компании этих мрачных надсмотрщиков. Но и они не могли это место испортить – спокойное и в то же время такое буйное. Лиза бродит по песку босыми ногами, едва-едва приподнимая подол платья и все время мысленно воспроизводит в памяти строчки из вновь полученного письма. Иногда она представляла себе, как он пишет его склонившись около свечного огарка или развалин какой-то древней турецкой крепости, иногда вела с ним в голове диалоги, а после вновь перечитывала письмо и бросала случайные камни в море.
Он пишет о том, что в армии разложение ужасное и команды сплошь глупые – еще бы, чего тут ожидать, если в столице команды еще глупее?
Он пишет о цветущих вишнях и поющих жаворонках и она живо представляет себе их здесь, а сердце рвется, рвется, рвется к нему бесконечно и тоскующе. И если бы попыталась она писать это чувство, то, пожалуй, вышло бы ужасно путанно и длинно. Ее тоска — это огорчение из-за того, чем не можешь овладеть. Возможно, то, что упустила. Возможно, то, чего ее лишили. Тоска — это быть не принадлежащим. И не то что бы хотелось ей кому-то принадлежать – нет, никому еще и никогда она не принадлежала и не находилось достойных, но хотелось быть чьим-то маяком, а одиночество невыносимо. Ее тоска – это чувствовать себя чужим там, где ты находишься. Чувствовать себя привязанным. Это чувствовать внутри себя пустоту и пытаться её заполнить, однако, если не знать, по чему ты тоскуешь — эту пустоту не заполнить. Тоскуешь больше всего по тому, чем владел, но потерял.
И она поняла по чему тоскует сильнее, нежели по утрате собственной свободы.
Но что делать с этим не представляла.
_________________⸙♦⸙__________________
«Все чаще наш император требует меня к себе. Увы, не в кабинет. И кто знает сколько ещё смогу я этому противостоять. Иногда думается мне, что уж лучше в монастырь уйти, постриг принять, чем согласиться на то, что мне предлагают…»
Жизнь Василия Борисовича всегда казалась ему тягучей серой жижей, которая никогда не вызывает совершенно никакого интереса. Ну а что в ней происходило кроме грандиозных розыгрышей, устраиваемых царскими детьми, и бесконечных нудных занятий и то которые в итоге пустили на самотек? С самого детства жизнь его была пресной, однообразной и похожей на безвкусную клейковину. Дома его особенно никто не любил. Мать с отцом едва терпели друг друга, постоянно скандалили, обвиняя сначала друг друга, а потом и его в собственной нелюбви и наличии любовниц и любовников. Ведь если бы у отца был нормальный сын – он их не заводил, а если бы нормальный сын был у матери, то у нее не было бы надобности забываться с молодцами старше нее. Он слышал это постоянно, утешаемый разве что Надей, которую как раз обоюдно любили, но к которой не испытывал он той ревности, которую разумеется ощущал к Саше.
В среде сверстников ему тоже было плохо — забитого тихого мальчишку, не отличающегося ни нужными талантами, ни внешностью, ни харизмой, дразнили и не замечали. И спокойно ему стало только с тех самых пор, когда Саша взял его под свое крыло, будучи старше всего на год он казался по началу забитому мальчику почти богом. Им в то время искренне хотелось восхищаться: талантливейший ученик, превосходный наездник, несомненный лидер в любой компании, бесстрашный и веселый балагур с неиссякаемой фантазией на проделки, обаятельный и безбашенный любимец девушек с заразительной улыбкой.
Саша свято верил в обеты дружбы и вечной любви, имел благородное пылкое сердце, всегда вступался за беззащитных и восстанавливал справедливость любым путем. Но при всех своих положительных качествах он не был идеальным, однако понял это Вася только ближе к совершеннолетию, когда розовые очки разбились вдребезги, а жгучая зависть оплела сердце душащими лапами. Саша, когда им овладевало неукротимое желание сотворить что-нибудь, мало заботился о желаниях других, никогда не думал о последствиях и терял голову от ярости, если кто-то пытался ему перечить. Но все же наследнику прощалось все: импульсивность, эгоизм, несдержанность, излишняя горячность, жесткая непримиримость к соперникам и избалованность. Стоило только ему отпустить шутку, от которой вся гостиная хваталась за бока и рыдала от слез, или ярко улыбнуться какой-нибудь девчонке — все сердца таяли.
Все недостатки цесаревича со временем становились все более броскими и яркими, раскалывали прежний облик благородного защитника и жирно замазывали весь свет его души. Гордость? Всего лишь идиотское бахвальство, неуемная жажда быть в центре внимания и вбитые в голову рыцарские лозунги. Самоотверженность? Просто глупость, желание выпендриться и выпятить свое добренькое сердце из чистейшего тщеславия. Честность? Не более чем болезненно острая жажда нереальной справедливости. И это неудержимое желание засунуть свой слишком благородный нос во все дела мира непременно обернулось бы для Саши чем-то действительно ужасным. Так оно и вышло – проправил он совершенно не долго. Вот Вася сидел тихо и не отсвечивал и в итоге выиграл.
Вася знал, что Саша в душе презирает его, и коленки всегда дрожали, стоило только тому произнести что-то издевательски небрежное в адрес «Нюниуса-Разнюниуса», обидная кличка придуманная на латинский манер, но Саше лично казавшаяся великолепно смешной, не желая замечать насколько она была болезненной. Вместе с такой своей жесткостью, которую почему-то никто не хотел замечать он умел нравиться абсолютно всем людям, если этого хотел. Гипнотическая утонченная красота, безупречные аристократичные манеры, превосходное чувство юмора, умение говорить то, что хотят слышать другие — все это превращало наследника в безоговорочного любимца публики. Им восхищались, перед ним робели, его обожали. А Вася в конце концов почти ненавидел. Девушки проклинали Сашу, заламывали руки и захлебывались слезами, пытаясь ненавидеть. Но стоило ему щелкнуть пальцами, как любая из бывших пассий ринулась бы к нему, забыв обо всем на свете. Неудивительно, что даже будущая его супруга так долго томила его голову ожиданием согласия.
Эх, если бы только его любовь ответила ему – он бы никогда не стал смотреть на иных женщин! Да и есть ли женщины подобные е й, Лизе? Все они по сравнению с ней попросту жуткие жабы. Но даже теперь, когда он стал императором, когда никто не смеет смотреть на нее зная, кому она принадлежит, она все равно остается неприступной. Ей все еще совершенно все равно.
***
Лиза то ли с отвращением, то ли с ужасом наблюдает за тем, как и во что превращается Император, после того как окончательно потерял контроль над собой очевидно так сильно перебрав после празднования коронации, что едва ли понимал что творит. Сама она плохо представляла что может с этим сделать, но при этом отказаться не могла. Ведь после фразы: «Его Величество к себе требуют» обычно не отказывают. Хотела бы она написать Кириллу о том, что жизнь ее теперь едва ли отличается от жизни какой-нибудь турчанки в гареме, разве что она не прикрывает лицо. Но написать ему о таком было бы в высшей степени эгоистично – не хватало только, чтобы он бросил все и отправился во дворец, где с большой долей вероятности его заключат под стражу быстрее, чем он назовет ее по имени. Поэтому и оставалось молчаливо взирать на отвратительную картину: пьяный император, в полурасстегнутой совместными усилиями братьев Голицыных рубашке и бутылкой наперевес, бранящийся, раскрасневшийся и менее всего напоминающий императора теперь.
И вряд ли его, как впрочем и других высших сановников волновали победы на войне, которую многие здесь называли бессмысленной и расточительной, но которые совершались какими-то немыслимыми усилиями русского оружия и ее милых гвардейцев. О нет – высший свет больше чем когда бы то ни было интересовали развлечения, а новый император в них, что называется погряз. Зачем человеку, которому претит все военное пытаться продолжать войну? Лиза пыталась достучаться до Бориса Федоровича, но наткнулась лишь на стену непонимания – нет, он был ей не союзник ни в вопросах увещевания правителя [в этом он не видел смысла], ни в деле сохранения ее чести и достоинства [видимо по его мнению и беречь было нечего]. А последнее, тем временем терпело посягательства постоянно.
Терпение его источалось быстрее, чем кончались дни в месяцах, а ее способность находить предлоги по которым она не могла завтракать / обедать / ужинать в его покоях, читать в его покоях стремительно таяла. А конце концов он заявил, что если ее что-то беспокоит, то она может рассказать ему об этом в приватной обстановке и не забыл при этом легонько хлопнуть ее по бедру. И вот, теперь она здесь, стоит и смотрит на него, затуманенного алкогольными парами настолько, что он окончательно вызывал у нее вполне оправданный испуг.
Рука сама собой потянется к крестику, отцовскому крестику, оставленному матерью. Кто станет возражать, что бы не решил он теперь сделать? Голицыны? Нет, даже если от поведения императора оба протрезвеют – терять его расположения, расположения, которого не добились от Саши они не станут. Надя? Боже, едва ли она сможет что-то сделать, беззвучно прижимая ладони к губам стоит она рядом с братом, пытаясь хоть как-то его растормошить, но выходит скверно. До Лизы долетают обрывки ее умоляющих фраз: «Васенька, давай ты ляжешь спать», «ты устал», «не надо» и так далее, но едва ли хрупкая, тихая Надя сможет что-то здесь противопоставить. Боже мой, во что, во что превратилась теперь Лизина жизнь? Какая пошлость вокруг, какой смрад, какой стыд!... И рука все крепче и крепче сжимает крест на груди, который надела прежде чем идти сюда, сжимает до того крепко, что на ладони должны остаться следы.
«Кирилл».
Так легко и просто в мыслях всплывает именно его имя, вместо обращения к Богу и всем святым. Это получается само собой, это почти что богохульство, но ничего она поделать с собой не может. Она обращается, молится, просит спасти ее человека, который и сам возможно в этом спасении нуждается.
— Васенька, ну зачем же ты так набрался? — Надя продолжает сокрушаться над невменяемым телом брата [именно телом и никак иначе], поглаживая его голову и вновь получая порцию отборной брани. Голову, на которую недавно возлагали руки митрополита императорскую корону. Пару раз он кидался какими то предметами по комнате и кого не попадя обвинял в заговоре.
И вправду, зачем? Может потому, что коронация только явно показала, что как не наряжай в золото и багрянец императора, все равно это будет выглядеть каким-то нелепым спектаклем. Эту коронацию волей-неволей сравнивали с Сашиной благодаря относительно небольшому времени, после которого оная происходила и пусть она не уступала прошлой в помпезности, но и близко не соответствовала той. Народу было приглашено ещё больше [что никак не соответствовало постулату о том, что денег а казне нет], больше угощений, больше драгоценностей и даже сама служба кажется дольше, но вот только главный виновник торжества не тот.
Если корона удивительно шла Саше и никто бы и не подумал, что она ужасно тяжёлая – так гордо и легко он нёс ее на своей голове, то у нового императора она казалось поглотила половину головы и постоянно вызывала беспокойство – того и гляди упадет на пол и будет скандал. Мантия на узких Васиных плечах смотрелась слишком громоздко, да и вообще он более выглядел все тем же ребенком, на которого надели взрослую одежду и выставили на всеобщее обозрение. Саша наслаждался казалось самим процессом [или удачно делал вид], а на лице Василия Борисовича отпечаталось нервное волнение, если не испуг.
Да, он был племянником Петра Великого и двоюродным братом императора Александра и люди отчаянно пытались найти в нем фамильное сходство, но не находили. От блистательных родственников ему не досталось вообще ничего и любой человек после этой коронации только сильнее уверился бы в том, что новый император это какая-то нелепая ошибка. Может потому он и избавился в своем дворце от всех вещей, что напоминали бы ему о бывших правителях, нещадно отсылая в дальние дворцы портреты и личные вещи. Возможно, ему казалось, что великолепные родственники следят за ним и не одобряют, возможно невыносимо ему было смотреть на них и понимать, что никогда не сможет им соответствовать. Так или иначе прием после коронации в отличие от волшебного Сашиного превратился в очередную распутную гулянку-вакханалию, главной целью которой было напоить императора до состояния близкого к беспамятству. А может ему очень уж хотелось напиться самому.
— Да уйди ты, уйди! — он машет рукой на Надю, хрупкую и тоненькую Надю, отталкивая ее от себя. Она пришла сразу же как только императора попробовали отвести в спальню отлично осознавая что так просто спать он не отправится. — Я тебя не люблю, так что пошла вон! – заявляет он, вставая со своего места и пошатываясь вновь направляется к Лизе.
На нее снова напахнет таким ароматом, что можно и самой захмелеть. Неужели мало ему ее мучений, когда пришлось станцевать с ним все танцы к ряду снова, славливая внимательные взгляды всех придворных разом? Лиза морщится и хочет было отпрянуть но нет, он не даёт крепко удерживая ее за плечи.
«Кирилл, Кирилл, Кирилл…» - в голове бессвязно ворочается его имя, ноги прирастают к земле. Она не знает почему оказывается в таком ужасе, но никогда его уже не забудет как и своей предательской беспомощности.
— Вот, — с довольным видом говорит он.— а тебя люблю.
И это «люблю» станет последним, что она услышит за шумом в ушах, прежде чем губы пахнущие вином плотно прижмутся к ее губам, совершенно насильно раздвигая их и проталкиваясь внутрь. К ее губам, которые, увы, помнили совсем иные поцелуи. Если уж честно, Лиза, на поцелуи тебе не так уж и везло, почти все из них ничего не значили, за исключением, пожалуй единственного, который теперь и приходится вспоминать. Но совершенно невозможно оказывается представить, чтобы выдержать это мучение на месте вспотевшего и совершенно пьяного императора е г о, человека, имя которого заменяло молитву. Тошнота подкатывает к горлу, но ничего поделать она не может, оглушенная и поражённая. А ведь если попробовать причинить императору вред, то отправят тебя прямиком к праотцам.
Ужасный конец лучше ужаса без конца.
Лиза вспоминает взгляд затравленной лисицы.
Та ещё покусала пару собак, прежде чем испустить дух.
Пока она держится, он ничего не сможет ей сделать. Ничего слишком болезненного. Он не начнёт действовать, пока не почувствует полную власть над её эмоциями и телом.
И она сопротивляется, пусть это и может стоить ей как минимум свободы, а как максимум безопасности, но она сопротивляется, упираясь обеими руками ему в грудь, чувствуя, как от этого поцелуя тянет вырвать. Сопротивление так или иначе его только заводит, он упорствует, прижимается к ее губам только сильнее, но ее спасает иронично алкоголь в его крови – держится он на ногах плохо, поэтому в итоге падает на пол, а она быстро ретируется куда-то в бок, к Наде, пока он не предпринял новую попытку к этому. В голове звенит и кружится, в ушах все ещё шумит кровь, но внешне она даже умудряется сохранять видимость спокойствия. Только смертельная бледность выдает весь тот ужас, в котором она только что побывала [и очевидно ужас не последний].
Голицыны успевают перехватить его прежде, чем он рванет к ней ослеплённый вином и яростью.
— Вы ведь император! — она находит в себе какие-то титанические усилия, чтобы выкрикнуть это, а не просто ринуться вон, оставив его в одиночестве. — Вася, ты император, так нельзя!
Это «Вася» словно отрезвляет его на секунду и он останавливается, обмякнув на руках несколько протрезвевших от увиденного [и прячущих глаза от нее] братьев. Он сощурится, вглядываясь в ее бледное лицо, а после неожиданно покачает головой и тихо возразит, глядя куда-то сквозь Лизу.
— Я не император. Это все ложь, ложь, ложь.
— Ну так станьте им! – не выдерживает Лиза, слезы отвращения то ли к себе, то ли к нему режут глаза, от того голос дрожит. — Станьте императором, за которого не стыдно, станьте таким, каким вас хотят видеть! Неужели, кроме как насилием вы иначе расположить не можете?
— Не могу! — он хохочет, устало махнет рукой, позволяя довести себя до постели. — Потому что я не они, не они!... — трясет рукой в воздухе и черт знает на кого намекает, прежде чем впасть в забытье, едва голова коснется подушки. Может быть на Петра или кузена, а может быть на всех Лизиных кавалеров, она этого не узнает.
Лиза пошатываясь выйдет прочь из опостылевшей спальни, прежде чем ее нагонит тихий, испуганный голос Нади. Возможно ей показалось, но в глубине знакомых карих глаз промелькнет с т ы д и ещё что-то. Похожее на страх. Надя будто хотела что-то сказать, безумно хотела, ее что-то мучило и может быть именно поэтому она столь долгое время всеми силами избегала их пересечений. Надежда Борисовна осторожно тронет ее за руку, сожмет в маленьких изящных ручках.
— Простите, Ваше Высочество. Простите н а с, — она сжимает руку крепче.
А Лизе сейчас только и хочется, что сбежать отсюда прочь и как можно дальше, поэтому она просто кивнет, выдавит из себя нечто вроде: «Я не виню вас» и, собирая остатки сил, приглаживая растрепавшиеся волосы, вздергивая подбородок отправляется в свои покои, едва сдерживаясь, чтобы предательски не броситься наутек.
В ином случае она бы заметила, почувствовала бы, что просит Надя прощение вовсе не за нынешний инцидент, и не столько за брата. Но Лизе все равно.
Ноги предают ее едва за ней закрывает дверь, она дрожит, трясется и даже толком не может плакать в каком-то беззвучном ужасе. И противно самой от себя, учившейся фехтовать, цесаревне которая так напугалась просто мужчины. Но остановиться она не может.
— Ваше Высочество… — кто-то входит в комнату, очевидно так и не дождавшись когда она ответит на стук. Но стучал ли кто-нибудь? Она не слышала, прижимая руку ко рту и сдерживая рыдания, рвущиеся наружу. Ужасно хочется помыться. И забыться. А может и напиться – черт его знает. — Ваше Высочество, что с вами? Он… Он что-нибудь сделал с вами? Скажите, я убью его, не молчите!
Семён, конечно же ее Семён опускается на колени, смотрит преданно в глаза, а она мотает головой, отчаянно пытаясь взять себя в руки. Нет, вот к чему приведет ее слабость, вот почему никогда она не напишет Кириллу правды. И она на секунду прижимает ладони к глазам, словно это поможет успокоиться, а потом поднимается с пола, опираясь на его руку.
— Нет, Семён, не говори глупостей. Никого ты не убьешь – оно того не стоит. Но, ты знаешь, что…принеси мне бумаги. Письмо не закончила.
На его лице проскакивает странное выражение, которое она не может или не хочет разбирать, но задавать ей более вопросов он не станет, лишь кивнет коротко, склоняя голову и выйдет за дверь.
Лиза дописывает Кириллу письмо, а рядом лежит его собственное, написанное очевидно месяцем ранее. Руки все ещё подрагивают, она ставит пару клякс, а мысли все вьются в голове, а сердце отчаянно бьётся о грудь, будто пытается вылететь прочь. Она смотрит на то, что написала, на невинный сонет Шекспира и на новую запись на которой не высохли ещё чернила. И зачёркивает, зачёркивает так, чтобы слов было не разобрать.
Слез нет, она настолько опустошена, что они просто не могут политься.
Лиза берет его письмо, которое знает наизусть, прикладывает его к губам на секунду, словно это какой святой образ. От него все ещё пахнет слегка порохом и войной, хотя какие-то запахи все же примешиваются из дворца. Оно все ещё пахнет раскаленным солнцем и пожарищами Крыма. Но для нее, даже несмотря на это, письмо, пришедшее вроде бы с войны сейчас является едва ли не самым чистым, что есть в этой комнате включая ее саму. И она целует его почти что с благоговением.
«Мой милый серьезный мальчик, если бы вы знали, как вы здесь нужны, я не уверена что справлюсь здесь, Кирюша возвращайся, возвращайся что бы там ни было (зачеркнуто), возвращайся вопреки, я не могу, более. я тоже тоскую чрезвычайно…»
_________________⸙♦⸙__________________
Обещали ли вы мне однажды, что никогда не оставите или мне привиделось это?... Приснилось ли? Осень навевает на меня тоску, право, прошу прощения. горит, опаляет жаром, будто прожигает мою душу насквозь.
Когда же все это наконец закончится? Это вообще закончится?....
«Знал ли ты, что император наш увлекся рисованием с натуры?...»
Чем больше времени проходило тем менее вероятным ей казалось, что Кирилл вообще когда-нибудь вернется и тем сильнее зрела в ней тоска и уныние, усиливающиеся то эпидемией, обрушившейся на столицу с приходом в порт заморских судов, то осенней хандрой с серыми небесами, проливными дождями, которые казалось никогда не закончатся. И с каждым днем перспектива хотя бы маленького проблеска счастья или хотя бы надежды ускользала от нее, растворяясь в постепенно угасающих днях, которые становились все короче, тогда как ночи были все длиннее и все безрадостнее. Она каждый раз уговаривала себя, когда садилась за очередное письмо, что это война, что она все еще длится в конце концов, но отчего-то даже тогда, когда на землю опустился первый снег, а под Белградом был подписан мирный договор, перспектив того, что она увидит его и после этого стремительно уменьшались. По крайней мере ей так казалось, из-за чего она все медлила и медлила с ответом на письмо его последнее – все одно она бы не смогла в нем уже, увы, скрыть того как сильно он нужен здесь. Невозможно при этом осознать – насколько же долго оно до нее на этот раз доходило, она уже разуверилась его получить в руки, а когда получила в своей тоске и меланхолии даже толком не поняла рада или нет.
Отгорела осень с ее бунтовскими пожарами в Москве, отгорела и эпидемия, заставившая бежать двор из Петербурга и унесшая жизни стольких хороших и не слишком людей. Снова выпал снег.
В столице мир праздновали бурно, буйно и как обычно весьма расточительно. Точно также праздновалось и ее День Рождения, где император буквально заставил ее сесть рядом с собой на трон, а все подносили подарки к ее ногам. Лиза же ощущала себя куклой, которой впрочем и являлась уже практически год. Год! Неужели же почти целый год прошел с тех пор, как не стало Саши, о смерти которого все в столице действительно предпочитали забыть и справляли скромненькую поминальную службу, которая тем не менее казалась ей благостной и тихой. Иногда Лиза завидовала Наташе, которая теперь уже была пострижена, как следовало из ее письма и носила теперь черную монашескую рясу и имя инокини Евдокии. Ее теперь не тревожили проблемы этого мира, она могла задуматься о душе своей и «месте горнем». А Лизу, которую по ее же, Наташиным словам, ждала совсем другая жизнь, терзали постоянно.
Заключение мира казалось всем действием совершенно грандиозным и счастливым, а Лиза едва разобравшись в его условиях осознала насколько же все начинания и планы Саши полетели к чертям. Россия возвратила себе Азов, но с обязательством не вооружать его и срыть укрепления; получила право построить крепость на острове Черкас на Дону, но ей же и запрещалось держать флот на Азовском и Чёрном морях, а торговля на Чёрном море могла вестись только на турецких кораблях. Таким образом, главная задача русской дипломатии — получения выхода к Чёрному морю практически так и не была решена. Те, кого возвратили с войны в столицу раньше и с которыми она имела честь разговаривать, посещая временами госпитали, наспех организованные при монастырях столицы и богоугодных заведения, говорили ей о том, что если бы «французишки» не подстрекали турок может и обошлось бы малой кровью. А французов при дворе теперь великое множество и никому в армии такое не нравится. И она, разнося цветы то одному, то другому, выслушивая их беды и даже помогая писать письма, испытывала стыд и вину, хотя вовсе не она привлекла такую беду на императорский двор.
Общение с ранеными и выздоравливающими было ее отдушиной теперь, потому что они казались куда искреннее того, с кем приходилось теперь иметь дело во дворце и высшем свете – льстецы, подхалимы, бездарщины. Не делалось более ничего, что могло бы как-то улучшить жизнь в стране, нет – все продолжало худо-бедно ездить на тех же самых рельсах, что заложил еще ее отец. Недостроенное здание Академии Наук все же достроили, но вместо нее основана была Академия Художеств и стоило радоваться, что не превратили здание задуманное еще Сашей и вовсе в очередной дворец для друзей императора – их он раздавал без всякого толка.
Кирилл говорит, что увидятся они непременно, но правда ли это и как объяснить из-за чего на сердце такая тоска? Только ли из-за того, что ей просто нужен еще один друг рядом? Или нечто другое здесь виновно?
***
Like a phoenix, like a phoenix
Gotta die to come alive
Об увлечении императора рисованием с натуры она упомянула вскользь, но на самом деле было оно куда серьезнее и заслуживало куда большего описания. Впрочем, этого она решила избегать всеми силами – одно упоминания в прошлом письме хватило с достатком, даже одного предложения.
Выстроив Академию Художеств он искусствами занялся серьезно. И если сначала для своих, надо сказать талантливых, работ он использовал актерок и натурщиц [рисуя их и в одежде и без оной], то по прошествии некоторого времени ему понадобилась Лиза и, как обычно в невозможности ничего с этим поделать подчинялась. Это были долгие и мучительные часы, в которых, впрочем, не случалось чего-то неординарного – она просто позировала ему, а он использовал ее лицо для самых различных образов и не более того. Но она чувствовала, она знала, что однажды должно было что-то измениться. И изменилось оно в один миг.
Лиза безотрывно смотрит на него, шея затекает, но так лучше – по крайней можно не разговаривать, чтобы позы не нарушить. Мастерская его, устроенная во дворце представляет зрелище любопытное: рамы большие и маленькие, которые таятся по углам; подиум для натурщиков задрапированный куском темной материи; гипсовые головы-бюсты и непременная чаша с фруктами, которые меняют обычно каждый день дабы они не испортились; несколько мольбертов заляпанных красками и разумеется множество картин, развешанных повсюду. Пейзажи, портреты, натюрморты – батальных сцен, разумеется нет, скорее уж небеса развернутся нежели начнет Василий Борисович интересоваться военными сюжетами.
Лиза настолько задумается о своем, что не заметит, как он раздраженно отбросит кисточку, которой до этого столь методично работал по холсту. Она вздрогнет только тогда, когда он воскликнет в сердцах:
— Нет, вы смотрите не так!
Она не удержится от того, чтобы не выгнуть бровь удивленно и несколько иронично. Отставляет корзинку с цветами, которые держала на коленях в сторону и переспросит не скрывая уже теперь некоторой насмешливости:
— А как я должна смотреть?
— Как смотрели на н е г о! Да-да, на вашего Волконского, которому вы наверняка пишите письма! Не думаете же вы, что я совсем ничего не замечаю?! – он ухватывает переменившееся ее выражение лица и кажется готовится праздновать победу. — Да, я видел как вы на него смотрели и на похоронах и до этого, но неужели вы никогда не могли так посмотреть на меня?!
Мысли путаются, одна перегоняет другую. Если знает о переписке, то почему не прекратил? Что теперь будет или он просто надеется, что тот не сможет никогда вернуться и с этими письмами забавляется? И видимо новость эта настолько поразила ее, что за словами своими она следить отказывается и произносит то, что приводит его уже в самую настоящую ярость:
— Это невозможно. Я не могу так смотреть на Вас и никогда не смогу. Я вас не люблю.
«А его люблю?».
И возможно это становится неким толчком к тому, что его терпение подходит к концу. Он неожиданно быстро оказывается около нее, а она не успевает отойти и больно, на этот раз очень больно хватает за руку. Рассыпаются лилии по полу и ковру мастерской, источая удушливый запах, который мешается с запахами красок и чего-то едкого, кружит голову. В мастерской они одни и горе тому, кто решится помешать даже если здесь начнутся раздаваться крики – никто и не подумает мешать ему за работой. На этот раз он не пьян и поэтому держится крепко, притягивая ее к себе и не давая вырваться.
Поделиться62024-05-20 20:56:07
Перед глазами замелькают картины: лица на них начнут злорадно усмехаться ей, а он, прошипев что-то о том, что «не любите, так заставлю» вновь впивается в ее губы поцелуем, отравляя все вокруг. И она забьется в его руках пойманной в силки птицей, но руки-клещи только крепче хватают, а предательские, богомерзкие губы станут спускаться ниже по шее и ключицам, все ниже, ниже и ниже, не давая возможности вздохнуть. Он мало обращает внимание и на Лизины увещевания, на ее последние призывы опомниться, остановиться. Что значит ее «не хочу» в сравнении со словом императора? И она, которая без прикосновений не могла существовать сейчас, кажется, их просто возненавидит. Он горячим шепотом уверяет ее в том, что любил всегда только ее одну и более никого, что и вот это акт любви, а она только вырывается сильнее, колотит по худым, костлявым плечам, но тщетно, тщетно, тщетно.
«Вот так и закончится все, Кирюша?» - промелькнет в голове шальная мысль, пока чужие руки бессовестно блуждают по телу, защищенному разве что тонкой, нежной тканью, имитирующей наряд древних гречанок. Вся ткань, легкая и газовая держалась на талии ремнем, инкрустированном драгоценными камнями и Лиза чувствует, что как только этой преграды не останется – не останется и ничего. Его руки самовольно хватают ее за грудь, ложатся на бедра, она вскрикивает, но это и словно отрезвляет. О нет, не будет как было летом, в спальне, когда она разревелась в своей беспомощности! Ярость окутывает сильнее, чем когда либо до этого, ярость за все то время, что провела она тут то ли пленницей, то ли наложницей, ярость помогает вырываться с такой силой, что все в итоге, что ему остается не рассчитав особенно силы ударить виском о треклятый бюст Сократа, стоящий в мастерской на высоком постаменте.
В глазах потемнеет на секунду и она охнет, чувствуя как по лбу потечет горячая струя крови. В кроваво-красный окрасится и белоснежный бюст, словно Сократу нанесли тяжелое ранение, капли упадут и на белый хитон, который безнадежно испорчен. Она судорожно пытается поправить съехавшую лямку, почему-то теперь это кажется нужным, а перед глазами все расплывается то ли от боли, то ли от все той же холодной ярости, которая и не дает сознание потерять. В голове мелькнет рассеянно: «Пожалуй, след останется – некрасиво, придется, верно пудрить…». И прежде, чем он сделает к ней еще один шаг она хватает со стола с фруктами нож для резки.
— Снасильничать решили, Василий Борисович? Что, раз иначе не выходит – то только силой брать вздумали? – зеленые глаза горят почти потусторонним пламенем. Острие ножа направлено на него, а смерти он, как она отлично знает боится, как впрочем и оружия. Презрение выплевывает, вместе с яростью. И все равно в каком она жутком виде – с кровью, стекающей с разбитого лба, с растрепанными волосами и едва ли одежду на ней можно назвать хоть что-то прикрывающей. И тем не менее любой поэт сказал бы сейчас, что похожа она сильнее всего сейчас на какую-то древнегреческую или римскую богиню возмездия. — Неужели не понимаете, что тело взять можно, а душу никак не выйдет?
— И…и что убить меня вздумали? – его голос тонок и испуган.
Она качает головой, прежде чем он двинется вперед подставит нож к собственной шее. Перед глазами снова лисицын взгляд янтарный замелькает. Лезвие болезненно упирается в нежную кожу. Его глаза расширяются то ли в ужасе, то ли в удивлении. Все, что промолвить он может это:
— Бросьте, Елизавета Петровна – вы не сделаете этого.
Она горько усмехается, упирая сильнее. Тонкая струйка крови потянется вниз по шее.
— Надавлю сильнее – и будет это фатальным. И я сделаю это, попробуйте теперь подойти ко мне хоть на шаг ближе. Я, дочь Петра Великого и сестра его наследника императора Александра Петровича. Я Романова. А мы свое слово держим, — сверкнут железом зеленые глаза. — Желаете ли вы это проверить? — нож все еще плотно прижат к шее, больно, больно, но боли она не чувствует.
Он смотрит на нее неотрывно и видимо видит что-то такое в ее глазах, что заставляет отойти подальше, сплевывая кровь – видимо в пылу их сражения она укусила его. Может поверил в решительность, а может увидел на зеленой их глубине выражение того, кого всегда боялся при жизни и портреты кого прятал куда подальше – ее отца. И возможно, никогда еще не была она так на него похожа. И может впервые почувствовал сын Бориса Федоровича некоторую опасность от оставленную не в монастыре и не выданную замуж цесаревны, которую вроде бы любил.
— Ну и черт с вами, — он отходит-отползает подальше. — Душу не забрать говорите. И кому ж вы ее отдали? Кречетову? Одному из ваших пажей. Да, ваша душа весьма любвеобильна это всем известно. Или поручику этому без роду и племени?
— Не смейте, — она шипит змеей, забываясь совершенно с кем говорит. — говорить о нем. Он куда достойнее вас, по крайней мере.
— Достойнее, как же, куда без этого благородства, верно? — он усмехается. — Но что же вы будете делать, Елизавета Петровна? Как мне известно благородный ваш погиб – лазарет в котором он обретался снарядом разнесло.
Лизе покажется на одну секунду, что мир снова потемнел, словно ее вновь ударили по голове о постамент с гипсовым бюстом. Если бы это возможно было – ее сердце окончательно остановилось бы. В голове застучит, зазвенит – может из-за удара и потери крови, а может из-за услышанного. И если бы слова умели убивать – ей лежать здесь мертвой. Нет, нет, нет! Не может этого быть. Ведь если правда, если он погиб, то почему живет она? Неправда, неправда, неправда! Он не может умереть, потому что она не сказала, не сказала ему, что…
Любит его так давно, что сама уже не помнит, когда влюбилась.
А она…
Не может без него жить и это очевидно.
И это осознание едва ли не валит с ног. Но к пущему своему удивлению она остается стоять на месте и даже говорить.
— Вы лжете. Он жив – я чувствую это. И он вернется ко мне. Он обязательно вернется! – и она развернется, вылетит вон, не желая слушать больше ни слова, не слыша как крикнет ей в спину: «И все равно будете моей!». Голову кружит, но не важно это, не важно.
В голове стучит две мысли: «Он не может умереть!» и вторая, еще более яркая, отвечающая на все немые вопросы: «Люблю». Вот так просто, неожиданно, легко это далось. Она не обращает внимания на удивленные и испуганные взгляды, которым ее провожают, ничего не слышит.
Жив.
Люблю.
Вернется.
Люблю.
А если нет? Неужели она поняла это так поздно и так и не сказала об этом ему, отлично понимая при этом в каждом письме, в каждой строчке, что он любит ее и даже не ждет при этом взаимности. Все это время, с того момента как признался в той, другой жизни, он любил ее, а она предпочитала этого не замечать, не слышать, не верить, находить глупые предлоги почему об этом нельзя говорить, а теперь он может умереть, так и не узнав, что и она его любит, любит по-настоящему, а не так, как думала любила кого угодно до него.
Лиза врывается в покои, вызывая испуганные причитания Марфы при одном только ее внешнем виде. Лиза падает перед иконой Спасителя в золотой оправе. Лик совсем темный, почти не виден. Огонь мерно горит в лампаде около нее. Падает, не обращая внимания ни на причитания о ее разбитом лбе, ни на собственную боль от царапины на шее или разбитых губах.
— Верни его, — с горящими богохульно почти глазами проговорит она. — не смей забирать его, слышишь? — повторяет Лиза. — Я не просила у тебя никогда и ничего, но теперь не прошу, я требую, верни его, не смей забирать его у меня. Только не его!
Марфа перекрестится, очевидно считая, что ее цесаревну так сильно приложили головой, что стала она теперь богоотступницей. Но нет, Лиза не перестала верить в Бога, может быть сейчас она верила в него сильнее всего на свете.
Нельзя забирать у нее любовь теперь, когда она только ее…нашла.
Нельзя отнимать его теперь, когда она может, наконец, ему ответить. А если по честности, могла ответить давным-давно. А она ведь даже не заметила. Не хотела поверить в то, что это любовь. Как может быть поздно, боже, как поздно.
Она не знает сколько так на коленях простояла, пока кто-то легонько не тронет за плечо. Варя. Княжна Вяземская осторожно протрет разбитый лоб влажной губкой, заставит посмотреть в свои глаза.
— Лиза, отец узнает, что с Кириллом Андреевичем, но тебе нужно лечь – и без того ужасный синяк будет. Ложись, дай лицо осмотреть. Я обещаю – как только узнаем что-то, то тебе скажем.
Лиза поддается на уговоры очень слабо, укладывается в постель, но глаз от старинного образа не отводит.
Ее сердце и без доказательств знает, что он жив. Она не позволяла ему умирать. Он обещал ей вернуться. И едва Варя закончит колдовать над лбом ее, Лиза возьмется за перо и бумагу. Чтобы написать последнее свое письмо после которого – или гиена огненная или вечная жизнь. Однажды наступит весна. Обязательно наступит.
«Кирюша, я без ума, без памяти, без конца люблю тебя.
Вот и призналась».
Семен чистит эфес шпаги, заглядываясь на окно, где парят в воздухе легкие весенние сумерки, где догорает розовым пламенем закат и мысли его витают где-то совсем не в их маленькой комнатке, где толком не развернешься теперь. Оно и не удивительно, удивительно то, что они вообще до сих пор находились подле цесаревны, а не были отравлены все втроем куда-нибудь на границы сразу после окончания войны. И нет, Бестужев как раз на границу рвался, рвался всем сердцем в армию, чтобы доказать себе или скорее е й, что заслуживает ее. А что может доказать мальчишка-паж? Раньше они хотя бы как-то могли ее защитить, выполняя то, в чем когда-то клялись ее брату, а не так давно поклялись и ей, склоняя головы и обещая сложить их в случае чего ради нее.
Матвей храпит так громко, что приходится в сердцах бросить в него подушкой, что положению никак не помогает – тот только сонно причмокнет губами, перевернется на другой бок и захрапит пуще прежнего. Паша отрывается от книги и посмотрит снисходительно-вопросительно, по-взрослому, мол, «чего ты буянишь на ночь глядя?». Они для Семена все одно что семья, которую он забыл, когда в последний раз видел. Он провел с ними большую часть сознательной жизни, как только переступил порог величественного дворца, да и если по честности судить – была ли у Семена семья? Был отец, для которого сам факт Семеновского существования скорее позор, от которого так просто не избавиться, но от которого нет-нет, но и получишь деньги, словно откуп, а также какое-никакое сухое послание. Отец больше занимался своим крепостным театром, чем сыном-бастардом, а матери он никогда не помнил. Был ли он на нее похож? Его тетка как-то злобно заметила ему, что от Бестужевых у него разве что глаза – серо-голубые, вечно какие-то угрюмые с затаенным чувством оскорбленной чести. Даже теперь, достигнув совершеннолетнего зрелого возраста в нем не появилось мужской крепости – все такой же гибкий и тонкий, как прибрежный тростник, со светлой и нежной кожей непростительно легко обгорающей на солнце. Ему даже бриться приходилось реже прочих – растительность упрямо не хотела вырастать на его лице и оказываться на нем символом мужественности. Светло-русые волосы достались ему также очевидно от матери, да и вообще как замечала все та же злобная его тетушка стоило родиться ему девчонкой. Так ему бы больше пошло, да и проблем с наследством не возникло бы. Кому как не ему знать, что такое лишь номинально и почти в шутку называться князем, тогда как в любой момент можешь стать ты никем? Да, образ был его скорее миловиден и от части симпатичен благодаря правильным чертам, но внешность его никогда не могла удостоиться прекрасных эпитетов и вряд ли кому-то слишком сильно он западал в голову из дам, к тому и не стремился – к чему другие дамы, если служил он самой лучшей из них?
Семен и не скажет точно, когда он, угрюмый и замкнутый мальчишка, отосланный отцом в столицу при первой подвернувшейся возможности, влюбился в живую и непоседливую рыжеволосую цесаревну. Может быть сразу, как увидел ее, верткую, подвижную, юлившую вокруг брата и требующую посадить ее именно на «вон ту строптивую лошадь». А может и позже – теперь уже и не вспомнить, кажется, что было это всегда, с тех самых пор как себя осознает. Но конечно что можно было найти в нем, глядящего на всех с угрюмым недовольством и не стремящимся особенно к сильной дружбе? И все же она одаривала его тем же теплом, что и Матвея и Пашку, ставшими верными друзьями и почти что братьями. А ведь шутка ли – проводить вместе столько времени, денно и нощно? Другой семьи он для себя и не требовал. Но все равно Семену казалось, что чего-то в нем не достает, а может статься совсем и не ничего, а очень даже много чего.
Паша из них троих самый высокий, старший, невыносимо рациональный и при том, что семья его вряд ли могла похвастаться средствами для того, чтобы получил он нужное воспитание, воспитал себя в итоге сам – смекалистый, с бойким нравом [таким же как непокорные его темно-русые кудри] Пашка легко восполнил пробелы образования, ловко выручая даже цесаревну с ненавистной ею арифметикой. Ясно видящий свое будущее в каком-нибудь элитном подразделении гвардии, Паша своего честолюбия и амбиций не смущался, потому что в конце концов «я мужчина и о будущем мне следует думать». Его целеустремленности можно было позавидовать ведь из них именно он благодаря постоянному нахождению при дворе, пожалуй, завел наибольшее количество полезных знакомств. К тому же был он таким хорошим фехтовальщиком, что отмечал это даже покойный император – со шпагой, казалось, родился наперевес. Семену нет-нет, но и на нравоучения Богославского о том, как следует строить карьеру или заводить связи, хочется ответить, что ему легко говорить – у него и лицо открытое, честное и красивое, подстраиваться он умеет под обстоятельства, да и в общении приятен. А Семен иногда не хочет, но так посмотрит, что у любого желание пропадает с ним разговаривать. Да и хотя считал Бестужев, что только шпагой честь дворянскую защитить можно, но подчинялась она ему [шпага] далеко не всегда.
А Матвей? Всегда кажется довольный жизнью, даже если останется без последних штанов Матвей, выходец из многодетной, но в общем-то счастливой семьи, оставшейся в Ростовской губернии, Строганов может и не отличался такими изящными манерами как у Саши, зато по части переговоров переигрывал даже его. Вот в обществе кого всегда оказывалось проще некуда, а с его остротами и шутками-прибаутками и вовсе можно было надорвать живот. Матвей не славился ни любовью к книгам и учениям древних, ни в деле сражений на шпагах, зато с виду не такой уж и мощный Строганов кого угодно положил бы в рукопашную. В свое время он пристрастился к кулачным боям, на него даже ставки делали, которые их друг потом делил с ними в случае выигрыша и они проматывали их. В том случае, если Матвей проигрывал – проматывали деньги Семена, которые присылал ему отец из имения, которые Бестужев может и хотел сохранить или подкопить, да только никогда этим двоим отказать не мог. В отличии от Пашки вряд ли Матвей стремился попасть в гвардию, да поэлитнее – он был из той породы людей, которая просто плывет по течению и при этом извлекает из своего плаванья максимальную пользу. Иногда он в шутку или же всерьез [тут с Матвеем не разобрать] рассуждал о том, что мог бы когда-нибудь открыть свое дело, да и стать простым помещиком, приносящим таким образом пользу государству. Подобные его рассуждения быстро осуждались пламенно со стороны товарищей его, поэтому дальше шуток не уходили. Но, несмотря на всю свою шутливость, несерьезность и в некотором роде отношение наплевательское к каким бы то ни было невзгодам и событиям, казалось иногда что как раз Матвей лучше всего понимает, как действовать надобно.
Вот так как то и выходило: Пашка фехтует и поучает, Матвей шутит и бьет морды если нужно, а Семен… а Семен не то и не другое. С детства выросший в атмосфере отстраненности и нелюбви, он тем не менее вырос романтиком, как утверждали друзья его и романтиком невероятным, несмотря на кажущуюся угрюмость его поведения. Честь стала для него все одно что матерью, так часто он говорил о ней, вбив в свою светлую голову, что непременно будет у него прекрасная дама, которую следует защищать, которую он в итоге и нашел. За защитой чести то Родины, то цесаревны, то своей собственной [а оскорбить ее оказывалось невероятно просто], он бы давно уже лежать где-нибудь в сырой земле из-за неуемной вспыльчивости и ослиного своего упрямства, если бы не его названные братья-друзья. И поэтому Семен любил их, этих дураков, которые безмерно иногда раздражали. Но он не отличался ни выдающимися навыками, ни уж точно легким характером от чего все время задумывался: быть может если бы это в нем присутствовало обратить на себя внимание было бы гораздо проще.
Семен отлично знает, кто она такая – шутка ли провести столько времени с человеком в конце концов. Знает и то, что ни на что рассчитывать не может, просто находится рядом и довольствуется теми моментами, которые удается выхватить. Случайные улыбки, случайные слезы, случайные обращения. И нет, он ценит и ее доверие и доброе отношение, но он соврет, а Семен врать совершенно не умеет, если скажет что этого д о с т а т о ч н о. А еще он знает, что она все знает. Знает, что ему нравится, но никогда не принимает это через чур серьезно. И это разумеется ясно – ему ли не знать сколько таких глупых мальчиков, готовых сердце отдать. В гвардии и столичном обществе возникали целые клубы, вдохновленные любовью к Елизавете Петровне – молодежь в массовом порядке избирало ее «дамой сердца». Так что еще один глупый мальчик был явлением для нее привычным, скорее даже умилительным. Только подозревает ли она, может ли представить она себе, что это вовсе не про «нравится» и «не нравится». Нет, это уже давно не так, он не сомневается, как бы не увещевал Паша или не насмехался Матвей, мол, «у тебя Семен все слишком серьезно – если влюбиться, то значит до гробовой доски, если драться то насмерть». Может оно действительно было так, но он совершенно не шутил, когда говорил, что и императора мог убить, только бы больше не видеть ее в т а к о м состоянии, в котором наблюдал. Просто такие жертвы ей не нужны, а зачем ему его жизнь, если страдать станет она. Только в одном права – кончина его никак делу не поможет. Но кто угодно может насмехаться, не верить, убеждать что влюблены в нее все, но жены у всех иные, а он ни единой секунды не сомневается в том, что никогда жены у него не будет. Если уж посвящаешь себя прекрасной даме – то полностью.
Семен покидает душную комнату, оставляя Пашу с его книгами и безмятежно сопящего Строганова, выходя на свежий, душистый воздух, окутывающий теперь окрестности. Все еще несколько веет сыростью, но все же теперь гораздо теплее, а сыро в Петербурге в общем-то всегда. Семен молчаливой тенью проходит по внутреннему двору, ловит на себе бесконечно уставшие взгляды караульных, которых, кажется ему, вряд ли что-то может взволновать, пусть Бестужева они и в лицо знают – всем им в общем-то все теперь разрешается, стоит только надеть на себя синий мундир. У Семена он и вовсе зеленый, но если бы только попасть в гвардию, да только немыслимым представляется бросить теперь цесаревну. Перед глазами живо всплывает взгляд Паши – то ли понимающий, то ли как обычно осуждающий, в котором ясно читается: «Ну что, опять пошел дежурство у окон вести». А что ему, собственно говоря остается? Только и остается, что наблюдать за ее окнами, убеждаясь, что она легла спать, что с ней все в порядке и в конце концов усмирять бушевавшее сердце. Стоя у ее окон он, по крайней мере может даже не скрываться, может наблюдать за ней в той интимной обстановке, на которую никогда ему, кажется и не придется рассчитывать – можно даже не отворачиваться, как делал он всегда в дневные или вечерние часы. Он точно знает, где ее окно расположено и встает в тени обзаведшихся еще молодой листвой кустов, поднимая голову. Седьмое окно справа, на втором этаже. Там все еще горел свет.
Она сидит у распахнутого окна, не мало не боясь при этом застудиться или еще чего недоброго упасть, сидит на самом краю подоконника и белоснежные края сорочки свисают нежными складками чуть ниже. Рыжие волосы распущены, а на коленях покоится гитара, которую подарил этот человек [человек, которого он никогда не сможет даже мысленно императором назвать, пусть и измена это, но врать он не приучен] на прошедшие ее именины и заставил петь. И она пела, не имея иной возможности, но боже мой, как она всегда поет! ... Пламя свечей создает позади нее ореол горящий, золотит медные пружинки волос. И она перебирает медленно струны, улетает песня, прекрасная и какая-то грустная песня далеко-далеко [и когда только успела она научиться], влетает в душу и терзает бесконечно.
Эта песня не для него и не про него, но как же хочется, чтобы было иначе.
Нежные и длинные пальцы порхают по струнам, извлекая из этого инструмента то ли испанского, то ли и вовсе цыганского звуки дивные и печальные. Один за одним. А после остановится где-то на середине, то ли все же почувствовав прохладу, то ли устав сидеть в таком положении и силуэт исчезает в оконном проеме, Семен соберется было уходить и боже мой стоило уйти, но тут послышатся чьи-то шаги и он, выругиваясь сам на себя прячется в кустах. Встречаться с «васильевцами» не хочется – все как один люди паршивые и пусть руки и чешутся, но во-первых, владеет он шпагой не так хорошо, пусть и вызывает кого не надо на дуэли, а во-вторых устраивать драки перед окнами цесаревны не хочется совсем. И он пригибается, надеясь то в сумерках его зеленый камзол скрывает достаточно хорошо, пусть растительность еще и не слишком густая. Осторожно выглядывает он из-за своего укрытия, обуреваемый каким-то непонятным любопытством кто кроме него в такой час решил шастать под окнами и замирает в предательском оцепенении. Тому, кто в эту удивительно приятную ночь оказался под окнами Ее Высочества пожалуй, было совсем не до Семена.
Они думали, он погиб, но думали так недолго, потому что вера Елизаветы Петровны заразительна, но Бестужев ловил себя на мысли отвратительной и недостойной, что не так сильно переживал бы по поводу дальнейшего отсутствия поручика Волконского. И нет, не желал он ему смерти – это было бы еще более низко, но не возражал бы, задержись он где-то на юге еще дольше или встреть там какую-нибудь добрую украинскую девушку, но не возвращайся в Петербург. В иных обстоятельствах они бы могли быть друзьями, пожалуй – оба серьезные, оба не мыслившие себя без понятий чести, оба в конце концов влюбленные в одну и ту же женщину… и тут и находилась главная загвоздка. Впрочем, до неприятельских отношений к нему Бестужева, Кириллу Андреевичу было, наверное, совершенно все равно, он и имени угрюмого пажа и князя, наверное не помнил.
И Семену бы ненавидеть его было куда правильнее, но вот только… о н а его любила. А значит, желать ему смерти Семен уже не мог. Ведь это сделало бы несчастной ее. А значит следует Волконскому жить, а Бестужеву так и стоять под окнами.
И ему бы теперь уйти, чтобы не следить за окнами, чтобы даже не думать о том, что может происходить за шторами, за которыми еще маячит ее силуэт в свете свечей, за которыми она еще тихо напевает все тот же романс, но ноги словно приросли к земле и не сдвинуться.
Он жив и теперь она станет счастлива, потому что она ждала и увядала с каждым днем ожиданием – он это видел, видели и другие, но понимал он лучше. И даже представлять не хочется, чем закончится эта ночь, но не представлять невозможно, как и невозможным оказывается обманываться относительно того, что все отдал если бы только оказаться теперь на месте удачливого поручика. Но нет, Семен Иванович.
Это никогда не будешь ты, даже если Волконский исчезнет.
Она его любит, значит и тебе следует.
И Семен хватается за треуголку собственную и бежит, бежит прочь от опостылевших и любимых одновременно окон в объятия прохладной весенней ночи, бежит куда глаза глядят, но только бы подальше, дальше, дальше.
Говорят — целоваться чертовски приятно. Смотреть как целуются приятно не всегда.
_________________⸙♦⸙__________________
Лиза не знает, чье сердце разбивает под своими окнами, не ведает пока еще, чье сердце заставляет биться быстрее и насколько близко собственное счастье находится. Если уж честно, то она уже давно и не верит вовсе, что ее счастье может найти дорогу обратно, а то видно совсем заблудилось. Возможно она проклята – французский король в свои пять лет [ну или точнее его регенты] отказался жениться на младшей дочери царя варварской страны, а она ведь выучила французский также хорошо, как знала русский. После новый жених, появившийся перед ней, когда ей только исполнилось тринадцать – красивый герцог, чуть старше нее и она конечно же тоже решила, что его любит, но в тринадцать не мудрено это, в тринадцать достаточно, чтобы избранник просто был красив. Он умер от сердечного приступа еще до обручения. Потом еще и еще, а потом Кречетов. Иногда гадала она – где-то сейчас он обретается и проклинает ли ее, разрушившую все его перспективы [но все же куда больше, если уж удостаивала она его мыслями, она надеялась, что он свалился с лошади и вывихнул шею или заработал себе бородавочную болезнь]. И вот теперь, вот теперь Кирилл Андреевич. Ее серьезный, милый мальчик, с удивительными переменчивыми глазами-хамелеонами. Ее Кирюша. Вот только, не знает Лиза где искать его теперь, получил ли он ее письмо, если жив, а если мертв…
Дернет головой, заставляя волосы рассыпаться по плечам, отгоняя от себя такую крамольную мысль. Ей казалось, что как только она ее допустит, то непременно в тот же час он действительно свалится замертво, а она не позволяла. Она молилась, умоляла, она не позволяла. Но время шло, а как бы не храбрилась она, как бы не отвечала презрительно на злобные и полубезумные взгляды императора, который радовался очевидно, что возможно ляпнул правду, ничего не менялось. Если жив он, то письмо должно было дойти, но в таком случае от чего нет ответа? Слишком поздно отправила? Слишком неожиданным оказалось оно? Нет, не может быть – она ведь в каждом его письме, которые хранит под подушкой, чувствовала обратное, не может такого случиться, чтобы за несколько месяцев все встало с ног на голову, только если правда не похитила его какая русалка в свои сети. Никогда нельзя быть слишком уверенным в том, что тебя любят. Что тебя любят, несмотря ни на что. Что может пройти ещё пять или десять лет, и тебя не разлюбят...
А если, е с л и, он его не получил вовсе, потому что опоздала она и лежит сейчас где-то с пробитым сердцем, так и не узнав, так и не услышав заветное «да», то боже, боже мой, никогда себе не простит этого, никогда уже не будет счастлива. Да только он выживет, выживет, он должен жить.
Лиза садится перед зеркалом, вглядывается долго в отражение, которое узнает и не узнает одновременно. Вроде бы то же обличие, даже щеки не потеряли, не осунулось лицо и все же уже давно поселилось это печальное выражение в складках рта, на дне зеленых глаз, все же это уже совсем не та девушка, которая лазила на голубятню и носилась босиком по речному песку. И та Лиза, уже наверное никогда не вернется. Сердце тоскливо ударится о грудь, пока расчесывает волосы перед зеркалом, пока пальцы неторопливо начнут заплетать непослушную копну в одну толстую косу.
— Что мне жизнь, если ты оттолкнешь этот крик наболевшей души?... — неторопливо, печально несутся строчки песни, которую прервала, чтобы расчесать волосы, а теперь вновь продолжила, только уже без гитары. Из распахнутого окна несется запах свежей, молодой листвы и взбудораженной Невы, которая уже несколько раз после паводков выходила из берегов. Гитаре научилась она вовсе не у какого-нибудь придворного музыканта или учителя, выписанного из Италии, хотя почти не сомневается, что непременно сделал бы это для нее император, но просить что-то у него после инцидента несколько месяцев назад она зареклась. Гитаре научили ее все те же цыгане в доме Вари, а она, всегда имевшая к музыке особое расположение, научилась удивительно быстро и вот теперь с инструментом не расставалась.
Между ней и Василием Борисовичем установилось холодное и опасное перемирие, в котором после известного случае не предпринималось попыток к приглашениям в спальню, да и вообще стал он подчеркнуто холоден, обратив внимание на фрейлин и дочек министров, на что Лизе в общем-то было совершенно все равно. К тому же, возможно остатки человеческого стыдились своей работы, которую она первое время скрывала под толстым слоем пудры, а теперь прикрывала волосами – отвратительный кровоподтек отказывался уходить со лба слишком быстро, Варя объясняла это особенностями ее нежной кожи. Он синел жутким пятном на лице, словно молчаливый укор противоправным действиям самого императора, который несмотря ни на что над внешностью ее трясся. Вот и теперь, пока она пыталась самостоятельно волосы заплести, выдварив Марфу вон, желая побыть этой ночью в одиночестве, возможно помолиться еще раз, он желтел на коже, не скрываемый теперь волосами. Царапина у шеи заросла куда быстрее.
— И навеки я буду твоей, буду кроткой, покорной рабой…
Еще немного и запоют за окнами соловьи, вторя ее собственному голосу. Ветерок легкий подергивает пламя свечи, стоящей у зеркала.
Ей хотелось, чтобы он по крайней мере приснился ей, но как и Саша, Кирилл сниться ей отказывался и она никак не могла понять – хорошо это или плохо. То ли значит это, что он жив, то ли наоборот, мертв. Она гнала, гнала от себя эту мысль бесконечно, но она возвращалась. Так и жила в последнее время в постоянной борьбе, от которой устала. Вот и приходится петь, просто чтобы вдохнуть, задумчиво-печаль глядя в зеркало, в котором однажды увидела его и даже не поняла, что действительно суженого нашла. Ведь если не он ее суженый, то тогда…а тогда и никто. Ни по кому и никогда не тосковала она так сильно, невозможно было сравнить это чувство ни с каким ранее испытанным. Да и любила ли она раньше? Нет, невозможно, она лишь думала, что влюблена. Думала так, пока не появился Волконский в том самом лесу, где она убедила себя в том, что он просто чудак, назойливо упоминаемый в разговорах старшим братом, а в итоге сама не заметила как уверившись в любви к одному, полюбила другого. И полюбила, увы, по-настоящему. Ну почему, почему только он не отвечал на ее письмо?! Если получил, если жив, то от чего не напишет не строчки? И несмотря на то, что она всеми силами убеждала себя, что ничего и не ждет от него [снова], а просто призналась без особенных надежд [хотя писала его явно с надеждами], а нет-нет, но и переживала, что время идет, а ответа все не было. Она убеждала себя, что в любом случае будет рада даже если оно просто дойдет и он просто его прочитает.
Иногда представляла, что он читает его теперь, а откуда-то несется веселый женский голос [и черт его знает откуда женскому голосу было взяться], который спрашивает у него будет ли он чаю. И он отложит это письмо, чтобы отправиться к ней, к этой выдуманной Лизиным воображением женщине, лица которой она в своих мыслях и даже снах [да, приятных сновидений не снилось, а вот с возможно несуществующими пассиями вполне] не могла разглядеть. Возможно покачает ласково головой, прежде чем спрятать его куда-нибудь в предполагаемой светлой горнице, где они с этой женщиной находятся, мол: «Письмецо занятное, но как же поздно, увы, оно писано…». Улыбнется этой своей неожиданно-обезоруживающе чистой улыбкой и уйдет восвояси. Нет, не станет он, разумеется, обсуждать со своей предполагаемой пассией ее глупого, влюбленного и такого позднего письма – для этого тот Кирилл, которого знала она, слишком был благороден.
Но неужели, неужели станет он смотреть на ту, ту чужую женщину также, как на нее? А Лиза ведь теперь помнила неожиданно четко все те взгляды, которые раньше упорно не хотела замечать, которые раньше готова была списать на что угодно, но не на любовь. Боже, а ведь он ей, д у р е [и зазвучит в голове его голос, который мгновенно заспорит с ней, заявляя, что называть себя так с ее стороны просто непозволительно] признался. А потом казалось признавался в каждом письме, только она снова и снова отчего-то медлила. Сначала – потому что было совсем не до любви, после – потому что любить ее кажется тяжкий крест, да и как здесь отвечать на чувства, которых может теперь и нет. Да и неуместно – война ведь. Да и думала, что не знает собственно говоря о том, что такое это ваша любовь. А оно вон как – узнала. Да что толку?
Но чаще, чем с придуманной возможно ею самой женщиной, она боялась увидеть его присыпанным черной землею, бледного и совсем неживого. Нет, нет, нет, уж лучше с женщиной, где угодно, только живым, живым!... Но только бы хотя бы узнать, что он живой, что он видит, слышит и может ходить в конце концов. И ничего ей больше было не надо. Пытаться найти информацию о Кирилле сложно, даже если у тебя связи существуют в армии, где ничего определенного не говорили – к Вариному отцу приходили разрозненные сведения, которые иногда противоречили одно другому, вот и приходилось разрываться от неизвестности и собственной беспомощности, которую никогда еще не ощущала так остро. Лиза перечитывает все его письма вечерами, перед сном – последнее она получила уже после Крещения и тон его был вполне бодрым и обещал ей, что теперь у него больше будет времени. А она возьми и признайся, после чего письма прекратились совершенно. Но, быть может, он просто не мог на него ответить, может он ранен и писать не в состоянии, а может жестокий болван, потому что только такой болван мог так мучить ее и без того измученную душу. Ей надобно было верить, но вера должна на чем-то зиждиться. Война закончена теперь, а его все нет, нет, нет. А может не пустили в столицу, может убили по дороге назад, а может?...
А вот так бесконечно много «а может», «а если», только женщины как и история не терпят сослагательного наклонения. Но вообразить что человек, которого вспоминала и которого звала отчаянно в самые трудные мгновения своей жизни у м е р, Лиза не хотела и не могла до самого конца. И никогда наверное не молилась она так, как молилась теперь каждый вечер перед тем как искупаться, переодеться и отойти ко сну. Лиза не знала – слышали ее святые в серебряных и золотых ризницах икон, сурово глядящие на нее с них, но по крайней мере на это надеялась. Ведь в ее ситуации надеяться особенно было и не на что. И она молилась, стояла на коленях, отбивала поклоны и читала акафисты. И молилась только об одном, просила только одного – не забирать у нее по крайней мере е г о. Но, как только ложилась в кровать чувствуя, что засыпает повторяла уже свою молитву, за которую ее в пору тоже назвать отступницей истинной веры, но кто решил, что молиться можно только по заведенному обряду, а иначе Бог и не услышит? И она молилась, закрывая глаза и представляя его то серьезного, то улыбающегося, но живого, непременно.
«Где бы ты ни был теперь, Кирюша, да спасет тебя любовь моя! Да коснется тебя надежда моя! Встанет рядом, заглянет в глаза, вдохнет жизнь в помертвевшие губы! Прижмется лицом к кровавым повязках на ногах. Скажет, это я, твоя Лиза. Я пришла к тебе, где бы ты ни был. Я с тобой, что бы ни случилось с тобой. И пускай другая поможет, поддержит тебя, напоит и накормит — это я, твоя Лиза. И если смерть склонится над твоим изголовьем и больше не будет сил бороться с ней, и только самая маленькая, последняя сила останется в сердце — это буду я, и я спасу тебя. Я спасу тебя, поэтому ты должен выжить и вернуться ко мне».
А потом она засыпала в тщетной надежде на то, что на завтра непременно услышит радостную новость, о том, что он вернулся всем назло. Но все лишь печально качали головами, все лишь отводили взгляд в сторону, словно смирились с тем, что он не вернется! Но Лиза не смирилась, пусть православие и учит смирению – не смирилась. Можно ли смириться с потерей вновь обретенной едва-едва любви, возможно первой и настоящей? Конечно нет.
Пальцы продолжат волосы заплетать, песня подходит к концу, догорает свеча у зеркала. Лиза так глубоко уходит в свои мысли, что не слышит ни шороха по водостоку, по каменной кладке, не заметит, как дернется штора и кто-то второй окажется в освещенной теплым свечным светом спальне – она просто продолжает петь, слишком увлеченная своими внутренними переживаниями, чтобы смотреть по сторонам или хотя бы взглянуть в зеркало. Этак и убийца залезет, а ты, замечтавшись и задумавшись не заметишь. Но может и к лучшему, что не заметила сразу, еще около окон – а то, пожалуй, спрыгнула бы вниз едва увидев. А так…
— Я хочу быть любимой то… — она, наконец, снова посмотрит в отражение свое, случайно почти, и вздрогнет.
Тело словно молнией пробивает от того дивного зрелища, что рисует перед ней зеркало. Потому что мерещится ей в нем Кирилл, пусть и не совсем таким, каким она его запомнила и привыкла видеть – этот Кирилл казалось сошел со временем маскарада по случаю ее 18-ти летия. Такой же бородатый и такой же чудной, словно сошедший со страниц какой-то старой русской сказки. Но все же это был Кирилл, пусть и конечно же мифический. Его не могло здесь оказаться так просто, словно он материализовался из воздуха. Дурную клетку сдавит от отчаянья и томительной, нежной тоски, но поверх всех этих чувств, с которыми несколько мгновений станет рассматривать она это отражение, любовь взгляд переполняет и все их перекрывает. Зеркало жестокое – так мучить ее видениями, которых не может быть. И ведь не гадала теперь на суженого, да и вид нынешнего Кирилла больно необычен и от того еще более нереален. «Вот, Елизавета Петровна, домечтались – это вам в пору лечиться», - внутренний голос иронизирует над ней, пока она завороженно разглядывает фигуру в зеркале. Фигуру человека, которым грезила столь долгое время. Лиза даже касается зеркальной холодной поверхности пальцами, уверяясь в том, что это конечно же лишь иллюзия, мираж, о которых рассказывают некоторые смельчаки, вернувшиеся из странствий по странам Востока. Они рассказывали о миражах оазисов в пустынях, которые усталым и жаждущим путникам мерещились, а после исчезали. Вот и Лиза ждет, когда ее прекрасный мираж пропадет.
Но тут «мираж», который до этого в отражении стоял неподвижно и от того не двигалась и она, неожиданно дернется, дернется в ее сторону и Лиза невольно вскрикнет, грозясь привлечь к спальне своей ненужное внимание. Уж больно реалистично оказалось ее видение. Если бы имела она силы теперь пошутить, то непременно заявила бы, что любит Кирилл Андреевич, ее пугать в зеркалах. Да и теперь на черта он походил куда сильнее, чем в ту лунную ночь – потрепанный и бородатый. Лиза дернется от неожиданно и обернется, отворачиваясь от зеркала. И вот теперь удивление ее не печально-покорно, разумеющее, что все, что ей видится лишь плод ее воображения. Удивление ее заставляет лицо побледнеть и цветом оно теперь могло посоперничать разве что с ее же белоснежной сорочкой. Глаза расширяются совершенно невольно, а сердце совершает опасный кульбит в груди и ухает куда-то вниз, перед глазами при этом даже потемнеет на секунду. Если хотел он ее удивить [о чем скорее всего и не помышлял], то скорее привел в состояние близкое к обмороку.
Лиза не дышит, замирая на одном месте подобно каменному изваянию, не в силах вымолвить ни единого слова, все еще удивленно-расширенными глазами наблюдая за тем, как бросается он к ней, как падает на колени. Как во сне она, не отрывая болезненно-пристального взгляда от его лица, чувствует его руки, сжимающие ее похолодевшие ладони. Его руки теплые – это не призрак, пришедший попрощаться и не сон, который она так мечтала увидеть. А если и сон, то боже мой не дай ей проснуться теперь!... Она все смотрит и смотрит на него безотрывно, пока он говорит ей что-то, а в голове вертится лишь одна, но такая яркая мысль, вытесняя все остальные совершенно: «Жив». И ей становится совершенно безразлично на приличия, на опасность, которая в этом дворце существует, живет, дышит, в конце концов на его извинения. Боже мой – это ведь правда он, живой, теплый с этими проникновенно-выразительным серым взглядом, пытливо глядящим на нее, преследующим одинокими ночами, тем самым, который забыть не могла с самой первой встречи. Он все говорит, говорит, а все, что крутится к голове это: «Жив, жив, жив!». На периферии сознания, которого и вовсе можно лишиться, если продолжит он в том же духе, маячит и еще одна предательски-ликующая мысль: «Любит». Она любит и любима, Бог услышал ее теперь, он здесь, в ее комнате, а не за тысячи километров, не с другой и главное – живой, живой, живой…
Ей глубоко безразлично то, что он вломился к ней в окно, а не вошел через дверь – боже, какая глупость, Кирюша, словно кто-нибудь в этом дворце теперь позволил бы тебе входить так свободно как раньше. Да хоть провались ты сквозь крышу она была бы не в обиде! Она забывает и то, что не ответил сразу же на письмо, писанное в такой спешке, писанное одним быстрым порывом, стремительной и не дрогнувшей рукой [это в письме она написала, что извела много бумаги – и извела же, да только вот на другие свои письма, каждое из которых должно было гимном их любви стать, да не стало] – все это теперь становится неважным, а единственно верным оставался тот факт, что теперь они воссоединились. Все остальное не имеет никакого значения.
Волосы, так и не заплетенные, почувствовав свободу вновь распадаются рыжей копной по плечам, а он лишь крепче сжимает ее руку и Лиза осознает, что наконец-то, спустя долгое время дышать может полной грудью. И она втягивает в себя воздух судорожно, громко, прежде чем выговорить тихое, ласковое:
— Живой.
Она наконец произнесла это вслух, словно окончательно удостоверившись в реальности происходящего, разглядывая его заросшее и такое необычайно-загорелое лицо. О, как хочется поведать ему обо всем, что пришлось тут пережить без него, хочется рассказать, что уже несколько месяцев разрывается она от мысли, что он возможно мертв, пусть и гнала ее от себя так яростно. Но она ничего пока говорит не будет и не может, просто разглядывает его, осторожно позволяя прикоснуться к этому лицу и чувствовать как колет пальцы отросшая за это время щетина, делающая его необычно-старше, но от того только милее. Они оба неуловимо изменились за это время, смерть Саши так или иначе заставила всех вырасти окончательно и каждый вел свою войну там, где придется. Сердце сладко замирает, как только он целует ее руки – боялась когда-то, что после «случая» с императором прикосновения и любая близость станут ей омерзительны, но не случилось этого с его прикосновениями, с его губами и не могло произойти. И чем дольше она смотрит и слушает Кирилла, тем больше и сильнее осознает насколько же его любит. Лиза слушает его голос, пытаясь все же прислушаться к нему, качает головой, улыбаясь то ли сквозь смех, то ли сквозь слезы. Дурачок, какой же дурачок…
Но теперь ее. И смешно полагать, что она прикажет ему уйти просто потому, что он вовремя не ответил на письмо. Он здесь и так даже лучше. А Кирилл [и теперь даже никакой не Кирилл Андреевич] смотрит на нее умоляюще, словно от ее решения и вправду зависит жизнь. И неужели вправду полагает, что она может его выгнать из-за такой нелепицы, неужели думает, что обижена настолько смертельно? Ведь он сам сказал теперь, заставляя сердце замирать от сладостного, прекрасного восторга, что любит ее, всегда любил. От него все еще словно бы пахнет порохом, как и от его писем, его мундир залатан чьими-то бережными руками [боже, не следует ли научиться ей теперь шить?], он зарос и повзрослел, но перед ней, прячет свое лицо на ее коленях все еще ее серьезный мальчик, все еще ее Кирилл Андреевич, а теперь и просто Кирюша.
Пальцы осторожно, ласково запутаются в каштановых его волосах, словно вспоминая их неряшливую мягкость, взъерошивая слегка, как делала когда-то и эти ласковые движения заставят его вновь посмотреть в ее глаза. Ну неужели по глазам ее не видно, что она не может думать о нем как о «бесчестном человеке», которого необходимо выставить вон?
— Вы снова просите прощения за то, в чем нет вины вашей… Боже мой, Кирюша, — она наконец называет его так не только в письме, что сначала вышло даже как-то незаметно, а потом вошло в привычку. — да кто же тебя теперь отпустит?... Я ждала тебя всю жизнь. Какая я тебе теперь Елизавета Петровна?
Она завороженно следит за тем, как он отрывается от ее колен, как тянется к ее лицу и даже не думая, без промедления отзывается на такой кажется несмелый, но на самом деле просто осторожно-нежный поцелуй, тянется за ним как за источником живой воды из колодца, стараясь выпить как можно больше, стараясь вобрать в себя в с е. Уже очень давно обычный поцелуй не вызывал в ней такого головокружения, бешеного биения сердца и слабости в ногах, словно из них в одно мгновение исчезли все кости. С тех самых пор, когда он же и поцеловал ее на театральных подмостках. Это был лучший первый поцелуй в истории первых поцелуев. Он был сладкий, как сахар. Он был теплый, такой теплый, как пирог. Целый мир открылся для нее, и она упала внутрь. Лиза не понимает, где я находится, однако было ей все равно. Больше не заботилась ни о чем, потому что единственный человек, который имел для нее значение, был там вместе с ней.
За первым поцелуем, тем временем, последует второй, третий – они мягко осыпаются на губы, как осыпается та самая цветущая вишня, о которой он писал ей в письмах. И Лиза чувствует, как улыбается сквозь эти поцелуи, как сквозь прикрытые глаза покатятся по щекам слезинки-алмазы, да скроются где-то на подбородке. Нет, сегодня уж точно не вечер и не ночь для слез. Только если от счастья плакать! Теперь эти поцелуи не были ни случайными и ничего не значащими, которыми являлись там, в лабиринте, ни непонятными и прощальными, как на театральных подмостках. Поцелуи эти были самыми настоящими, реальными, желанными поцелуями и от этого еще более волшебными.
Она открывает, наконец, глаза и мир теперь кажется ярче, сочнее, словно с его приходом, наконец, обрел новые краски, смотрит на него смаргивая с ресниц непрошенные слезы и наслаждается одним словом Л и з а, наконец-то им произнесенным. Боже, кто бы мог подумать, что собственное имя теперь зазвучит тоже иначе и она только теперь понимает, что так долго ждала, когда же, наконец, он ее так назовет. Именно он, тогда как мало кому еще доводилось называть ее по имени. А у него и это выходит по-особенному. И теперь, когда он зовет ее так еще острее ощущает она насколько ей своего Кирюши не хватало все это время. И как только смогла она пережить целый год, этот безумный год, в которым совершенно не наблюдалось светлых дней. Год, отчасти похожий на Петербург, где солнце выглядывает только в редких случаях. И да, Лизу как и Сашу частенько с солнцем сравнивали, да только для нее отныне и навсегда солнцем являлся вот этот человек, смотрящий на нее так влюбленно, что самой становилось страшно: неужели же ты любишь меня так сильно, мой милый и любимый мальчик?...
— А я уже не верила, что смогу быть счастливой… — вторит ему, голос дрогнет, эхом на его признания отзывается.
Лиза, глядя на его лицо уже и не представляет, не помнит, как могла не любить его? Как могла когда-то не испытывать всего того фейерверка эмоций, что довелось испытать теперь, пока он прижимает ее пальцы, мягко путешествующие по его скулам, вискам и губам, к последним? Нет, положительно она была просто маленькой девочкой, глупой пташкой, беспечно поющей незамысловатую песню, а теперь наконец, готовая спеть такую, какой еще не слышал этот мир.
Глаза блеснут завораживающе-лукаво, когда он попросит спеть снова, на миг она, наконец, становится самой собой, прикладывая руку к его щеке и слегка кивая головой. В душе она готова была исполнить для него хоть тысячи песен, пока голос не потеряет, только бы не ушел, только бы не оказался жестоким и прекрасным сном изголодавшейся по любви души.
— Хорошо, я спою. Но только если ты не будешь так на меня смотреть, — проведет большим пальцем по его губе и улыбается лукаво. — потому что если будешь смотреть т а к, то петь я не смогу, потому что мне захочется совсем другого, — с этими словами выпархивает обманно-легко [о, как не хотелось выпархивать из них вовсе] из объятий к месту, где оставила шестиструнную свою гитару.
***
Осторожно проведет рукой по струнам, прислушиваясь не расстроилась ли гитара после последней игры, извлекая мелодичные звуки из инструмента, прежде чем бросить на него внимательный взгляд, улыбнется, сосредотачиваясь.
Горят таинственно свечи. Ветер касается деревьев. Подпевают соловьи, взявшие первые аккорды в ночи своей длинной песни и начинает петь Лиза.
— Я хочу быть любимой тобой. Не для знойного сладкого сна, но — чтоб связаны с вечной судьбой были наши навек имена…
Знала ли она, когда выучила романс, что станет петь его тому, кому хотела его посвятить, кого всегда представляла, когда в слова вчитывалась, надолго в сердце задержавшиеся? Нет, если бы кто-то сказал ей, то не поверила бы. Боже, как хотела она быть любимой. Сначала казалось, что неважно чьей, только бы почувствовать, только бы кому-то ее дарить, но все время выбирала совсем не тех мужчин. А как только влюбилась в него поняла, что все совсем не так, только себе долго в этом не признавалась. Потому и переживала каждый раз – что подумает о ней, как посмотрит на нее, потому было невыносимо думать, что станет смотреть на нее с разочарованием, а не так, как смотрит сейчас… о, как он теперь смотрит! И пусть Лиза запретила ему так смотреть, но в душе только трепещет сильнее – так и хочется отложить гитару, подойти, поцеловать и дальше будь что будет, но необходимо допеть.
— Этот мир так отравлен людьми, эта жизнь так скучна и темна…Но, пойми, — но, пойми, — но, пойми, в целом свете всегда я одна…
Ох, Кирюша, если бы только знал ты [пусть и писала тебе об этом, да только сколько умалчивала в письмах?] как в этом месте одиноко. Да, есть мальчики, есть Варя, есть в конце концов дорогие платья, высший свет черт бы его побрал. Но это все равно не то – едва ли я не заледенела, пока ждала тебя. Ох, если бы знал ты что скрывается за словом «одна» - это и синяк, что так удачно теперь волосы прикрывают, унижения, страх и слабость собственная, которая раз за разом вспоминается. Ох, если бы ты знал, любимый мальчик, как здесь бывало страшно, как опостылели ей люди-предатели, которые вьются у императорского трона теперь. Нет «Звезды», нет более Сашиных портретов, нет ее голубятни – ничего н е т, но теперь есть ты и мне этого достаточно, поверь мне. Ты только останься, останься милый.
Голос льется – мелодичный, высокий сопрано, которым так любят заслушиваться. Теперь тоже заслушиваются, да только чувствуешь себя при этом соловьем в клетке и петь совсем не хочется. И взгляд серьезнеет, пока она поет и играет одновременно, глаза серьезнеет. Она поет для него, про него и про себя и от того печать серьезности и оказывается на лице.
— Я не знаю, где правда, где ложь, я затеряна в мертвой глуши. Что мне жизнь, если ты оттолкнешь этот крик наболевшей души?...
Голос негромкий разлетается по спальне, вон вылетает из окна, подхватываемый ветром, Лиза продолжает, заглядываясь на него также, как он заглядывается на нее. Она никогда не задумывалась, что стала бы делать, если бы на ее письмо он не ответил. Ведь как бы не говорила, что это не главное, в душе надеялась и ждала, что ответит. Сердце ей вроде бы разбивали уже, но тут случилось бы нечто куда серьезнее – тогда ее просто предали и никогда не любили, а тут ее бы отвергли и это совсем другое. А никому другому отдавать свое сердце ей без надобности.
«Я люблю тебя», — говорят глаза, пока она поет.
«Я ждала тебя», — вторит душа, в глазах отражающаяся.
— Пусть другие бросают цветы, и мешают их с прахом земным. Но не ты, — но не ты, — но не ты, о властитель над сердцем моим. И навеки я буду твоей. Буду кроткой, покорной рабой. Без упреков, без слез, без затей. Я хочу быть любимой тобой.
Вспоминаются лилии, которые оказались так безбожно затоптаны в той мастерской, которая долго будет приходить в кошмарах. Вася готов бросить к ее ногам и трон, и все богатства, и самого себя, вот только что ей все это, если все, что чувствует к нему это презрение, да равнодушие? И император знает, знает то, что несмотря на все попытки ласки, угроз, увещеваний, уговоров она не станет подчиняться ему, а Кириллу станет. В том и дело – для нее это вовсе и не рабство, а любовь и отдаваясь полностью этому чувству в принуждении она и не нуждается. И никогда еще в своей жизни не хотелось ей любить так, как хотелось того теперь. «Да, да, да, Кирюша, я хочу, чтобы ты меня любил и никто больше не нужен. Хочу это почувствовать хотя бы на одну ночь, если большее нам не уготовано, потому что успела понять как жизнь изменчива и жестока – промедлишь и не увидишь любимого год, а может и вовсе потеряешь. И от того в своей любви теперь я отдаваться буду полностью, потому что я ведь писала тебе в письме. Твоя – приходи и забирай. Да, я хочу любить и быть любимой теперь и навсегда».
Сыграет последний аккорд этой несколько грустной песни, прежде чем успеет отложить гитару, вскинет заблестевшие в свечном сумраке глаза на него, ожидая похвалы, неожиданно взволнованная его реакцией, хотя раньше никогда даже не сомневалась в своих певческих способностях. А он теперь подходит к ней, Лиза глянет на протянутую руку, улыбнется, передергивая плечами и бросая лукавый взгляд на него из-под ресниц, очевидно теперь кокетничая.
— Пожалуй, приму ваше предложение, сударь, у меня как раз еще не успели разобрать все танцы! – с этими словами вкладывает свою руку в его и они закружатся в этом нелепо-милом танце, где смешаются фигуры известных танцев, но им совершенно все равно. И не важно, что на нем потрепанный временем и войной мундир, а на ней и вовсе ночная сорочка. А впрочем – им не в первый раз в таких нелепых нарядах перед друг другом выступать.
Он подхватывает ее на руки, а она от неожиданности засмеется, засмеется тихо, чтобы не разбудить никого, но не удержится теперь, сначала за плечи удерживаясь, а после руки и вовсе раскидывая в разные стороны птицей, вырвавшейся на свободу даже находясь фактически в клетке. Кажется, даже если бы их вдвоем действительно посадили в камеру в крепость, то с ним и там ощущала бы себя свободной.
Знать бы, только бы знать будущее. Может быть, окажись мы в камере вместе, Кирюша – были бы счастливее. Но судьба наша куда более жестока, чем думается нам изначально. И то, что считали жестоким покажется малостью перед тем, что ждет впереди. Но это будет потом. А сейчас мы счастливы абсолютно – и ничего не важно.
Свет от свечей и огня из камина падает на лица, золотит обоим волосы, она постепенно перестает смеяться, разглядывая его лицо, пусть и потрепанное слегка войной, но все равно его лицо, запоминая для себя каждую черту, каждую серую прожилку в глазах, замечая каждую царапину и шрам над бровью, которого раньше там и в помине не было. Она помнит – она когда-то тайком его уже разглядывала. Теперь по крайней мере можно хотя бы не таиться… И снова серьезнеешь, когда произносишь с глубокой нежностью в голосе:
— И как же я жила без тебя?
И нет, не только то время, когда уехал он на эту жестокую, как и все в общем-то, войну. Как она жила без него, не зная о нем и еще думала, что была счастлива? Нет, счастье таилось здесь – в этих серых глазах, на этих руках, на которые он все еще ее держит. И кажется, можно так и простоять вечность, разглядывая друг друга, да только ночь когда-нибудь закончится и Лиза вновь веселеет и заявляет неожиданно:
— А ты прожил без бритвы. Нет, положительно, Кирилл Андреевич, не собираюсь я более целовать ежа!
Вранье – она собирается целовать его в любом случае. И ничуть этого не постесняется.
***
Она сидит на его коленях, устраиваясь на диво удобно, едва касаясь босыми ступнями пола – Лиза в его руках кажется себе совсем маленькой и удивительно хрупкой – только диву можно даваться каким образом удавалось ей все это время держаться, по крайней мере казаться, если не быть сильной, если оказывается такая хрупкая. Но ей даже нравится, пока она с крайне сосредоточенным видом проводит опасного вида лезвием по его густо намазанному кремом лицу, даже несколько хмурясь от преувеличенного напряжения. Приспособление сие для бритья вполне могло бы посоперничать с каким-нибудь холодным оружием – настолько опасно оно выглядело, но Лиза и не думает бояться, как впрочем и он подставляя ее рукам беззащитную шею с подрагивающей на ней веной. И внутри, пока она сосредоточенно соскабливает с его лица кажется вековую поросль [и не удивительно – вряд ли в госпитале и на войне было ему до подобного рода занятий и вряд ли солдатам высылали цирюльника – хорошо еще, что не появились на волосах его вши], разливается тепло и от осознания того, что так безоговорочно просто доверяет ей свою шею, а значит и жизнь, не боясь что оставят ее руки царапину или не дай боже порежут куда опаснее, и просто от его дыхания на своем лице. Душевный трепет делу не особенно помогает, поэтому она только пуще серьезнеет, прикусывая нижнюю губу, пыхтит от старательности медленно-медленно проводя бритвой по шее. Потом обмакивает в воду, очищает от остатков пены и волос и снова по новой – зарос он знатно, даже и не узнаешь сразу.
— Ты так на меня смотришь, что я не могу сосредоточиться. Но не переживайте поручик, — он ведь негодник, он ведь не сказал сразу [или же просто забыл], что уже теперь и не поручик вовсе, поэтому имеет полное право его так называть. Лиза блеснет лукаво глазами-изумрудами в его сторону, вдыхая ароматы крема для бритья и его собственный неповторимый. — талант брить бороды передался ко мне от моего отца! 50 рублей когда-то в год составляла пошлина на ношение бород, а вы мой друг страшный неплательщик. Поэтому, от нее я легко избавлюсь, — помолчит немного, вновь аккуратно проводя лезвием по подбородку. А через мгновение усмехнется, заглядывая в эти дымчатые глаза, отражающие всполохи огня и ее собственное лицо. — а после попрошу платы, — сверкнет на него еще раз глазами и с еще более преувеличенным усердием займется продолжением бритья его.
Чем больше растительности исчезает с такого знакомого и такого влюбленного в нее [и как могла только раньше уговорить себя в том, что это все не так и быть такого не может?] лица, тем больше замечает она случайных царапин уже, кажется, почти исчезающих и куда более старых шрамов – маленьких и побелевших, которые, наверное не исчезнут никогда. Он выглядел удивительно загорелым, особенно на фоне ее прозрачно-белой кожи, которая разве что тепло освещается огненным теплом свечей, а так за эту бесконечно долгую зиму и весну кажется и вовсе обескровленной [и неудивительно поэтому, что следы о которых начисто забыла так долго исчезают]. Она могла бы спросить – как там на юге, теперь спросить во всех подробностях, но она делать этого не станет. Вспоминаются его письма, в которых неприглядно описывались все ужасы войны, которая окончилась весьма сомнительным миром, который никак усилиям армии не отвечал. Поэтому она просто продолжит сбривать упрямое напоминание об этой самой войны, запоминая невольно и шрамы и царапины. Ах, если бы ты только знал, Кирюша, как больно видеть на твоем лице даже такую малость, как хочется, чтобы боль и вовсе тебя не касалась!
И Лиза запоминает, запоминает каждую черточку на лице ей открывающемся, чувствуя при этом сквозь ткань [никогда еще не казалась она такой прожигающе-тонкой как теперь] сорочки мягко прикосновение его рук, удерживающих ее от возможного падения. Нет, положительно это больше на пытку похоже, но такую сладкую – до невозможности. Невозможно представить ситуации, при которой они оказались бы ей неприятны или даже противны. Нет – она слишком оказывается истосковалась по его рукам, таким надежным рукам по этой мягкой [а не насильственной] мужской силе. И так покойно становится и вместе с тем нестерпимо жарко, хотя окно все еще остается закрытым. Внизу живота разливается потихоньку горячее пламя, но Лиза держится даже рука не дрогнет – поранить его кажется невероятно страшным событием.
Он зовет ее шутливо-уважительно и Лиза, хотя полностью принимает эти правила игры и улыбается шутки все же не менее шутливо пригрозит:
— Я сбрею вам обе, если вы еще раз назовете меня Елизаветой Петровной, — губы сами собой тянутся в улыбке, тем временем, когда она добавит, выдыхая ему в губы, свободная и счастливая совершенно. — а они мне, между прочим, нравятся.
У него и правда красивые брови – два крыла. Знает ли он вообще какой красивый? Не знает, конечно же иначе понимал бы почему многие девицы засматривались и присматривались. И Катерина, о которой поведала ей когда-то сестра его и в конце концов даже томная красавица Елена Степановна, у которой список кавалеров не менее внушительный, чем список Лизиных почитателей. И Лиза могла бы ревновать, она может и ревновала постоянно представляя себе его то с одной, то с другой девицей, которая могла бы ему подходить. Но не подходил, в итоге никто – потому что теперь на коленях его сидела она одна, довольная своим положением безмерно, влюбляющаяся в него все сильнее и сильнее с каждой секундой и все еще при этом до конца не привыкнувшая к тому, что он здесь и она бреет ему бороду. Он здесь, здесь сидит и посверкивает глазами своими на нее, он не в далеком Крыму, не где-то на юге, не под развалинами лазарета, во что она в конце концов не поверила. И правильно сделала, ведь теперь он был здесь, рядом с ней, сидел смирно и неподвижно, пока сбривала она остатки и вытирала крем с лица, пока мягким хлопковым полотенцем не избавлялась от остатков влаги, то и дело бросая взгляд из-под ресниц на него и пропадая.
Всегда говорят, что честь у девушки смолоду хранится. Девицы благовоспитанные не пускают мужчин в свои покои и уж тем более спальни, не сидят у них на коленях [если только это не их мужья, но даже по этому поводу стоит сомневаться – насколько правила приличия такое позволяют] тем более в одной сорочке и не позволяют смотреть на себя подобным образом. А у нее от этого внимательного взгляда все внутри переворачивается. И, когда он, наконец, притягивает к себе, угадывая видимо ее желание совершенно очевидное, вряд ли Лиза задумывается о благовоспитанности. Да катится она к черту! Лиза и не думает сопротивляться даже для каких-то призрачных приличий. Сквозь ткань сорочки пальцы тело совсем уже жгут, а она только прижимается крепче. «Забирайте, забирайте полностью, я же скучала, я так скучала!...». И к чертям все остальное. Если поцелуи Васи напоминали укус – они ранили, причиняли боль, то здесь непостижимым образом смешивалась нежность и куда большая требовательность, чем могла она ожидать. Ее собственные руки сначала нежно-ласково, едва-едва касаются свежевыбритого лица, а после зарываются в каштановые волосы, в которых играют отблески огня из камина – она притягивает его еще ближе сама, так, чтобы между ними не оставалось ни дюйма. Эти поцелуи уже далеки от ласковых, осторожных и будто бы спрашивающих разрешения прикосновений – здесь вступает в такт что-то куда более глубокое, почти опасное, но от того не менее желанное. Поцелуи становятся долгими, неспешными и она отвечает на них возможно неловко, неумело, но с такой жадностью, которую никогда в себе не подозревала, на которую не думала, что способна. Это были поцелуи мужчины, который ждал этого момента годы и боялся, что он никогда снова не случится. Это был поцелуй женщины, которая также этого ждала, но не могла поверить даже тому, что он происходит теперь.
Поделиться72024-05-20 20:57:05
Все, чем она была, все, кем хотела стать, все, чем могла быть… все это – его. Лизе хочется отдать ему все, что она имеет, хочется принадлежать ему [а ведь когда-то казалось, что принадлежать кому- то никогда не будет, что это собственно за вздор?] вся, без остатка: лишь бы не отпускал, лишь бы держал еще крепче, прижимая к своей груди еще крепче, выпивая дыхание с губ. И кажется, что сознание и вовсе постепенно потеряется, но в самый последний момент этого долгого, ласкового и в то же время страстного безумия, на один-единственный миг он остановится, а она заглянет в эти честные, вопрошающие глаза, прикладывая потеплевшую ладонь, теперь душисто пахнущую кремом для бритья к его щеке. Ее милый, честный мальчик, если бы только он знал, что весь этот год никто и ни на что и не спрашивал ее дозволения на что бы то ни было… Она прерывает это сладкое безумие на один момент единственный, чтобы прошептать каким-то уже не своим, неожиданно охрипшим голосом:
— А я загадала, Кирюша… — зеленые глаза темнеют вместе с тем, как тихо догорают свечи, которые было недосуг потушить. —…я загадала, Кирюша, что ежели свидимся еще раз, если ты выживешь и вернешься ко мне… — голос стихает до горячего, мягкого шепота. —…то мы с тобой вместе будем. И душой и телом, — шепот становится совсем заполошный, мысли окончательно разбиваются на тысячи осколков. Оно и понятно – когда он целует ее, думать о чем-то просто невозможно. И Лиза вновь прижимается к чужим губам, плотнее, нежнее, яростнее в конце концов все вместе, давая молчаливую теперь отмашку и разрешение на все, что может произойти. Жизнь не менее короткая, нежели ночь, а провести еще хотя бы пару минут без него из-за каких-то предрассудков совершенно не представляется возможным.
И комната закружится перед глазами, начнет расцветать тысячами безумных фейерверков – куда более необыкновенных, чем те, которые в дворцовых парках запускались по праздникам. Лиза лишь пальцы сплела за его шеей, позволяя поднять себя на руки – неожиданно легкую, кажется, словно пушинку, доверяя этим рукам как никогда раньше. Она прижимается еще ближе, забывая о том, что происходит и где находится, растворяясь, теряясь во тьме, напоенными самым прекрасным запахом на свете. Дуб, тепло южных границ, пьяная сладкая горечь, аромат свободы… Его объятия могли бы смять ее, как бумажный листок, смыть, как смывает большой шторм корабль, не будь его руки такими бережными, его губы на ее губах будят в ней странное, неведомое прежде желание, которое до того никто и не пробуждал – нестерпимую, безрассудную и почти пугающую жажду. Жажду, которую может утолить лишь один человек, жажду, которая мучила ее уже слишком давно, пускай она сама этого не понимала или не признавала. Они целовались так, как дышат тонущие люди: так, словно внезапно открыли то, что никогда не было столь сладким до этого конкретного момента.
Все чувства оказываются обострены до предела, прикосновения чужих пальцев, неистовой лаской скользящих по спине, шее, плечам, лица, отдаются в ней дрожью; а потом губы его спускаются ниже, приникнув к шее тем странным жгучим поцелуем, что заставляет ее всхлипывать, выгибаться ему навстречу, хватая губами воздух, вонзая пальцы в плечо, в нестерпимом желании прикоснуться кожей к коже и помогая, в конце концов избавиться от ставшей такой ненужной одежды. Она только мешает скорее соединиться, поэтому долой, долой, долой!... Ей так невыносимо, невообразимо хорошо, что кажется еще немного и можно сойти с ума. И невозможной от того мерещится причина по которой следовало бы это прекратить.
Она заглядывает в кажущиеся теперь почти черные глаза – удивительные глаза, такие же изменчивые, подобные небесам. То пасмурно-серые, то почти голубые, то прохладно-дымчатые, а то как теперь, черные с подрагивающими язычками свечей, которые одну за одной гасит шальной ветерок. Сердце стукнется о ребра, вся кожа кажется горит от этих нескончаемых поцелуев, которые, кажутся не закончатся никогда и не надо – пусть не заканчиваются! Снова и снова чувствуя, как оживают от прилива горячей крови, пробуждающимся чувством ее губы. Охватывая их своими губами она чувствовала как ее губы становятся упругими, горячими. И не стыдно и не страшно: она и не помнит ни о боли, ни о стыде, ни о страхе, ведь рядом с Кириллом бояться нечего теперь. Самое страшное осталось позади – сгорело в крепостях, замерзло в темных дворцовых коридорах. Сейчас единственная мысль, сохранившаяся в расплавленном рассудке это лишь то, что ей хочется быть его. Стать его. Позволить ему сделать все, что он хочет, все, чего хочет Лиза сама, ведь его желания – это и ее желания.
Пальцы спускают сорочку с плеч, а губы пробуют на вкус то, что ранее было запретным, а после со всего тоже молчаливого разрешения, эти пальцы и губы узнают о ней все, как раньше его душа знала о ее душе, она действительно сходит с ума – раз за разом в несравненной восхитительной пытке. И боль, которую она ждала не приходит, даже когда становитесь одним целым. Комната окутана в полумрак теперь и от этого действо это оказывается еще более близким, еще более таинственным все звуки, запахи и цвета перемешиваются в нечто восхитительное и неописуемое, но все, что может она видеть в перерывах этого безумия – его лицо. А большего и не надо.
И в конце уже Лиза сама целовала мужчину над собой куда придется, ощущая не прежнее исступление, которое он заставил ее испытать сполна, но нечто другое, необъяснимо большее. То, от чего так уютно и хорошо, что хочется плакать, - странную, ни с чем не сравнимую нежность от всего, что делает он с ней от того, как страсть искажает его, да и ее лицо тоже.
Сердце колотиться будет неистово быстро, удивительное в своей способности биться – тело покрытое испариной, наполненное истомой, Лиза чувствует себя так хорошо, когда все ее существо наполнено и м, наполнено любовью, что даже несмотря на сбившееся дыхание может произнести только одну фразу, растягивая губы в слабой, усталой пока еще улыбке. Она все еще весьма слабо самое себя ощущает, вот только все равно хочет сказать ему это – взъерошенному, темноглазому и уставшему кажется не меньше, чем она сама. Облизнет припухшие губы, прижимаясь к его взмокшему виску, шепчет на самое ухо:
— Люблю.
Боже, как последние месяцы ей хотелось сказать это вслух.
***
Лиза удобно устраивается рядом с ним, прямо под его боком, ерзая подбородком по плечу и разглядывая его профиль, освещенный мягким светом от огня. В спальне все еще царит этот приятный полумрак, который все это время служил их надежным союзником. В комнате тепло, а может быть даже жарко – ветер, гуляющий за окнами теперь стих, а в ультрамариновой темноте снаружи сложно усмотреть какой теперь час. Да Лизе на это глубоко безразлично, она продолжает разглядывать его лицо, ставшее теперь уж точно родным, поглаживая пальцами плечо, на котором так удобно устроилась. Взмокшие, счастливые, влюбленные и такие молодые – Лиза и думать забыла, что где-то в этом же дворце, в противоположном от ее спальни крыле [и это единственная светлая черта в беспробудном мраке ее существования здесь] находится император, что на теле ее сохраняются еще следы всего того ужаса, что удалось перенести [теперь они начисто перекрыты его поцелуями, догорающими на коже]. Важным теперь остается только один-единственный факт – факт того, что он лежит рядом с ней и улыбается, глядя на нее из-под опущенных длинных ресниц.
Лиза хмурится, как только он называет ее по титулу, впрочем через секунду не выдерживает и усмехается на это лукавое, мальчишечье выражение в его глазах, вновь делающим его еще совсем молоденьким. Хулиганит, Кирилл Андреевич. Но Лиза поддается, нависая над его лицом, проводя пальцами по бровям и притворно-обиженно надувая губы, которые так и тянутся тихо рассмеяться:
— Стоило их все же сбрить, — категорично заявляет она после осмотра. — Вы и вправду хулиган, Кирилл Андреевич! – легонько щелкнет по носу, не выдерживая таки и улыбаясь, как только он, растягивая буквы, произносит ее имя. Никогда еще не звучало оно так хорошо как теперь! Лиза по тому и не хочет слышать от него формально-вежливого «Елизавета Петровна», хотя и оно у него выходило каким-то трепетным, но Лиза – это совсем иное дело. Елизавета Петровна может многим принадлежать – династии своей и фамилии, этому холодному дворцу, закрывшему сегодня глаза на их обоюдное счастье, а Лиза принадлежать может только себе, да ему. Она улыбается сквозь теперь уже мягкий, пуховым одеялом накрывающий поцелуй, удовлетворенная кажется совершенно, вновь укладывается рядом, на его плече и кажется нет ничего более удобного. От него веет теплом еще пущим, нежели от камина, а она замерзала здесь все это время без него, подарившего тепло еще там, у стены набережной и забравшего со своим неожиданным уходом.
— Это? – Лиза выгибает бровь, наигранно-удивленно. В конце концов ни одному ему превращаться в плута и хулигана – ей и вовсе не привыкать подшучивать. Она хлопнет пару раз глазами, изображая из себя святую невинность, которая понятия не имеет вовсе о чем это он ей намекает. Хотя в душе знает конечно отлично – тело все еще отлично помнит, тело еще толком и не отошло, влажное от пота и помнящее каждый поцелуй. Теперь, пожалуй и не осталось в ней ничего, чего бы он не знал. Она качнет головой, волосы щекочут его оголенную кожу. — Не понимаю даже о чем это вы толкуете, Кирилл Андреевич! — прикрывает рот ладонью и хохочет беззвучно. — Нет, совершенно точно вы обязаны ответить мне на четырех листах, оставить подпись и пообещать служить мне теперь вечно! – с самым серьезным, на какой только возможно в такой ситуации видом, но надолго ее не хватает. Теперь уже она снова приподнимается, целует его в губы [вот так и будут обмениваться они поцелуями], обхватывая руками лицо, которое теперь совсем и не колючее, пальцы ласкают кожу. — Но за вот это, кажется, я готова быть милосерднее.
Лиза прислушивается к его голосу, перемешивающемуся с треском поленьев – уже глубокая ночь, а сна ни в одном глазу. Ладонь собственная покоится на его груди, поглаживая тихонько, чувствуя тепло и биение е г о сердца. Она слушает, что он говорит, вспоминая Сашины замечания о том, что Кириллу стоило бы обратить внимание на пассий посговорчивей России. И становится и смешно и грустно от того, что теперь это им самим подтверждается – да только Саши уже давно нет, а как было бы, наверное проще, если бы теперь он был жив. Тогда может и не пришлось бы залезать через окна и перешептываться негромко, тогда может быть не нужно было бы расставаться так надолго. Разве только – поняла бы она, насколько действительно сильно любит этого задумчиво улыбающегося юношу рядом, если бы в какой-то момент не замаячила угроза потери? Нет, непременно и без того бы поняла, конечно же!... Нет худа без добра – еще одна мудрая русская поговорка.
— Ну, значит соперница у меня была по крайней мере достойная, — усмехается, целует тихонько его плечо, поддаваясь все тем же бесконечным порывам целовать, быть ближе и не расставаться больше на такой холодный и безжалостный год еще хотя бы один раз. — Но я все же победила.
Он говорит о целой очереди, которая скопилась у ее ног, а ей делается почти неловко от себя прежней – девушка, которая никогда толком и не знала, что такое любовь, могла быть и жестокой и равнодушной, но теперь не имела с ней ничего общего. Лиза постоянно выбирала неправильно. Но в чем-то он в конце концов прав, ведь не думала же она, что его полюбит так, что теперь дрожит, стоит еще раз ему поцеловать ее или просто коснуться рукой разгоряченного тела. Но так хочется теперь переубедить, даже если он в этом вовсе не нуждается, сердце готово разорваться от этой щемящей его теперь нежности к этому человеку. Лиза прикрывает глаза, вдыхая теперь родной запах его тела, поерзает на одном месте, передернет оголенными плечами.
— Ох, Кирюша, — она теперь может называть его так вслух и это тоже доставляет определенное удовольствие. Давно пройдены границы и препятствия, которые сделать этого не давали. — ну какой же ты, право, дурачок. Что мне эти очереди – да пусть хоть до Парижа бы выстроились, мне безразлично! – пылко, страстно, совершенно по-своему. Наружу прорывается Лиза, которую она успела забыть. С ним она и улыбаться начала снова, вдруг осознав, что не делала этого кажется так долго, что разучилась. — Я т е б я люблю. И потом, — беспечно фыркнет. — я ведь тоже не думала, что могу тебе понравиться. Ты же такой… — пристально вглядывается в его лицо, будто пытаясь подобрать правильное слово. —…серьезный, — проведет пальцам по бровям, которые теперь вовсе не нахмурены, в расслабленном положении его счастливой и спокойной улыбки они придавали лицу действительно какой-то мальчишеской удали. — правильный… — загибает пальцы, усмехаясь его выражению лица в эту секунду. Вот еще немного и снова заявит ей: «Нет-нет, я хулиган!». Совсем как ребенок. — ты идеальный, — заканчивает Лиза, голос становится задумчивее с каждой секундой. — А я совсем другая была – в твоих глазах страшно не хотелось выставлять себя глупенькой, думающей только о развлечениях и беспокойной ужасно. Я думала сначала, что тебе должна Наташа нравиться – вы с ней так похожи были! — опережая его возможные возражения относительно предметов его любви хохотнет уже веселее. — Но тебе все же не повезло влюбиться в меня и теперь я уже никому тебя не отдам!
Каким бы собственником он не был – она не меньший. Возможно, в этом проявлялось ее положение или происхождение – почти детские капризные привычки, что в этой стране ты имеешь право практически на все и все здесь принадлежит тебе, если ты так пожелаешь. Возможно, такой собственнический эгоизм работал только с ним – вот уж кого теперь она ни с кем поделить не могла, даже с Россией. О да, пожалуй эта битва окажется самой сложной.
Сердце замирает от его «я люблю тебя», кажется уже невозможно счастливее быть, но с каждым этим «люблю», он ее переубеждает.
И Лиза в этом счастье забывается, забывается настолько, что забывает и об осторожности. Света становится чуть больше и по началу, она не понимает от чего его теплый, мягкий взгляд вдруг холоднеет, становится льдисто-непроницаемым, но реагирует на это перемену остро, непонимающе вглядываясь в его лицо. В отличие от Кирилла, который эти отметины видел впервые она к ним успела привыкнуть, а в пылу этой ночи она и вовсе забыла об их существовании. Для нее они теперь стали лишь досадливой помехой на коже и только – они не злили и не пугали ее, потому что из последней схватки вышла она победителем вот и все. Да, сначала голова раскалывалась ужасно, а показываться в таком виде людям на глаза казалось чем-то совершенно безумным. Но потом отек прошел, боль утихла и остались только следы: пара пожелтевших синяков, которые надежно были прикрыты волосами, да еле-заметная теперь розовая полоска от ножа, который сама приставила к собственному горлу. Для нее – это всего лишь уже ничего не значащие следы. А для него – возможный путь прямиком в Петропавловскую.
Кирилл со все той же нежной осторожностью, но тем не менее безжалостно разглядывает синяки на лбу у линии роста волос, а ее сердце теперь тревожно трепыхается в груди, мысли разлетаются испуганной стаей. Надо же ему было приехать тогда, когда они не успели еще сойти. А впрочем нет, нет, она бы не выдержала ни дня разлуки дольше – теперь это ясно, но только что с этим делать? В его глазах она читает такую мрачную и пугающую решимость, злость, ярость [вы и вправду врать не умеете, Кирилл Андреевич, а во дворце это плохое качество], что страшно становится. И не то чтобы страшило ее возможное возмездие за дела Василию Борисовичу, сколько страшила участь, которая ждет самого мстителя. Если из-за ее пары синяков, которые между прочим начали проходить она лишится того, кого только успела найти – она сама спрыгнет из окна при первой же возможности. А с другой стороны как хотелось все это время, чтобы он был рядом, чтобы он и тогда б ы л, чтобы пожалел, понял, защитил в конце концов!...
Язык присыхает к небу, пока она пытается улыбнуться – на этот раз выходит фальшиво и что-то не слишком убедительно для него. Должно было выйти что это так, пустяк, ударилась, неосторожно ездила на лошади, запнулась о камень. Да только все лихорадочно перебираемые в голове оправдания оказывались весьма жалкими. Лиза слишком хорошо ездила верхом, чтобы упасть так неосторожно, невозможно удариться так, чтобы вместе с синяками алел на шее еще и след, который любой офицер сразу определит в следы от холодного оружия. Поэтому Лиза молчит, беспомощно позволяя ее осматривать: как только его рука окажется на шее, дрогнет, поспешно прикрывая предательский след ладонью. И это действие только усугубит, только заставит окончательно увериться, что в письмах она писала ему далеко не обо всем, писала слишком сухо и сдержанно, преуменьшая главное. Но ведь главным являлся вовсе не новый император – главным было то, что она ждала, тосковала, л ю б и л а, Кирилла. К тому же как могла она о таком рассказать? Она отлично знала, что он бы бросил все, а конец один – на виселице. Если даже Семен грозился расправой, если даже ее мальчики готовы были головы сложить из-за действий Василия Борисовича, то что говорить о нем?
Она не сможет ответить п р а в д ы ни на вопрос что это такое, ни на вопрос откуда это взялось. И он читает это, наверное, в ее глазах, когда так резко подрывается, верно угадывая причину всех ее проблем и горестей в этот год и вот тогда, она уже сама пугается ни на шутку.
Лиза подрывается следом, обхватывает руками за плечи и потерянно-испуганно тыкается носом в спину, не давая подняться и наделать таких глупостей, за которые себя не простит в первую очередь она сама. Она обнимает его так крепко, мотая головой, что даже если бы постарался, пожалуй бы с первого раза не вырвался.
— Нет, Кирюша, не смей! – пылко воскликнет, подтверждая тем самым истинность возможных его догадок. — Ну черт с ним теперь – это уже не болит, это уже прошло, право слово, почти и не заметно… — она обрывается, понимая, что это только сильнее раззадорит и заведет куда не надо. «Ох, Василий Борисович, Ваше Величество, вам стоит быть благодарным теперь, хотя и нет у меня никакой нужды вас спасать, как и желания – в ином случае, если бы он добрался до вас, боюсь простым синяком, как я, не отделались бы…». — Кирилл, ну что ты сделаешь? – она почти насильно заставляет повернуть его лицо к себе, обхватывает обеими ладонями, зашепчет поспешным, испуганным шепотом. — На дуэль его вызовешь? А потом что? Крепость, ссылка, кнут? — прижимается к его лбу, заставляя к себе прислушаться и решив, что если решит уйти, то повиснет на нем, уцепится, но никуда не пустит. — Родной мой, любимый, единственный, не надо, не надо, прошу, умоляю… — она целует его в висок, целует быстро, суматошно, целует дрожащими губами в лоб, переносицу, щеки; целует в упрямо теперь сжатые губы, покрывает все лицо это поцелуями, заставляя, вынуждая, приказывая не делать дальнейших попыток уйти, поддаться ее рукам, ее губам. — И за меньшее теперь в крепость садят. Он того не стоит – я его не боюсь более, а тебя потерять боюсь. Господи, Кирилл, он ведь сказал мне, что ты погиб!... — голос треснет, затихнет на мгновение, одинокая слеза выскользнет, проделает прозрачную и сверкающую дорожку по щеке, застынет на подбородке. Поспешно вытирает и вновь смотрит ему в глаза, все еще напуганная тем, что может уйти. — Господи, а ежели бы правда? А ежели бы тебя правда не стало? Мне тогда зачем жить? Нет, я бы не смогла, я бы не захотела, поэтому пообещай, что ничего делать не станешь – ты теперь со мной, здесь и я не позволю так глупо разрушить мое счастье, слышишь? — прижимается к нему всем телом, словно в доказательство своих намерений. — Никуда я тебя не пущу, пока не пообещаешь, — категорично заявляет на последок.
И Кирилл все таки поддается, вновь ложится на подушки, а она ложится следом, с подозрением некоторым глядя на него теперь в любой момент готовая вновь цепляться за него, только бы не отправился он теперь по ее мнению на верную смерть. Не сказать при этом, что выглядит он особенно сдавшимся: Лиза буквально ощущает исходящие от него волны негодования. Мужчины – как что за шпагу, а кто же будет думать о последствиях этой самой шпаги? Кто будет задумываться о любимых, которых оставляете, защищая их же честь? И нет, это похвально, да только лучше оставались бы с ними побольше не наживая проблем на голову.
Лиза кладет голову на его гневно вздымающуюся грудь, прислушиваясь к раздраженно вырывающемуся из груди его дыханию. Нет, положительно они увернулись теперь от пули – и они и наверняка видящий теперь десятый сон свой император.
— Я знаю, знаю… — успокаивающе произносит она, отлично осознавая, что если бы он мог, непременно бы ее защитил. Но теперь ей достаточно и того, что он просто жив и лежит с ней в одной постели. Это уже слишком много, даже не верится. — Знаешь, Кирюша, я порой думала о тебе так много, что что мне даже странно теперь, откуда брала время на всё остальное. Это потому, что всё остальное — это тоже каким-то образом ты, — тихо и серьезно признается она, отрываясь от его груди, слушая его голос и вновь пропадая в поцелуе, подставляя теперь его губам без всякого опасения шею, где алеет предательский шрам, зарываясь рукой в и без того растрепанные волосы и влюбляясь все сильнее и сильнее, хотя кажется сильнее теперь и невозможно. Поцелуи теперь — это самое лучшее, что есть на свете. Лиза теперь так сильно любит, что готова заполнить всю жизнь поцелуями. Одними поцелуями.
Чувствуешь мурашки по всей спине. И не можешь остановиться. Пока не заболят губы. Едва губы коснулись его губ, всё поплыло. Она наблюдала за миром из-под ресниц и не видела мира — он вокруг нас сиял и вращался. Они сделались едины, как стрелки часов в полдень, и она, оторвется только на миг, внимательно взглянув его вновь потемневшие теперь глаза, удостоверившись, что в ближайшее время он никуда не уйдет и тихо попросит:
— Скажи еще раз.
Помолчит немного и повторит.
— Скажи, что не отдашь ему меня. Скажи, что я твоя.
И большего мне не надо.
***
Лиза спала так крепко впервые за долгое время, из-за чего даже яркое весеннее солнце, порадовавшее теперь Петербург не смогло разбудить своими вездесущими лучами. Лиза сонно бормочет что-то во сне, елозит щекой по подушке, на которой теперь оказалась вместо еще более удобного плеча, лежа теперь на спине. Одеяло съехало во сне куда-то вниз, оголяя часть спины, по которой разливается теперь приветливый солнечный свет, касаясь случайных маленьких родинок на ней, обласкивая и перескакивая на другие предметы в спальне. Лизе может быть совсем и не хочется теперь просыпаться, но приходится – он уже не спит, но как только почувствует, что проснулся он, отчего-то еще пару мгновений держит глаза закрытыми, точно зная, что теперь ее разглядывает Кирилл, присутствие которого явно ощущала даже в полудреме. Самый искренний и нежный поцелуй, это когда ты спишь, а он тихонечко, боясь тебя разбудить целует тебя, не важно куда, в губы, в нос, в щеку или в лоб, главное что ты в этот момент «сходишь с ума» от наслаждения. И понимаешь вот оно счастье… А он действительно ее разбудить боится, быть может, наблюдая за тем, как она спит. И так и хочется сказать: «Но только не останавливайся», но разомкнуть глаза все же придется, сонно щурясь от яркого солнечного света и даже не представляя который теперь час. Раз спешит ее Кирилл Андреевич в казармы, значит достаточно ранний. Признавать она это отказывается и поэтому плотно глаза закрывает обратно, словно если она их закроет новый день не наступит и ему никуда уходить не придется.
«Мне нужно идти» - все одно что приговор, который она не может снести. Несправедливо, невозможно – всего одна ночь [пусть даже самая прекрасная на свете] взамен целого года! Лиза, которая все равно еще толком не проснулась, сонно мотает головой, ухватывая его за предплечье и вынуждая задержаться в постели еще некоторое время.
— Конечно иди, раз надо… — но действия ее прямо противоречат словам. Балансируя между реальностью и сном, Лиза толком еще себя не обрела, но притягивает его к себе за шею, целует, прежде чем с недовольным вздохом отпустить, впрочем не особенно далеко.
Приоткрывает глаза на этот раз шире, окончательно просыпаясь, вглядываясь в его то ли несчастное, то ли умоляющее облегчить ему задачу ухода из ее спальни, лицо. Делать этого она, конечно же не будет, продолжая его около себя удерживать и мотать тихонько головой, напоминая самой себе ребенка, который отчаянно не хочет делать то, что ему говорят.
— Нет, не будут, — надувается, подставляя губы под поцелуй и продолжая удерживать рядом. Зрение приобретает, наконец, фокус, она может разглядеть его, пытающегося оправдать необходимость покинуть ее всеми возможными средствами, а Лиза тем временем просто целует такими родными ставшие за эту ночь губы снова, не желая на этот раз к голосу разума прислушиваться.
— Нет, не правда, — продолжает возражать ему, ее лицо почти жалостливо вытягивается в одно умоляющее выражение задержаться, руки сами собой обвивают шею. К Лизе, чтобы и добраться и чтобы уйти – все одинаково сложным представляется. Ее глаза будто говорят: «Если уйти желаете – то и меня с собой несите». Пусть это и невозможно.
— Нет, не надо идти, пошли всех к черту… — сонно канючит, а после обессиленно валится на подушке, выклянчив себе еще один поцелуй, наблюдая теперь за тем, как он одевается, снова надевает рубашку, скинутую ночью в такой поспешности закрутившего их порыва, то и дело прищуриваясь от солнца и сладко потягиваясь. Они спали совсем немного, большую часть ночи посветив совсем иным занятиям, но еще никогда не ощущала она себя такой выспавшейся. Садится на кровати с лукавой улыбкой забирая собственную сорочку из его рук, от которой в свою очередь избавились не менее поспешно, чем от его рубашки. Набросит ее на согретое солнцем и его поцелуями тело, склоняя голову на бок.
— Как и тебе без рубашки, — не мало не смущаясь вторит она ему в губы. Ее заливает, затапливает таким счастьем, которого она для себя и вправду помыслить не могла совершенно. — Капитанский… — зачарованно повторяет за ним, но не особенно придавая этому значения, то ли не проснувшись до конца, то ли оказавшись в плену серых глаз. — Постой – так тебя повысили? – неожиданно звонко, громко и радостно. Она даже привстает с кровати, захохочет, забывая обо всем на свете и даже недовольстве относительно его ухода. Она мигом просыпается от этой новости, виснет у него на шее, целуя в щеку выбритую теперь звонко. В этом была вся Лиза, которую он возможно и полюбил в итоге и которая, как она думала замерзла где-то на ступенях дворцовых. — И ты мне не сказал? Невыносимый негодник вы, Кирилл Андреевич! – она шутливо возмущается, легонько ударяя кулачком в грудь, а после серьезнеет, улыбка станет чуть задумчивее, но от того не менее влюбленной. Боже мой, как она оказывается его любила!... — Я бы и в солдатском тебя любила, Кирюша. Но капитан звучит красивее, я приду посмотреть… — еще один долгий-долгий поцелуй на воспаленных теперь поцелуями губах, не отошедших еще от недавней ночи. — …на мундир, — лукаво стрельнет взглядом из-под ресниц, а после долго смотреть будет ему в спину из окна, понимая, что как только ушел он, то она уже начинает скучать. А ведь до время назначенного еще столько часов, боже!...
_________________⸙♦⸙__________________
Морская вода сквозит бирюзой – залив тем и отличен от серых, тревожных вод Невы, текучих под мостами и между домов, с характерным запахом рыбы и временами едким запахом нечистот. Море – иное, с запахом соли и свежего ветра, норовившего если не сбить с ног, то по крайней мере сорвать головной убор с головы. Ветер и море заодно – он нагоняет на берег пенистые волны, те разбиваются о песок, уползают назад, чтобы набраться сил и вновь накинуться на песчаную отмель. Послеполуденное солнце мириадами неслышных шлепков похлопывало по поверхности моря, и весь залив горел нестерпимо ярким сиянием. Вдали, наполовину утонув за горизонтом, застыли величавые легкие облака, похожие на грустных и молчаливых пророков. Их мощные мышцы белели алебастром. Какой-нибудь художник непременно запечатлел бы все это, но картина не передаст всей красоты — голубая акварель колышущейся водной глади, светлая постель дневного неба. Не передаст ни один композитор звуков, которые издает море: минорное звучание волн, бьющихся о берег, низкий тембр гудящих верфей где-то вдалеке, импровизация шелеста парусов кораблей, словно бы переговаривающихся гулкими голосами.
Лиза стоит под солнцем, приехавшая на берег раньше назначенного срока и теперь замершая в мечтательном ожидании. И не сказать ведь, что так уж давно его не видела – нет, кажется виделись всего то несколько часов назад, но ожидание в последнее время становится практически нестерпимым испытанием и диву даешься – каким образом смогла ждать целый год, прежде чем снова его увидеть?
Чайки кричат, будто напуганы водой, которая вздымается под ними, как набухшее, недружелюбное полотно. Подлети чуть ближе, опусти крылья, помедли секунду — проглотит.
Ей стоило определенных усилий выскользнуть из дворца так, чтобы это не вызывало подозрений – благо, безмерно кажется оскорбленный государь вновь не поставил за ней молчаливо-строгих стражей, имен которых за все это время она так и не узнала. Они же, очевидно, прямых указаний не получив были таковы. Лизе безразлично, пока она подставляет лицо этому соленому ветру, следят за ней или нет. Если следят – что же, ну и пусть себе следят, она сама пойдет в Тайную канцелярию с этими их шпионами и подглядывальщиками и все им расскажет. Пусть следят – в конце концов пусть наблюдают эти злые, разговаривающие шепотом, словно вечно что-то подозревают и вечно чего-то боятся люди за тем, что она счастлива, а дальше пусть доносят сколько хотят, пусть, пусть!... Морская свобода так или иначе заразительна, кружит голову и кажется, придает какой-то почти шальной смелости. А может, ей придал ее он сам, появившийся так неожиданно, пробравшийся в ее спальню и душу. Самое страшное, кажется, уже осталось позади – он выжил, не оставшись под завалами какой-нибудь крепости, а ничего страшнее смерти и это она уже знает совершенно точно быть не может.
Море отбивает соленые брызги прямо в лицо, заставляя облизывать губы от привкуса соли и щуриться. Она беспокойно, нетерпеливо мерит шагами берег, а галька вперемешку с песком хрустит под ногами. И как только услышит она знакомое лошадиное ржание, то птицей вспорхнет, полетит, побежит, даже особенно не дожидаясь того момента, когда он спрыгнет с лошади. И наконец в таком случае увидит она Плутона, который одним своим видом живо напоминает о Саше – кажется, что он тоже где-то здесь, тоже приехал, просто прячется, а вот-вот выпрыгнет откуда-нибудь с победоносно-насмешливым видом и крикнет: «А что я говорил – лямуры здесь устроили!». И Лиза прячет слезы в счастливой улыбке, как только за несколько мгновений пересекают они расстояние друг от друга. Она заливается прозрачным смехом, поднимаемая им на руки, будучи теперь в состоянии смотреть на него, такого высокого, сверху-вниз. Лиза продолжает смеяться, разглядывая его лицо, его улыбку, которую сама она видит теперь так часто, что ее утверждение о «серьезности» сходит на нет. Руки, которые сначала удерживались за его плечи теперь обхватывают лицо – все равно никогда не поверит, что он может ее уронить.
— А вы опоздали, Кирилл Андреевич! – теперь его полное имя звучит тоже как-то по-новому. Раньше – это был показатель ее уважения и иначе не получалось. А теперь – лишний повод подразниться. На нем новый, уже не залатанный, не покрытый пылью от проселочных дорог мундир, теперь уже капитанский и как не привычно отныне звать его не «поручик», а видно капитан. Взгляд упадет на букетик, который очевидно предназначается ей и глаза волей-неволей начнут переливаться нежностью. И вроде бы простой букетик из тех цветов, которые появляются на свет в весеннюю пору первыми – разве не дарили ей целые вазы, не бросали к ногам цветы самые что ни на есть дорогие и экзотичные, уверяя в пылкости чувств и так далее? А вот этот букетик, чуть помявшийся, облетевший от бешеной езды вызывает бесконечное желание целовать его, благодарить его – именно этот простой букет диких цветов, которые он нашел черт знает где и плавит душу от этого нескончаемо-прекрасного чувства, вызывая умиление. Она принюхивается к нежному, такому живому цветочному аромату, словно подарил он ей самые замечательные цветы на этом свете. — А если бы я сбежала, или меня похитили, пока я вас господин поручик ожидала? О, или не так? Господин капитан, — она произносит последнее слово с особенным ударением, отлично зная, как подобное повышение для него важно. Лизе возможно никогда и не понять мужчин, которые постоянно соревнуются за бесконечные чины – без этой борьбы в мире возможно было бы чуть меньше войн, а в России чуть меньше интриг, но за него все равно радуется, заглядывая в эти счастливые серебрящиеся на ярком весеннем солнце глаза и с готовностью отвечая на поцелуй.
За ними искрится и пенится море, кричат чайки над головой, а она купается в этом простом и прекрасном счастье под названием любовь, все еще не понимая в душе, как жила без него все это время.
Приоткроет глаза, щурится от солнца, прячет лицо за букетиком, несчастным и теперь изрядно помятым, но по приезде который непременно поставит в вазочку или хотя бы засушит, если подходящей вазочки не найдется. Она постоит так немного, а потом спросит, взмахнув загадочно ресницами:
— А известно ли вам, Кирилл Андреевич, — она будто специально теперь называет его так и никак иначе. — что на языке цветов значит медуница? О, это очень интересно… — выдерживает паузу, а после снова расплывается в совершенно счастливой улыбкой. — Она означает: «Ты — моя жизнь». И это истинно так, Кирюша, — заканчивает, вновь произнося милое сердцу имя.
Лиза снова потянется к нему, приближая лицо так близко, что едва ли они не соприкасаются кончиками носов. Все томительнее и томительнее кажется теперь этот момент, когда определенно должен случиться новый поцелуй, но вместо этого в нее вселяется игривый, рыжеволосый бесенок, который казалось уже никогда и не проснется, но нет. Когда считанные миллиметры останутся до притворно-желаемой [или не особенно то притворно] цели, Лиза взглянет в последний раз в это невероятно вдохновленное идеей поцеловаться еще раз лицо, прежде чем хохотнуть в чужие губы, одним легким движением щелкнуть по треуголке, нахлобучив ту ему на самые глаза и несносным вихрем, неожиданно быстрым и неожиданно ловким для девицы, которой приходится бегать по пляжу в платье с оборками, ринется прочь, продолжая хохотать. Смех уносится далеко в море и Лизе отчаянно хочется, чтобы он доносился и до Саши – ему бы понравилось, что она перестала грустить. Бирюзовое платье отдает глазам голубоватый оттенок, почти сливаясь с кромкой воды.
\\ я ждала тебя не зря
и быть счастливыми не поздно
— После дождичка в четверг, вы меня догоните, господин капитан Преображенского полка! – она заливается пущим смехом, вспоминая такую давнишнюю фразу, сказанную в таком же необъяснимом веселье в лесу, не желая быть пойманной каким-то нахмуренным, упрямым чудаком, так сильно обожаемом братом. Что же, теперь она полюбила этого чудака, который прямо перед ней вовсе не казался хмурым. А вот упрямым вполне – смог таки влюбить в себя, смог дождаться, даже выжить смог!
Лиза продолжает хохотать, прыткая, верткая, не желающая совершенно поддаваться даже потому, что быть пойманной им не такая уж и большая трагедия. Ноги утопают в морском мокром песке, периодически намокая, когда очередная небольшая волна накатывает на залив. Она не дает так просто себя поймать или же он поддается, но вся эта задорная беготня по пляжу напоминает ту, другую, когда их было на два человека больше. Лиза теперь не задумывается об этом, с раскрасневшимися от быстрого бега щеками, не желая предаваться светлой, но все равно грусти. Да, они оба ушли из этого мира, один вовсе, а другая из мира суетного, оставив и Лизу и Кирилла одних. Может быть в этом и был великий замысел судьбы – в таком одиночестве легко найти друг друга, только какой ценой?
Лиза уворачивается легко из кажущихся уж точно прочными объятий, не мало не смущаясь того, что подол платья уже полностью облеплен песком, а сама она далека от представлений той богини, которую Васе хочется заключить в рамку и повесить на стену, дабы любоваться нарисованной и ничего не выражающей улыбкой. Нет, нет, не для этого она родилась на свет –она как и Саша, всегда была про жизнь и теперь в этой перехватывающей дыхание гонке, в которой не сможет проиграть на самом деле потому что при любом раскладе в итоге она окажется в его руках, потому что оказывается именно в них ж и з н ь, Лиза ощущает как сердце снова бьется по-настоящему, она ощущает, как разгоняет оно кровь по венам, колотится не только потому, что так заведено природой, просто по инерции.
— А второй поцелуй нужно заслужить! – в полный голос кричит она, пока вокруг шумит морской прибой, а солнце ласково целует в макушку. Лиза всегда была хороша в подобных играх, беззастенчиво задирая подол, просто чтобы носиться было удобнее – не ее вина, что обрядили женщин в юбки и корсеты и сказали, что обязаны они теперь так ходить. И может на балах и в дворцовых парках это было удобно – с особенным тщанием подходила она к выбору того или иного наряда особенно сегодня, одевшись в цвета моря, хотя судя по настроению вновь нужно было переодеваться в мальчишку. Лиза заливается смехом, когда оказывается близко от него и уличив подходящий момент забирает треуголку себе, размахивая ею, ребячится, словно вернулась в детство и недолго думая нахлобучивает ее на собственную голову, поглядывая из-под нее с выражением бесконечного лукавства в глазах.
— Ну что, идет мне, али нет? — подмигивает, делаясь серьезно-строгой в один миг, очевидно собираясь изображать его, раздуваясь и на всякий случай выпячивая подбородок чтобы казаться выше. — «Я люблю только Отечество, а такой девицы которая могла бы меня привлечь не существует!», — сурово изрекает Лиза, лукаво поглядывая на него, проверяя насколько спектакль этот работает, а после недолго подумав выдаст еще одну фразу, складывая руки на груди и старательно хмуря брови. — «Я офицер и поэтому мне не до всяких глупостей – поэтому даже когда хочу взять вас за руку или останусь с вами один на один в запертой комнате ничего делать не стану! Но я хулиган! Я благородный хулиган!», — продолжает ерничать, смеется сама над собой – слишком уж непривычно быть такой важной. Определенно, Кирилл Андреевич, может быть и стоит вам задуматься над тем – нужна ли вам такая любовь, в которой серьезность всегда будет мешаться с этой искрометной шутливостью, до невыносимости иногда.
Лиза после такого выступления делает поскорее ноги, но они ее подводят, а точнее виноваты во всем конечно же треуголка и платье – одна таки налезла на глазах, потому что совсем не по размеру, а второе движения сковывает, поэтому попадается в итоге в объятия из которых сколько не вырывайся шутливо, сколько не пытайся отвлечь глупыми: «О, птица синяя пролетела!», не вырваться – снова поймал, всегда ловил. Лиза улыбается, лишь притворно расстраиваясь по этому поводу, надевает треуголку на голову его законного владельца, все еще находясь при этом в цепком кольце рук.
— Я поддавалась и у вас было преимущество, — предупреждает на всякий случай, до конца не желая признавать своего поражения – ровно как и Саша когда-то. Что же, по крайней мере они определенно родственники. Дыхание прерывистое, поэтому прежде чем говорить снова, приходится отдышаться. Сердце колотится так быстро, что кажется вот-вот из груди выпрыгнет. Надо же, как оказывается засиделась во дворце – едва ли мхом не заросла. — вы не были в платье, сударь! — она улыбается, целует «сударя» так удачно ухватившего ее после всех этих проказ в кольца рук в кончик носа, замечает подозрительную искру, в глазах мелькнувшую, но заметит слишком поздно, чтобы успеть снова сбежать. Вместо этого Лиза хорохорится снова, упорно не давая себя поцеловать и важно замечает. — «А еще я признаюсь в любви, но что делать дальше вам не скажу ни за что – ускачу на войну от вас!», — выступление это театральное так и продолжилось бы, если бы не было в итоге остановлено совершенно варварским способом.
Лиза и сама не понимает толком, как оказывается на чужих руках – вот еще стояла обеими ногами на земле, а теперь уже поднята над ней, снова маленькая, снова легкая. Она засмеется снова, но вновь притворно и для порядка посопротивляется – ударит пару раз кулачком по крепким, всегда таким надежным плечам, царственно требуя:
— И что это вы удумали? Немедленно отпустите, я сочту это за нападение на свою особу! Нельзя таким обидчивым быть! – но никуда ее конечно же не опускают и не особенно то она рвется теперь не землю. Перед глазами кружится небесный свод – нежно-голубой, переходящий в темно-синюю водную гладь. Она выглядывает из-за его плеча, наблюдая, как могучая водная громада становится все ближе к ним и захохочет громче, слегка испуганнее впрочем, как только ленивая волна оближет мыски чужих сапог, оказавшись так близко от нее самой. Соленый запах еще сильнее ударит в ноздри. — Неужели мое выступление было так ужасно, что вы решились меня утопить? — уточняет со смехом, крепко, впрочем, удерживаясь руками за шею, заглядывая в это улыбающееся, прекрасное лицо. Нет, разумеется он никогда ее не утопит – вероятнее исход с тем, что утопится скорее сам и она это знает, разглядывая это лицо пару секунд, а в зеленых глазах заплещется нежность, которую не сдержишь ровно как и морскую стихию.
Они кружатся в этой воде, кружатся, а она расставляет руки, расправляет, подставляя лицо и морским холодным брызгам, и солнцу и ветру. Лиза всегда любила птиц и сама была птицей, ощутившей теперь долгожданную свободу от тех цепей, на которые ее успели посадить, заставить забыть на какое-то время о том, что такое синее небо и вообще какого цвета она бывает. Но он вернулся, выжил и она вспомнила. Вспомнила – что птица, вспомнила о том, что крыльями награждена. А ее крылья теперь – это его руки. «Мне не летать без тебя. Без тебя – это все одно, что с подрезанными крыльями. С подрезанными птицы конечно живут, я знаю. Да только разве это жизнь для птицы, которая знала, что такое счастье полета?».
Лиза в итоге повелительно выскальзывает сама, передергиваясь в первую секунду всем телом с непривычки: холодная вода обволакивает ноги, утопающие в ней по щиколотки. Но не страшно – это все равно жизнь, это все равно живые ощущения, поэтому легко привыкает, недолго думая зачерпывая рукой искрящуюся под солнцем воду, брызгается слегка, смеется, но как только прилетает в ответ, разыгрывается всерьез, с деланным возмущением замечая:
— Ах так? Как не стыдно! Вы точно, совершенно точно хулиган! – совершенно не факт, что он вообще помнит, что говорил в тот день, но она все равно напоминает, поднимая рукой уже целый фонтан брызг, не смущаясь того, что вымокнут. Капли влаги застревают в рыжих волосах и на его [между прочим новый] мундир. — А вот получайте, получайте в таком случае! — все еще отказывается звать по имени, от этого видимо и он продолжает в некоторой степени упорствовать. Выходит забавная игра двух упрямцев – одна играется, нарочно по имени не зовет теперь, словно в отместку за всю ту же ночь, а он очевидно добьется, чтобы назвала. Вот и брызгаются, как совершеннейшие дети. Ребенок главный конечно же Лиза, но трудно устоять и не ответить, когда окатывают тебя волнами морской воды, оседающей пленкой на коже, с ног что называется и до самой головы.
Туча брызг поднимается в воздух, ее смех рассыпается, растворяется в этом весеннем, согретым солнцем дне. Где-то послышится не дать не взять ироничное ржание Плутона – очевидно черный красавец, который стоял на берегу, преспокойно прогуливаясь туда-сюда по песку, слишком умный, чтобы убегать от хозяина своего нового, потешался над неразумными двуногими существами, которые полезли в холодное море по весне. Глупые двуногие создания же хохотать продолжают, дурачась словно малые дети, но в какой-то момент ее смех потихоньку стихает, она выпрямляется, стоя по колени в воде – платье голубой волной, все одно что у русалки развивается позади. Выдыхает, вытирая влажной рукой влагу с лица, смотрит на него, щурясь – солнце сияет прямо за его спиной. Прикрывает глаза ладонью в итоге, улыбается все еще, но на этот раз в глазах застынет серьезное выражение, которое успела приобрести за это время. За время, пока его не было.
— Кирюша… — обращается, покачнувшись при очередной волне, напускаемой морем. —…я тебя люблю.
Вдруг, но так просто, открыто, произнося вслух, пожимая легко плечами и глядя на него безотрывно. Ветер треплет за волосы, она подставляет ладонь ко лбу, выдыхая, словно сама не может в это поверить. В то, что можно так легко в этом признаться вслух – признаться не в письме, не сказав неразборчивым страстным шепотом в пылу сладостного бреда ночи, а просто вот так – стоя в воде по щиколотки, будучи мокрой, растрепанной, нелепой.
И она повторяет это на всякий случай громче, набирая в легкие побольше воздуха, словно он мог не расслышать за шумом моря и в первый раз.
— Я люблю тебя! – и вправду выходит громко, выходит перекричать шум море и чаек. Она смотрит на него, тряхнет головой, все еще улыбаясь, то ли смущенно, то ли невинно, то ли просто все еще не отойдя от веселья, которое здесь имело место быть.
— Я люблю теб.. — но закончить не успеет, потому что оборвется последняя фраза, которую он разумеется расслышал в новом поцелуе, от которого уже никто не станет уворачиваться. Поцелуй этот имел привкус соли, она прижимает ладонь к щеке, а после заводит их ему за шею, чувствуя пальцами мягкие его волосы.
Это был поцелуй, который мог сравнять горы с землей и стряхнуть все звезды с неба. Это был поцелуй, от которого ангелы теряли сознание, а демоны плакали. Страстный, требовательный, пробирающий до души поцелуй, который практически сбил Землю с ее оси.
Отрываются, наконец, друг от друга, а в глазах ее плещется море – зеленовато-голубое, вперемешку с любовью. Прижимается ко лбу, оставляя последний целомудренный поцелуй на лбу и, отбрасывая мокрую прядь с него с прежним задорным выражением заявит:
— А теперь предлагаю выбираться. Не хочу чтобы в первый день возвращения вашего вы изволили заболеть, — опережая возможные возражения продолжает. — За меня не беспокойтесь – я никогда не болею.
***
Потрескивает мягкое пламя разведенного костра – где-то на найденной коряге, прибитой к берегу станут сушиться несчастно пострадавшие вещи. Плутон пасется рядом, выискивая у травы неподалеку от той части, где начиналась галька да песок что-нибудь съестное. Лиза перебирает его волосы, бессовестно кудрявые теперь, пока влага не испарилась полностью – голова покоится на ее коленях, а она просто ласково поглаживает его по голове, останавливается прохладными ладонями на линии скул, прочерчивает пальцами дуги идеальных бровей [даже несправедливо выходит, что достались такие брови мужчине!], любуется, наклоняя голову и глядя на него сверху-вниз. Ему действительно идет просто белая рубашка, оставшаяся более или менее сухой после ее неожиданных водных забав. Лиза поджимает пальцы на босых ногах теперь – собственная обувь тоже безнадежно, кажется испорчена, но это ничего – во дворце еще множество пар одна другой лучше. Сама она осталась в нижних юбках, пострадавших также как и его рубашка наименее всего. Сердце щемит, разрывает – почему только нельзя остановить время, остановить этот день, упросить его никогда не заканчиваться, ровно как и ночь? А если больше так хорошо уже не будет? Что тогда?
— А знаешь, мне кажется, мы уже в таком положении находились, — замечает неожиданно, прерывая это уютное молчание, которое у них установилась, хохотнет в кулак, очевидно вспоминая что-то забавное. Уголки губ взметнутся в улыбке. — но возможно ты не помнишь. Ты ведь был…хулиган.
Саша сидит за своим письменным столом, необычайно серьезный и не соизволивший даже головы поднять, когда она вошла – очевидно слишком увлеченный государственными делами, чтобы по крайней мере ее поприветствовать. Лиза не разговаривала с ним толком с тех самых пор как старший брат сыграл с ней в нравоучительную игру, прислал ко всему прочему за ней Кирилла и наверняка считал себя истиной в последней инстанции. Какая-то часть ее понимала всю справедливость и необходимость такого его решения, но упрямый и оскорбленный ребенок внутри так думать не желал и объявлял молчаливый протест. Протест этот, казалось, замечен не был, что раздражало еще сильнее – Саша будто и не боялся того, что они и вовсе могут больше не разговаривать. Так и хочется подойти и сказать: «Ну и оставайся со своей империей павлин зазнавшийся!», но такие обзывательства скорее возымеют эффект обратный – он рассмеется и спросит сколько ей теперь лет исполнилось. Впрочем, она давно уже не видела на его лице той широкой улыбки, которая обычно отличала его: теперь на его лице застыло это выражение вечной озабоченности, застыла эта морщина между бровей, говорившая о крайнем сосредоточении. Наташа едва ли видела молодого императора чаще, чем Лиза, а ведь она никаких протестов ему не устраивала. Вот и сейчас – сидит в своем кабинете поздним вечером, обложившись бумагами и картами, вместо того, чтобы идти спать [или же заниматься более приятным вещами].
Зачем он ее так поздно позвал к себе – оставалось загадкой, но сообщать он ей это не торопился, да и вообще казалось, что он не забыл, что она здесь. Лиза скучающе станет разглядывать деревянные панели, огромный глобус в углу, чертежи каких-то строений и в конце концов кусок какого-то донесения с Черноморского побережья, где говорилось о казни русских купцов в Крыму местным ханом.
— А как же мирный договор? – забывая на секунду о том, что не разговаривала с ним все это время и вроде бы не собиралась, прожигая его макушку взглядом пока он молчал. Надо признать – разговоров с братом Лизе не хватает особенно остро еще с тех пор, как красивая императорская корона увенчала его голову, а после событий с Кречетовым и вовсе это общение сошло на нет [правда сказать во многом по ее собственной инициативе]. В разговорах с Сашей раньше всегда можно было ничего не стесняться, он иногда оказывался весьма благодарным слушателем – не столько потому, что слушал тебя молча [о нет, это было бы слишком для него], сколько наоборот постоянно то спорил, то соглашался, то комментировал с живым интересом, всем своим видом показывая, что ему не все равно. К тому же ее брат редко лукавил в разговорах с близкими – это с иными придворными он превращался в изысканного столичного франта, отлично знающего искусство дипломатии. В искусстве слушать они были схожи с Кириллом… Мысли о Волконском теперь спокойствию вовсе не способствовали, перед глазами живо представал этот восторженный, искренний образ, который кажется признавался в любви.
Саша не отрывается от документов, но ей на секунду покажется, что уголок его губ дрогнет в улыбке, которая быстро скроется.
— Им давно на него все равно. Но этот случай особенный. У Османской империи теперь не столь много сил, чтобы с нами тягаться и провоцировать такой открытый конфликт. А значит…
—…их кто-то подстрекает… — заканчивает за него Лиза, опрокидывая пальцем фигурку лошади, стоящую рядом. Только теперь он, наконец, соизволит поднять на нее взгляд, рассматривая то ли с интересом, то ли с затаенной гордостью, но всего этого она предпочитает не замечать, вспоминая о том, что смертельно обижена. Ожидать того, что твой собственный брат не станет предупреждать тебя ни о чем, а просто решит жестоким примером показать как ты ошибаешься – она точно не могла. — Не хочешь со мной по крайней мере поздороваться?
— А что, мы разговариваем? – не дрогнув, даже не подумав секунду легко ответствует он, пожимая плечами. — Я думал – ты решила ненавидеть меня до конца жизни.
— Я тебя вовсе не… — прикусывает язык, понимая, что если закончит эту фразу так, как хотела, то придется признать, что в некоторой степени скучает, что простила, что не обижается на него так сильно, но так быстро сдаваться вовсе не намерена. Лиза нахмурится, холодно отвечая на испытующий взгляд брата. — Зачем ты позвал меня так поздно? Говори и я пойду.
Он хмыкает, возможно разочарованно, но кажется слишком занятым, чтобы тратить на Лизу и семейные разборки свое время. Откидывается на спинку стула, складывая руки перед собой.
— Пойдешь, пойдешь конечно. Зайди только сначала к моему ординарцу, который валяется теперь в гостевых покоях на первом этаже. Я думаю именно ты должна его навестить, пусть он и нужен мне здесь. Но, боюсь, какое-то время не увижу его из-за его состояния.
— Кирилл Андреевич? Навестить? Состояния? Он заболел? Его ранили? Ему плохо? – Лиза откликается мгновенно, забывается на секунду совершенно, заваливает брата бесчисленным количеством вопросов, быстро, слишком даже быстро. На них тот и ответить не успеет, посмотрев на нее с живым интересом и усмехаясь. Усмешка эта, конечно, все испортила. Словно мгновенно догадался он о том, о чем она предпочитала бы молчать во избежание вечных шуток, которые будут литься бесконечной рекой едва Саша узнает о том что… нет, вряд ли конечно Кирилл Андреевич сам бы растрепал Саше о том, что собирается признаться, она на признание все равно не отвечала, да и кажется не было оно запланированным. А значит, Саша узнать не должен. Но откуда тогда взялся этот бесконечно раздражающий взгляд, который словно уже все про них знает?
— О, думаю на завтра ему будет еще хуже – сужу по себе, — то, что братец не торопится переходить к сути вопроса раздражает еще сильнее. Саша кашлянет, очевидно замечая ее непримиримое желание развернуться и уйти и продолжает. — пьяный он. Ужасно пьяный. И не смотри на меня так! — усмехается. — По-твоему только я что ли по кабакам хожу – вот он тоже! Впрочем, я как узнал у меня тоже было лицо подобное твоему. Пьяный и побитый. Впрочем тем, другим, еще хуже было.
Лиза невольно удивленно и недоверчиво фыркнет, выгибая бровь и проверяя, не изволил ее братец так глупо теперь пошутить – мало ли, быть может став императором у всех пропадает чувство юмора? На всякий случай даже забирает со стола стакан, отпивает из него – нет, обычная вода. На пьяного Саша не похож, но в таком случае он, конечно же болен, потому что представить Волконского в кабаке это все одно, что представить… Христа где-нибудь под лавкой. От таких богомерзких мыслей захотелось перекреститься. На всякий случай Лиза мысленно произнесет: «Господи помилуй», прежде чем снова взглянуть в уже откровенно потешающиеся над ее неверием глаза Саши.
— Проверяешь не пьян ли я сам? Нет, Наталья Алексеевна строго следит за этим, так что теперь пью исключительно воду из горных источников, — хмыкает и добавляет тише. — или постели мне не видать. И никакого тебе веселья. Так что шутить я не склонен.
Едва ли теперь Лиза сможет удержать улыбку, но крепится как может, вместо этого сухо уточняя:
— Но причем здесь я? Почему мне туда идти следует?
В голове кружится тысяча вопросов на самом деле. Если это правда – то почему он подрался, да еще и напившись? Или нет – почему он вообще напился? За все то время, что они были знакомы ни разу она не видела его пьяным, хотя пьяных выпивох при дворе всегда было в достатке, как и хорошего вина. А тут кабак, драка и пьянство, да еще и так скоро после того как… Мысли разлетаются, брови сводятся к переносице от того, как сосредоточенно она размышляет над причинами такого его поведения, а Саша знай наслаждайся.
Брат устраивается на стуле кажется удивительно удобным образом, с интересом наблюдая за ее реакцией и словно бы зная то, чего еще не знает и о чем еще она сама не догадывается. Качнет головой, пожмет плечами, а после просто заявит без всяких обиняков:
— А потому что я так хочу и я так сказал. Станешь упираться?
Лиза поджимает губы, присаживается в реверансе и отвечает недовольно-коротко:
— Нет.
***
Когда она направлялась в гостевые покои, где теперь очевидно обретался поручик, Лиза попросту намеревалась справиться о его здоровье и поскорее уйти – слишком уж свежи казались воспоминания их недавнего расставания и она почти наверняка была уверена, что увидев его теперь в высшей степени ей будет неловко. Но, как только открывается ей вид на него – непривычно помятого, все еще кажется пьяно улыбающегося и самое главное совершенно побитого, то вся решимость сказать: «Я желаю вам всего наилучшего» и уйти восвояси пропадает. Вместо этого она воскликнет, отпугивая присматривающую за пьяным подпоручиком старенькую сиделку, заставив выскользнуть из рук вязание, которым она и занималась:
— Боже, Кирилл Андреевич – как же так?
Не «как вы могли» или «кто посмел это сделать» - хотя последнее надо сказать и вертелось на языке. Смотреть на его побитое лицо почти невыносимо, как и желание наказать тех, кто затеял возможную драку, в которой он, в чем она не сомневается ни на секунду – не виноват совершенно. Хоть пьяный, хоть трезвый – Кирилл Андреевич оставался бы собой и в этом она не сомневается, а значит вряд ли просто так бы полез на кого-то с кулаками. Очевидно – дело в поруганной кем-то чести. Но все равно, ну неужели мужчины не могут защищать оной без принесения в жертву собственного здоровья?
— Принесите мне чистой воды, тряпицу, настой ромашки бы еще. И поживее – он же не собака на которой все просто так заживает! – распоряжается тихо, но теперь видно все равно его будит.
Лиза усаживается рядом, зашелестит платье, скрипнет не самая новая кровать на свете, а она озабоченно разглядывает его лицо, не надеясь, впрочем на получение каких-то внятных ответов на свои вопросы – уж больно чувствуется еще запах сивухи и вряд ли исходит он от безобидной старушки. Хочется и пожалеть его, обругать тех, кто ввязывается в драку и избивает иных, пожурить, в конце концов расспросить подробнее. И от неловкости, которой она ожидала никакого следа не остается – в глазах только беспокойство плещется, да тысяча вопросов, которые вот-вот, казалось, и задаст, но неожиданно, в один миг, все они вылетают из ее головы вместе с его головой, столь ловко и быстро оказавшейся на ее коленях, парализовав буквально сразу же.
Он в таком положении неожиданно напоминает кота, пришедшего на колени погреться, тем более с этой блаженной улыбочкой перепившего человека. Странное дело: обычно пьяные люди кроме отвращения и не вызывают ничего, но этот умудряется даже не трезвым оказываться удивительно милым. Вот уж точно – чудо. Лиза разглядывает его довольное лицо сверху-вниз, застывая на одном месте пораженная этим самым действием и не знающая что ей делать. Вообще-то, следовало бы прогнать, по крайней мере аккуратно встать и такого больше не позволять, а то мало ли что может дальше случиться, но она почему-то сидит на месте, завороженно разглядывая этого нового Кирилла, не скрывая умиляющейся всей этой сцене улыбки. Что-то подсказывает ей, что ничего он более не сделает – даже теперь.
Он похож на ребенка, нелепого и смешного, грозящего пальцем неведомым врагам, в его бормотании сложно уловить смысл непосвященному, но Лиза улавливает – это ведь она всегда считала его идеалом. И почему-то, хотя бы от того что даже теперь так безобразно побитый Волконский помнит о том, что она ему когда-то говорила, заставляет сердце предательски дрогнуть.
— Плохие люди не считают количество разбитых бутылок, — тихо возражает она, продолжая оставаться в своем неподвижном положении. Рука предательски дернется, в немом желании дотронуться до этого избитого кем-то лица [страшно подумать, как не повезло тем, другим], словно это хоть как-то может боль облегчить. Дотронуться до спутанных безбожно волос, чтобы хотя бы попытаться привести их в надлежащий вид, но нет… это только сильнее все для нее запутает. И все же сердце теплеет от какого-то странного чувства нежности к этому всегда серьезному человеку, который теперь с блаженной улыбкой называет себя хулиганом, словно это нечто хорошее. Словно это поможет ей чувствовать себя лучше в своей собственной неидеальности. Словно ее состояние сейчас имеет значение. «Нет, Кирилл Андреевич – вы все равно идеальный человек, даже теперь, лежа здесь в таком состоянии. Я верю, что есть ему причина вот и все». Вслух она произносит только разве что: — Ну хорошо, хорошо, — улыбается ему, не выдерживая. — вы самый страшный хулиган из всех, кого я знаю! — «пусть только вы из всех известных мне людей считаете хулиганством выпивку и порчу бутылок в трактире – для других это лишь забава и невинная, а для некоторых вообще святое дело и показатель мужественности». Сердце замирает вновь, как только рука потянется к ее лицу, она вновь замирает статуей, позволяя этой руке осторожно коснуться свисающих все так же игриво медных прядей. Что же делаете вы с моим сердцем, Кирилл Андреевич? И куда же вы постоянно меня отправляете? Куда же я должна от вас уехать?
Лиза невольно вздрагивает, как только открывается дверь и едва ли не отодвигается подальше – словно их могли теперь застать за чем-то предрассудительным, но удерживается. Не случилось ровным счетом ничего такого – просто он пьян и просто он возможно влюблен в нее. Всего лишь то.
Принимает из рук горничных таз с березовой водой, осторожно смачивая в нем чистую белую ветошь. Кое что в лекарском деле она понимала, правда не столь и много – сама в детстве слишком часто разбивала себе коленки, да локти, играя наравне со старшим братом. Смотреть же на лицо Волконского все еще больно. Больно смотреть на эту припухшую губу, на разбитую бровь, на фингал под глазом… ему такой вид не идет, а все, что она может – делать компрессы, да накладывать мазь.
Едва она успевает пару раз протереть лицо, отчего-то чувствуя ответственность за его состояние, как он вскакивает очевидно слегка протрезвев и от того плохо соображая где он толком находится. Ну и хорошо – теперь ведь будет проще, теперь ведь станет как раньше?...
— Никуда вам не надо, — со всей строгостью заявляет она, скрывая в зеленых глазах смех. — я вами сегодня займусь, в таком виде вы только собак распугаете. Так что лежите смирно – из меня не слишком хороший лекарь, но раз уж я здесь выбора у вас нет, — властно, не терпящим пререканий голосом заявляет, прежде чем продолжить колдовать не иначе над его лицом. И это вроде бы и не должно вызывать смущения так, обычная процедура, к тому же для него мало приятная, но вызывает, вот и остается только хмуриться и пытаться сосредоточиться на работе – мягко, осторожно скользить пальцами по этому избитому лицу, продолжая накладывать мази и наложив компресс прямиком под глаз. — Только повязку не трогайте – смотрите мне, я ведь завтра проверю зайду! – грозится она, прежде чем осторожно коснуться краешков чужих губ и пытаться не думать теперь ни о признаниях, ни о том сколь странно интимен этот момент. Ее спасает лишь то, что его размаривает сон и манипуляции нужно прекратить, дав какие-то указания сиделке и горничным.
Поделиться82024-05-20 20:57:24
Лиза уже уходить соберется, когда услышит бессвязную будто и не слишком понятную фразу на немецком. Но отчего-то покажется, что фраза эта о любви.
***
—… «просто я хулиган», — Лиза смеется тихонько, пересказывая ему теперь ту часть той ночи, о которой он скорее всего и думать забыл во всех подробностях. Пальцы продолжают то ласково приглаживать, то путаться в волосах, то и вовсе их ерошить. Она бережно очищает его голову от случайных песчинок, прежде чем закончить. — А я тогда ведь не могла так делать, а теперь могу делать что хочу, — дотрагивается до губ, прочерчивает линию скул и челюсти порхающими движениями пальцев, проводит по теперь уже не нахмуренным бровям, а после наклоняется и легко целует в лоб. Выпрямляется с видом победителя, переплетая его пальцы рук со своими. — И так тоже могу. И кстати, ты обязан теперь объяснить мне, куда ты постоянно меня отправлял. «Не уезжайте, Елизавета Петровна!». Я ведь никуда не собирался, а ты смотрел так, словно вот-вот и исчезну! Мне все интересно когда ты умудрился так в меня влюбиться – было время я думала, что это вообще невозможно. Не жалеешь еще?
Она все еще тихо смеется, сжимая руки чуть крепче, переводя взгляд на горизонт, где потихоньку клонится к закату уставшее солнце. Постепенно смех стихает, а они лежат в этом уютном молчании под звуки потрескивающих веток и шума волн неподалеку. На лице задерживается странная задумчивость, мешающаяся с задумчивостью.
— Знаешь, Кирюша – я ведь и не хотела тогда идти, я бы и не узнала – Саша заставил. Мне кажется он все знал. Даже когда я не понимала… Все знал…
Горизонт потихоньку расплывается и она не сразу даже понимает, что расплывается он не из-за какой-то солнечной иллюзии или пламени костра, а потому, что из глаз текут слезы. Совсем неожиданно они появляются, стекают по щекам, собираются на подбородке и летят вниз, разбиваясь уже на его лице. Лиза предательски вытирает их ладонью, но непрошенная влага не торопится исчезать с лица. Такое, видимо заставит подняться с ее колен – слишком уж резкая смена настроения.
И ведь все теперь хорошо, все прекрасно теперь, тьма она отступила, конечно, но есть вещи, которые не изменятся как бы хорошо ни было.
— Глупая я – так много времени прошло, — она пытается улыбнуться снова, но выходит как-то тускло и кажется фальшиво. Слезы остановить, впрочем, не выходит – так странно, она при нем и не плакала никогда даже когда Саша умер. Не плакала, потому что рядом не было, не плакала потому что заморозилась, окостенела, а после было не до ее слез. — Знаешь, Кирилл, я тогда, зимой, наверное и не поняла до конца, что его нет. Казалось, что это просто сон. А теперь поняла – не вернется больше. Он умер, Наташа в монастыре, матушка далеко в забвении, отца тоже больше нет. Только ты остался… — переводит взгляд на его лицо, неожиданно крепко обвивает тонкими руками шею, прижимается крепко-крепко, прежде чем продолжить. —…поэтому ты должен непременно жить. Любой ценой, потому что я больше не могу терять, Кирюша, я не хочу больше, не хочу… — слезы вновь брызнут из глаз, пока она прижимается к нему, к нему, который наконец-то оказывается рядом, который наконец-то обнимает просто потому что может, несмотря ни на что. И ты не одна.
Она постепенно успокаивается, затихает в надежных и ласковых руках, приходит в себя понемногу. Солнце начнет целовать кромку воды, когда придет время прощаться. Она отряхивает платье от песка, первой на этот раз вырываясь из объятий [не все же вам издеваться, в конце концов со своими уходами!...], легкой пташкой.
— Пора идти – император скоро вернется из Академии Художеств, а еще чего недоброго заметит, что меня нет, — заставляет все же к себе прислушаться, как бы сложно не было расставаться. — Поэтому ты Кирюша нарочно меня не ищи – я сама дам о себе знать, он ведь наверняка знает, что ты вернулся. И не только он…
Борис Федорович знает тоже. А в последнее время превратился он в совсем иного человека.
— … поэтому просто жди. Считайте это приказом, Кирилл Андреевич. Если я еще правда Ваша цесаревна. Сама тебя найду.
И как бы тяжело не было отворачивается с деланной беспечностью поспешно уходит к оставленной рядом Серебрянке.
_________________⸙♦⸙__________________
Пробегая мимо достаточно быстро в невысоком по сравнению с прочими безусом офицере можно было не заметить ничего странного – так, видимо просто богатый заносчивый мальчишка, которому так повезло оказаться в гвардии по протекции известных родителей. Наверное только-только попал сюда, выкрикнув звонко на плацу: «А меня, дозвольте, в Преображенский!» да так и взяли, потому что здесь у него брат \\ сват али еще какой дальний родственник, благодаря которому этому удивительно гибкому, стройному и не в меру изящному юноше дозволено было попасть в полк столь привилегированный. «Брат там у меня в третьей роте. Очень хвалит» - стоит сказать такому юнцу и вот уже новый пылкий гвардеец в типичной для полка изумрудно-зеленой форме, всегда выделяющей их из всех прочих – сразу видно что преображенец. Иной раз подходят к рыжему здоровому верзиле, который смущенно улыбаясь, говорит густым басом: «Желаю в гусары». Общее веселье. «Чего тебе там делать?» — говорит корпусный. — «Форма уж больно хороша!» — «Ты в гусарах всех лошадей поломаешь! А форму я тебе дам не хуже». И на груди верзилы рисуется подчеркнутая тройка. «Кирасирский» — орет преображенец, и любитель красивых форм попадает среди высоких людей в касках и палашах. Несмотря на то, что все новобранцы знают, что в кавалерии служить труднее, а главное, дольше, чем в пехоте, есть такие, которые не могут устоять перед блеском формы и просятся в конницу. Послать в деревню свой портрет в бобровой шапке с султаном, в красной венгерке, в белом ментике, и с саблей — слишком большое искушение. Наивные молодые люди еще не знают, что можно иметь отличный портрет на коне и за все время службы ни разу не подходить к лошади. В районе расположения всех пехотных полков имеются отличные фотографии, где снимается только голова, а все остальное уже готово. Сидит Лейб-Егерь в своей собственной форме в мундире с лацканом и в кивере. Все это в красках. Лицо розовое, мундир черный, лацкан зеленый и т. д. В правой руке он держит обнаженный пехотный тесак, выкрашенный в серебряную краску. А под егерем конь, масть по выбору. У коня все четыре ноги на воздухе, серебряные подковы и в каждой подкове золотые гвоздики. На паспарту золотой вязью написано: «В память моей военной службы». Такое изображение стоит полтора целковых. Даром, что лошадей вышеназванный и так боялся.
Впрочем, юноша этот на этакого хитреца похож на был с идеально-чистым, фарфорово-белым лицом, но явно прыгучий и легкий – такие скачут на лошадях запросто.
Но если все же задержишься или замедлишь на некоторое время шаг, чтобы рассмотреть этого чудного офицера в форме гвардейской, то нет-нет, но заметишь в нем нечто подозрительное. Если поспешишь далее, поспешишь на занятия на плацу, в караульню или просто к приезжим в Петербург актеркам али просвещаться на какое-нибудь странное театральное представление, где говорят все на каком-нибудь бусурманском, то странный паренек этот вылетит у тебя из головы, а странное чувство, которое наверняка появилось, когда заглядываешь в выразительные его глаза, улетучится за повседневными заботами, да волнениями простого русского офицера: мало ли в гвардии в конце концов безусых таких юношей! Начнется бриться в свое время в конце концов. Но если все же не торопиться, то пожалуй и поймешь что не так – уж слишком тонок, слишком изящен, а пухлый рот растянут в столь лукавой и в то же время счастливой улыбке, что волей-неволей заподозришь его в какой-нибудь проказе, которая доставляет ему явное удовольствие. Он покажется до странности миловидным, почти как б а р ы ш н я, несмотря и на идеально сидящую на его не в пример хрупкой фигуре, на которой не успели появиться мышцы [ну да суровая подготовка должна это исправить в один миг], форму, которая удивительным образом шла ему. И не смотря на все бравое поведение его, лукавый блеск в по-весеннему зеленых глазах, которые становились еще более насыщенными из-за все той же формы, все равно было бы в нем что-то настолько бесконечно странное, что несведущий цокнул бы языком и пристал с расспросами. Ну а тот из гвардейцев, что имел честь с этим офицером быть знакомым, пожалуй, упал бы ниц. Ведь за офицера в форме Преображенского полка выступала теперь сама Лиза, находившее все свое предприятие в высшей степени занятием отличным и идеей прекрасной.
Осложнялось все ее предприятие разве что тем, что здесь, в казармах полка знали ее как раз даже через чур хорошо, ее «милые братцы» уже и привыкли к красивому лицу царь-девицы, во всю сначала шнырявшую позади своего великого отца, после и с братом и даже теперь, когда над Россией да и над полками любимыми в частности, начали нависать тяжелые тучи, о братцах не забывающая – она приходила к ним в госпиталь, писала письма за тех, кого подводили руки, а для того, кого подводили глаза читала письма родных. Она бы удивительно непосредственна, скрывающая собственную боль за веселыми улыбками отлично понимая, что раненым ее душевные терзания ни к чему – они и без того настрадались. Им тогда была нужнее веселая царевна-красавица так или иначе поднимающая дух. Да и после всегда находились какие-нибудь дела – здесь с официальными визитами она была желанным гостем и уже порядком известным [кажется была она куда более гостем частым, чем сам император]. Поэтому, даже в таком виде, которые если б кто узнал ее вызвал бы столько же восторга, сколько вопросов – чего это цесаревна выряжаться решила, сложно ей было оставаться незамеченной. Для этого пришлось затеряться, пришлось пару раз пристать замыкающим к ровному строю, бредущим очевидно на стрельбище, а теперь и вовсе запрятавшись в рапирном зале, где обычно полным полно народа, но теперь время выходит уже вечерним, а следовательно все разбрелись на отдых или на какие увеселения.
Тренировочная шпага ужасно тяжелая даже несмотря на то, что всего лишь тренировочная. Когда она только училась и Саша категорично тогда заявил, что никто не станет учить ее этому ремеслу, пока не научится она шпаги держать в руках, появилась у нее шпага специальная с облегченной рукоятью. Она теперь разумеется ни в какое сравнение не шла с этой, но основные фигуры Лиза знала не хуже, нежели какой новобранец, а может даже и лучше, пусть и выглядела возможно несколько неуклюже. Форма сидит хорошо – сшитая специально для нее. И в последний раз с ее маскарада ничего хорошего не вышло, но теперь она в успехе была уверена – только бы никто лишний не узнал! Ведь так или иначе теперь каждый поход в гвардию значил бы поход к н е м у и Василий Борисович понимал это отлично.
Делает легкий выпад шпагой вперед, прежде чем остановиться, салютую ею же очередному портрету императора, висящему здесь же – подумать только сколько здесь портретов ее семьи, но везде одни мужчины. Наверное, нахождение в зале женщины со шпагой порядком их расстраивало или же оскорбляло – по их безразличным лицам разве поймешь?
Лиза не видела его больше недели – столь пристально ощущала она бесконечно сквозящее недоверие, которое выказывал ей император. Он отлично теперь знал, что сделать что-то с Кириллом все сложнее, вот и отыгрывался на ней, впрочем без лишнего теперь напора – очевидно свежи еще были воспоминания о неудаче и холодном острие ножа. Чего недоброго теперь станет принимать ее исключительно в присутствии своих собственных телохранителей. Что же – она тоже без своих мальчиков редко когда его посещала, установив таким образом холодное перемирие. Тем не менее все также часто [преувеличенно часто] теперь посещал он вместе с ней то Академию, то очередное важное мероприятие с участием французского посла, маскарады, частные театральные спектакли во дворце, которым он сделался огромным любителем. У Лизы, для которой в прошлый раз и несколько часов то, кажется было слишком много, у которой сердце так и рвалось туда, где сияли его красивые серые глаза, даже не было возможности написать ему не опасаясь, что кто-нибудь перехватит и прочитает, поэтому и приходилось терпеливо ждать, пока не подвернется подходящий случай. Теперь он и подвернулся самым неожиданным образом – император изволил отбыть на одну из своих бесконечных охот с двором, под Москву. А Лиза сказалась исключительно больной и так как смерти их новый император боялся ужасно, то оставил ее в спальне на попечение Марфы и ближайших фрейлин, поэтому теперь могла она наслаждаться целыми несколькими днями той свободы, которая была ей отмерена. И использовать она их решила немедленно.
Разумеется, от Марфы пришлось выслушать тысячу причитаний по поводу того, что она переодевается в мужской костюм, а там ведь одни «распутники, уж я-то офицеров знаю этих, Ваше Высочество!». Разумеется, пришлось уверять своих пажей в том, что места безопаснее гвардии нет и быть не может. Но это стоило того – теперь она размахивала изящными движениями шпагой, сражаясь с выдуманным соперником [лицо у него, впрочем, отчетливо напоминало Васино], в льнущей к ее ладной фигуре форме и, очевидно раздумывала над тем, где должно искать Кирилла. Не мог ли отправиться он куда-нибудь в город, к тем же самым актеркам на квартиры? Лиза представила его в образе других девиц, фыркнула недовольно и отбросила эту мысль куда подальше – быть такого не может, что за ее отсутствием он пойдет к кому другому. Кто угодно мог так поступить – а он не мог.
Слышит чужие шаги, с легкой поспешностью скользнет за тонкую штору около арочного окна зала, совершенно все еще не желая быть пойманной кем-либо. А выглядывая из-за нее едва-едва, увидит словно по волшебству какому знакомую и теперь такую любимую высокую фигуру – ее она узнает даже за сенью неплотной занавеси, узнает по плечам, по этой походке в конце концов. Что делает он тут в такой час черт знает – поставлен ли обучать совсем еще новичков, или просто не находит себе места?
Улыбка на собственной лице становится шире, когда она со всякой прочей осторожностью выбирается из-за занавески, на цыпочках подбирается к нему сзади [что сделать в ее нынешнем наряде куда сложнее], закрывая ему ладонями глаза в тот самый момент, когда грозился он повернуться и все чего недоброго испортить. Не дает убрать с рук глаза и повернуться, хотя отлично понимает, что он, пожалуй только по одним ее ладоням догадывается о том, что это, наконец-то она и она, как и обещала сама его нашла. Лизе приходится в таком положении задержаться, поднимаясь на носочки – уж больно высок.
— Угадаете – кто я и отпущу… — довольным негромким голосом требует, как когда-то требовала от Саши ужасно своей выдумкой довольная. Так странно – с ним ведь и правда превращается в пакостливого ребенка. Наверное, из-за того, что с ним ужасно легко. — Одежда мужская, ружье в руках, но не охотник, — дыхание опаляет чужую шею. — платье в розах, но сама не цветок. И дам подсказку – любит вас больше жизни. Ну и кто я? — Лиза тихонько смеется, прежде чем позволить ему все же повернуться к себе и с торжественным видом покрутиться перед ним в своем костюме, мгновенно увлекаемая в радостный, счастливый этот поцелуй. Один из тех, за которыми кажется, что вы не виделись вовсе не неделю с небольшим, а еще как минимум год.
Лиза рассыпается в хрустальном чистом смехе, вырвется все же из объятий этих, прокружится вокруг себя, словно забывая в том, что платья на ней и нет.
— Ну, как вам мой мундир, а капитан? Вы же писали в письме, что хотели бы на это посмотреть – вот и любуйтесь теперь! Императору вот не понравилось в свое время, — вздернет подбородок с гордым, насмешливым видом, изображая важность и суровость, с которой очевидно следует его носить, а после вновь бросится в эти его объятия, обхватывает лицо руками, покрывает его быстрыми, такими влюбленными поцелуями, что дыхание захватывает. Ей все еще словно мало той любви, которую получает, вот и не может толком ею насытиться. — Кирюша, как же я скучала! Мой любимый мальчик, — она зовет его так, как звала и в письме, только теперь можно и приставку «любимый» добавлять ко всему сказанному. Она и свое лицо и свои губы подставляет под поцелуи, очевидно надеясь, что никто кроме него в рапирный зал не надумает заглянуть и обнаружить, что капитан с кем-то целуется – не то с каким то мальчишкой, не то с девицей, а не то боже какой ужас – с их цесаревной [словно это хуже чем поцелуй с мужчиной]. — Я не могла, не могла вырваться раньше, даже написать не могла – он бы заметил непременно. А он, — умышленно не называет его по имени. — все никак уходить не хотел никуда, а тут уехал на охоту, а я больной притворилась, помнишь, как ты советовал в одном из писем? — она говорит быстро-быстро, словно боится, что не успеет объясниться, словно он мог подумать, что это она по своей воли пропала так надолго [по крайней мере кажется, что надолго]. — Вот я и придумала, что приду так, чтобы не узнал никто. Но ты ведь рад? Ты ведь не сердишься за меня за этот небольшой спектакль? — Лиза улыбается, заиграют ямочки на щеках, а она улыбается, прежде чем спрятать лицо на груди. Подумать только – она разве что Саше признавалась в том, что скучает по нему, а так никакому мужчине. Обычно – скучали по ней.
***
Внутри теплый запах сена окутывает, а где-то внизу мягко ржут лошади. Чердаки у конюшен с ужасно низкими потолками, заваленные уже сухим сеном и с маленькими окошками-бойницами. Нагретые за день весенним солнцем, к вечеру они были теплыми и от того безумно уютными казались. К тому же никто здесь не мог уж точно помешать нарочно. По крайней мере так казалось. Но как только удобно устраивается в стогу сена, смеясь, забавляясь, вновь нашедшие друг друга, послышится громкое: «Кирилл Андреевич, там помощь требуется. А вы ж там?». Того и гляди востренький, умный мальчишка потом расскажет, как это часто бывало: «Там на сеновале копошатся голые люди!». Еще бы только люди были голые, а тут еще даже не раздетые. Лиза прищуривается, прищуривается опасно, выгибая бровь и не собираясь выслушивать вероятное: «Это не займет много времени» или же: «А если что-то важное». В голове мгновенно возникает план, как можно было бы задержать невыносимо иногда правильного и честного ее любимого.
Поэтому она, приподнимаясь на локте с мягкой соломы, пожмет плечами, мол, ну иди – ничего страшного, подожду, никуда не денусь.
— Ты иди конечно, — сверкнет взгляд из-под опущенных ресниц, сверкнет тем самым неприкрытым почти кокетством, коварный зеленый взгляд, прежде чем она с мнимым равнодушием отвернется. — я может и подожду… — рука потянется к пуговицам [боже, как же удобны бывают не женские платья, несмотря на всю красоту последних] на рубашке, расстегнет первую, медленно, рассматривая его переменившееся лицо. Это жестоко конечно – ставить его перед таким выбором, но ничего поделать она с собой не могла. В конце концов она рисковала ужасно, выбираясь из дворца, а он в конце концов что удумал! Следит за его взглядом, а пальцы продолжают рубашку расстегивать, смотрит на него не мигая, а уголки губ насмешливо вздернутся вверх – она уже знает, чувствует, видит, что победила. Да и кто бы тут удержаться решил? — … а может и уйду, даже не знаю… — тянет она слова, а рубашка полу спадает с плеч, оголяя молочно-белую кожу.
Тут никто бы не выдержал и она хорошо это знает.
Она обхватывает его лицо руками, целует губы на этот раз требовательно, без шансов на возможный уход куда бы то ни было.
— Неужели ты подумал – что правда отпущу? – горячим шепотом по коже. — Никуда я тебя не теперь не отпущу, моим будешь, полностью моим, — тянет на себя, а оголенная спина чувствует нежные уколы сена под собой. — Они тебя каждый день видят, а я неделю не видела и черт знает когда еще увижу – так что сами сегодня справятся, а я вот не справлюсь.
Это словно спрыгнуть со скалы и ухнуть в воду. Сталкиваются губы. По животу пробегает дрожь. Сердце улетает в пятки и рикошетит в горло. И пусть между ними еще как минимум его одежда, но даже так обжигает. Ужасно, ужасно скучала. И кажется, будет всегда скучать. Его всегда будет недостаточно.
Поделиться92024-05-20 21:07:11
— А я говорю нет! Али командирское слово для тебя ничего не значит более? — ударяет кулаком по столу господин генерал-лейтенант Левашов. Его округлое полноватое лицо наливается багрянцем, что нисколько не взывает к стыду Волконского, вытянувшегося во весь высокий рост. Довести Левашова до бешенства не удавалось порою даже османцам. Волконский отличился и тем среди сослуживцев прославился. — Нет бумаги, нет! И чернил... — он потрясёт чернильницей над столом, — тоже нет! Чего ещё тебе надобно от меня? Душу мою хоть не изводи, раз бумагу всю извёл! — орёт генерал-лейтенант на весь кабинет уже безо всякого зазрения совести. Ежели его завести — не остановится. Терпи пока не остынет. До тех пор побег из кабинета возможным не представляется. Не надо было лезть. Тревожить Левашова нынче всё одно что тревожить спящего медведя. Да только, разве можно удержаться? Разве можно стерпеть, когда руки трясутся, а сердце неистово колотится? И причина тому вовсе не рана постепенно заживающая.
— Господин генерал-лейтенант, не верю. Быть такого не может, что ни единого листа не осталось. Дайте любой, хоть исписанный, хоть обрывок, но дайте! — упорствует Волконский, держась высокого, требовательного тона, лишь раззадоривающего куда более Левашова. Тот резко вскакивает со своего шатающегося стула и перекидывается через стол, опираясь ладонями о столешницу. Смотрит в глаза взглядом, готовым испепелить и тысячу, и десять тысяч неприятелей, а быть может, самого Волконского.
— Каков наглец, — шипит он, — депеши государю прикажешь на листах кленовых сочинять? А? — гаркает, ударяя ладонями по столу и от бессилия падает обратно на стул.
— Помилуйте, какие депеши? Война закончилась, пора всех по домам распускать! Отчего нас держат в этой дыре? — в сердцах и размахивая руками, зачинает Волконский второй акт представления. Лицо Левашова вспыхивает алым цветом с новой силой. Глаза его чёрные буквально впиваются в лицо, выражающее требование и откровенное непонимание. Кирилл взаправду не уразумеет, по каким причинам отвоевавших удерживают в самых разных углах юга. А впрочем, далеко не каждая война завершается немедленным празднованием победы со всеми, кто к тому причастен. Тем временем, генерал-лейтенант вскипает.
— Ты мне тут не указывай! Ишь ты, война у него закончилась! И без тебя знаю, что закончилась! Может, ещё страной управлять государя нашего научишь? Ишь разошёлся! В солдаты списать да отослать с глаз долой и не посмотрю, что герой! — расходится Левашов с новой силой, заставляя каждого, кто за дверью в коридоре притаился, и даже тех, кто в общих залах находится, вздрагивать да гадать, чем же столь сильный гнев вызван. Сдаётся Кириллу, дело вовсе не в его просьбе, которая медленно перетекла в упрямое требование. Левашов тоже домой хочет, письма от жены получает, а не пущают, изверги. Жена угрожает, мол к другому уйдёт. Кириллу задержка с ответом письменным тоже равна смерти. Он убеждён что умрёт, ежели не напишет ответ. А бумаги нет, хоть стреляйся. Точно умрёт. — Пошёл вон! — наконец-то генерал-лейтенант ставит точку в бесполезном пререкании, не оставляя Волконскому выбора. Он склоняет почтительно голову и молча выходит, натыкаясь на перепуганное лицо и вытаращенные глаза Краснощёкова. Щёки его точно красные, от сильного страху.
— Желаю удачи, мой друг, — произносит с небывалой мрачностью, опуская тяжёлую руку на худое плечо Краснощёкова. — А хотя, если ты за бумагой, лучше не стоит.
Среди остальных раненых, впрочем, не нашлось бумаги тоже. Разумеется, есть ли дело до бумаги человеку, который без руки иль ноги остался? Другой с простреленной головой, третий с дырой в животе, — не до бумаги и писем. Те, кто лёгкими ранениями отделался, подавно исписал всё, что можно было. Все тоскуют по дому. Всем есть кому писать, а ему особенно. Произошёл сей случай в богадельне близ крепости святой Анны, куда отошли войска, спешно перестроенной под лечебницу. Держать некоторых раненных в палатках в столь дурную погоду являлось смертоносной затеей. А посему, поместили их в тёплое помещение под крышу, где нашлись также кровати и предметы первой необходимости. Нищих довелось переселить и Бог знает куда. Порою они захаживают на обеды иль остаются ночевать на деревяных лавках. Мирный договор на самых невыгодных для Российской империи условиях был подписан. Однако же, дозимовать отвоевавшим доводится в белых стенах, дышащих холодом. Медленно истекает февраль, — дни его особенно тяжелы. Никаких новостей из внешнего мира, будто раненные переменились на заключённых. Ни шагу ступить за территорию лазарета не позволено. Меняется лишь выражение лица монахини, которая взялась за Кириллом присматривать. Рана вдоль рёбер заживает, затягивается. В отличие от некоторых он спешно поправляется и непременно вернётся домой. Монахиня, отрешённая от мирских сует, однажды подметила что кому-то воротиться вовсе не суждено. “А вы счастливый, и невеста ваша счастливая”, — добавила она своим мягким, несколько отрешённым, успокаивающим голосом, делая перевязку. И то правда, один Бог ведает как она поняла. Быть может, прочла в его бегающих беспокойно глазах, в нетерпеливых жестах. Он всем своим существом стремиться вырваться, точно дикий зверь, к заточению не привыкший. Начинается март, и Кирилл бьётся головой то об стену, то об окно, жалобно глядя на неспешно пробуждающийся мир. Первое, что примечает — подснежники показались из-под островков снежных. А после произошло чудо, на какое никто из них не смел надеяться.
— Да вот же они, вот. Герои! — раздаётся голос Левашова. В зале, заставленном низкими кроватями, появляется сам генерал-лейтенант и собственной персоной, фельдмаршал. Ощущение, словно месяц длился один-единственный акт на сцене жизни, а тут вдруг наступил следующий, пробуждая небывалый интерес. Кирилл отвлекается от книги, которые слава Богу, не перевелись. Стоило нацарапать послание на книжных страницах иль полях, — не додумался. Левашов, сделавшийся франтом, широким жестом обводит зал, указывая на ряд кроватей под стенами и солдат. Кому-то повезло сидеть, подперев спину подушкой, а кому-то не повезло лежать. В иной раз Волконский ощутил бы толику значимости момента, проникся бы патриотическим духом, да только не теперь. Не теперь. Теперь он фельдмаршала и прочих сильных мира сего ненавидит полной душою.
— Что же, молодцы, молодцы, ребятушки, — фельдмаршал заводит руки за спину, горделиво оглядывая ещё совсем молодые лица. — Не сломались, выдержали. Война выдалась тяжёлой, — не торопится подходить к сути, а Волконский так и прожигает взглядом, готовый заявить, что сломался и не выдержал. Его довести до ненависти сумеет не каждый, однако же, высшим чинам сие удалось. Фельдмаршал снова обводит покровительственным взглядом уставившихся на него солдат. — Все, кто находится в этой зале, немедленно воротятся домой. Таков указ, ребятки. А также, некоторые из Вас будут награждены за проявленную доблесть. А именно, — он принимает из рук Левашова б у м а г у, — именным указом, наградить орденом святого Георгия Волконского Кирилла Андреевича... — далее следует черёд имён, а Кирилл застывает в ошеломлении, неверии и, пожалуй, ему хочется разве что лист чистый попросить как награду за проявленную доблесть. Он, разумеется, не ведает, как и другие помимо самого фельдмаршала, что из дворца поступила просьба на собственное усмотрение отметить, кто награды достоин и немедленного возвращения в столицу. Указ таков был вызван всяческими недовольствами, мол власть нынешняя служащих людей позабыла. И далее бесконечно можно продолжать перечень недовольств, как высших военных чинов, так и народа, который неизменно на стороне молодых солдат, за родину погибающих. — А также, повысить в звании до капитана, — заключает торжественно фельдмаршал, опуская взгляд на Волконского и не наблюдая каких-либо признаков должной радости. — Извольте, господин Волконский, этих жалований вам недостаточно?
Кирилл тяжело вздыхает, откладывает книгу. Больно внезапной оказалась церемония, а впрочем, торжественная часть лишь предстояла в столице. Не обрадуется Василий Борисович, когда узнает кого фельдмаршал вздумал отметить вниманием и почестями. Вытягивается во весь рост, становясь выше самого фельдмаршала.
— Никак нет, Ваше Высокопревосходительство. Служу отечеству, — произносит без особого энтузиазма, будто получает тысячное награждение орденом и успел от сего устать. — Мне бы и вызволения из этого заточения хватило, да листа бумаги, — переводит выразительный взгляд на Левашова. Фельдмаршал глухо хохочет, хлопая Кирилла по плечу и приговаривая “будет тебе, будет”.
На следующее утро Кирилл немедленно покинул “заточение”, мчась верхом на Плутоне во весь опор. Путь предстоял дальний и долгий: от одного берега к другому. Он существовал лишь одной мыслью: она любит, любит, любит! Иногда казалось, точно задохнется от нетерпения её увидеть, от быстрой езды, от волнений. А ежели молчание сочтёт за грубость? За его отказ? Каждый день и каждую ночь он изводил себя тревогами, мыслями, догадками. Долгий, нескончаемый, мучительный март он возвращался в Петербург, едва живой.
— Боязно мне за тебя, — тихо проговаривает Володя, окидывая взглядом высокое ограждение. — А ежели поймают? Вот так и становятся герои мертвецами.
— Помолчи, прошу. Плутона в казармы верни, да проследи чтоб Федька о нём позаботился. Понял? На меня смотри, — встряхивает друга за плечи, глядя в глаза как никогда решительно. — Я сделаю это. Не обсуждается. Пусть на плаху пойду, но буду знать, что она меня любит. Остальное не важно. Ну-ка, подсоби, — произносит требовательным тоном, ухватываясь за металлические прутья. Не без помощи Володи перелезает через забор, удивительно удачно приземляясь. Володя качает головой, не верящий в такой же удачливый исход предприятия. Кирилл слишком долго ждал и терпел, чтобы с ним пререкаться, а посему махает рукой и скрывается в глубине темноты. Вдали светится пара окошек (НАЗВАНИЕ) дворца. Некоторые поразительные явления можно с лёгкостью смахнуть на затуманенный рассудок влюблённого: ему всерьёз послышался г о л о с, доносящийся с балкона на втором этаже. Ясное осознание того, что иного пути к ней не существует, подталкивает к отчаянным мерам. Встречи не назначишь, а ежели удастся — слишком долго ждать. Переступить порог никто не позволит. Черкнуть записку — снова ждать. А он ждать более не может. Слишком долго ждал, чтобы медлить, чтобы бежать обратно. Остаётся только карабкаться по стене, хватаясь за выступающие элементы фасада. Ему удаётся, как и любому отчаянному влюблённому, дотянуться до балкона. Дальше совсем легко: перелезть через парапет и путь открыт.
Кирилл осторожно раздвигает шторы, дабы убедиться в том, что слух не обманывает. Лишь судьба милостивая могла указать верный путь и нашептать сердцу, какое из окон-балконов выбрать. Теперь он точно оказывается в собственном сне, который не единожды видел. Прекрасный сон. Боязно спугнуть. Сердце бешено стучит. Задохнуться можно от любви переполняющей. Она в нескольких шагах. Она. Заплетает медные волосы тонкими, нежными пальцами перед зеркалом. Льётся нежная, ласковая песня, зачаровывающая мигом. Услышав голос, он понимает, что погибнет, ежели лишится её любви. Жить или погибать, — теперь решать только ей. Влекомый песней, переступает порог, потому что никак иначе нельзя. Глупо бежать от счастья, которое в двух шагах. Он и не смог бы. Подходит ближе осторожно, и фигура его появляется в отражении. Взгляды пересекаются на мгновенье. Он и не подумал, что подобное легко принять за видение. Прежде чем она вспорхнёт с кресла, Кирилл бросается перед к ней, опускаясь на колено, и её руки берёт в свои.
— Елизавета Петровна, прошу вас... — поднимает молящий взгляд. Молящий обо всём на свете. Слова разбегаются пугливо, однако же, говорить надобно. Прямо сейчас. Он и сам не верит глазам, не верит рукам, чувствующим тепло и нежность. Не верит, аж сердце болит. Вглядывается в её лицо, освещённое мягким, янтарным светом свечей. — Я знаю, что вломился к Вам самым неподобающим образом, но сейчас мне совершенно безразлично на все правила приличия. Я.. не верю в то, что говорю с вами и вижу вас, — признаётся, а взгляд продолжает бегать по её лицу, высматривать каждую черту, переменившуюся за целую вечность. — Не иначе как вечность мы с вами не виделись... — фразы бессвязные, слова едва подбираются в голове. Крепче сжимает её руки в своих. Более года, — это вечность, не иначе. — Выслушайте меня. Я должен это сказать, должен, иначе лучше было принять смерть верную в бою, — быть может, первая встреча влюблённых после долгой разлуки должна быть иной, однако у Кирилла привычно перевёрнутый мир. Броситься в объятья, не объяснившись ему честь не позволяет. А ежели она в обиде? Ежели видеть его не желает? Он всё ещё сходит с ума от роящихся вопросов; от отсутствия ответов.
— Два месяца... два бесконечных месяца я не находил себе места. Знали бы вы только, сколь мучительно было получить ваше письмо и не иметь возможности на него ответить. Мой поступок всё равно что поступок бесчестного человека, которого вы не заслуживаете, — качает головой, словно подтверждая тем самым, что не заслуживает. Голос предательски выдаёт полноту тревоги, однако искренней, идущей от сердца. Иначе он не умеет. — Скажите, умоляю, ежели не можете меня видеть и мне следует уйти. Или простите. Я буду самым счастливым на свете человеком, получив ваше прощение, потому что... я люблю вас, Елизавета Петровна. Я люблю вас безумно, — голос стихает и превращается в молящий, горячий шёпот; целует тыльную сторону её ладони, задерживаясь на несколько секунд и глаза прикрывая. Её руки нежны и пахнут сладко. Руки, по которым истосковался до крайности.
— Вы бы знали, каким счастливым я стал в тот миг, когда его прочёл. Вы писали об огненной пропасти, и прямо сейчас я сам стою на её краю. Что может быть страшнее опоздания? — встречается взглядом с её красивыми, полными изумруда, перемешанного с медью, глазами. — Но вы не могли опоздать. Я и помыслить не могу о том, что однажды перестану любить вас. Это немыслимо, невозможно. Каждый день я думал над тем, что ответил бы. Однажды понял... бумага здесь бессильна. Моё сердце принадлежит вам навеки, как и я сам. Простите меня, — опускает покорно голову на её колени, раскаиваясь. Быть может, он и лукавит, лжёт, потому что едва ли сможет у й т и. Не сможет. Не теперь, когда разлука столь долгая осталась позади. Не теперь, когда вновь почувствовал нежность рук, услышал чарующий голос и растворился в зелёных глазах. Не теперь. Он вернулся чтобы забрать свою любовь; чтобы сделать душу её счастливой, которая ему отдана. Когда поднимает голову и вновь заглядывает в глаза любимые, осознаёт ясно что не уйдёт. Она не отпустит. Невольно тянется к её лицу, — притяжение взаимное; тянется к губам, — целует с осторожностью, мягко, бережно, словно боясь поторопиться. Руки перемещаются на талию и ладони чувствуют тепло, исходящее от тела сквозь тонкую ткань белоснежной сорочки. Недолгие, нежные поцелуи, следующие друг за другом беспрерывно, успокаивают сердце. Он улыбается легонько сквозь, поглядывая на неё. Ещё и ещё один мягкий поцелуй, — размаривает, погружает в состояние тихого, ласкового счастья.
— Лиза... — отрываясь от её губ, вновь шепчет нежно, — я не верю своему счастью, — улыбается, глядя на неё самыми преданными и влюблёнными глазами. Л и з а. Непривычно, отчего-то кажется неправильным. “Лиза, Лиза, Лиза”, — мысленно повторяет, привыкая. Новое обращение становится чем-то исключительно личным; то, что принадлежит ему и только. “Лиза” принадлежит ему и никому более. Никому не отдаст, ни с кем не станет делиться. Отныне и навеки “его” Лиза. Несколько минут тому она была Елизаветой Петровной, но теперь становится Лизой. Словно за несколько мгновений перешагнул немалое расстояние, последнее, что удерживало от полноты выражаемых, испытываемых чувств. В его глазах вспыхивают лукавые искры, когда появляется одно непреодолимое желание. Легко подхватывает её с этого кресла, и поднимаясь, начинает кружить; слышится негромкий, счастливый смех. Настроение делается не иначе как игривым, озорным. Кружит по всей спальне, ловко обходя любую мебель, попадающуюся на пути. Кружит и умудряется пританцовывать в такт напеваемой музыке, которая, впрочем, сводится к незамысловатому “пам-пам-пам”. Кружить на руках хочется от переполняющего счастья, от любви, которая точно солнечный свет в летнюю пору, — заливает теплом. Останавливается он неспешно, заглядываясь на её лицо и снова, снова отчаянно, безнадёжно пропадая в глазах. Смех, за ним и голос стихают. Наступает тишина. Сквозь струится потрескивание брёвен в камине, шелест листвы из распахнутых дверей на балкон, крик ночной птицы, шумно вспорхнувшей с ветки. Мир то кружился, вращался, а теперь замирает и сосредотачивается в её глазах, отражающих пламя. Он бы вечно ею любовался, держа в своих руках, которые никогда не устанут.
Его переполняет нежность. Нежность смешивается с зарождающимся пламенем внутри. Снова её губы целует, на сей раз смелее. Поцелуи делаются долгими, говорящими, просящими. С шеи слетает развязанный, белый платок, что становится неким знаком, позволением. Кирилл ловит её взгляд своим, потемневшим, проникновенным. Слов вовсе не требуются. Безмолвно они желают одного и того же. Безмолвно, однако, громко, — и подобное бывает. Взгляды красноречивее любых речей. Чувства в них плещутся. Спустя длительную разлуку, спустя томительное ожидание признаний, осознаний. Ежели отдаваться, то полностью: и душа, и тело, и вся жизнь — всё отдаёт без остатка в её нежные руки. Всё его существо трепещет от лёгкости, хрупкости и нежности, заключённых в собственных руках. От любви, которая распаляется лишь сильнее. От её красоты, пленяющей и лишающей рассудка. Дыхание постепенно делается сбивчивым. После встретившихся взглядов и бесшумно опустившегося на ковёр платка, пути обратного н е т. Вовсе не внезапным оказался сей миг долгожданный, как и признания в любви.
Он так ловко и незаметно передвигается к кровати с балдахином, точно танцующи. Губы трогает совершенно особенная улыбка, быть может, благодарная за доверие в столь значительный для обоих миг. Бережно опускает Лизу на мягкие подушки, помогая выскользнуть из бархатного халата, расшитого золотистыми нитями; следом и кафтан с плеч спадает, остаётся её умелым рукам расстегнуть золоченые пуговицы камзола. Им торопиться словно и некуда. Движения размеренные, осторожные, точно боятся спугнуть мгновенье, в которое быть может, и не верят до конца. Слишком многие и долгие дни провели порознь, чтобы “торопиться”. Ночь длинная. Ночь не должна была вовсе кончаться. Под волнами тонкой ткани изгибы её тела волнуют его, пробуждая желание ещё большее. Между поцелуями, становящимися лишь горячее, он выпутывается из рубахи, — кожей чувствует тепло, дотягивающееся из камина. Ночи ранней весны холодные, да только тепло ещё немного и начнёт опалять. Тепло от близости нарастающей. Где-то подле кровати и белоснежная сорочка тихо опускается, плавными волнами. После он едва ли станет звать по имени и отчеству. После. Словно сей момент необходим, чтобы окончательно уразуметь — она стала для него Л и з о й. Она становится для него всем, чем только можно дышать и существовать. Нежность в своей неспешности перетекает в страсть вспыхивающую точно пламя, нашедшее ещё нетронутое, сухое полено. Ярко, горячо, не остудит даже прорывающийся в комнату ветер. Взгляды порою пересекаются и его глаза неизменно полнятся лаской, осведомляются, не стоит ли ему остановиться. А после переплетаются тела разгорячённые. Ветер, словно подыгрывая, раззадоривается, — буянит, качая ветки деревьев и тяжёлые шторы; задувает свечи, одна, вторая, третья, — со скоростью нарастающей, вскоре погружая комнату в полутьму. Раз, два, три, — бьются ветки об окно в такт сердечному ритму, стремительному и извилистому. Сердце его стучит подле сердца её в унисон. Ветер бушует лишь сильнее, завывает, насвистывает выдуманные мелодии. Бьющиеся сердца — как музыкальный инструмент, дополняющий неистовую композицию. Как весенний ветер неумолим, неугомонный и неустанный, так и они в своей пылкой любви, оставленные и предоставленные друг другу в сближающей, покровительствующей темноте.
Поделиться102024-05-20 21:09:07
Он чувствует тёплые руки, крепко держащиеся за собственные плечи, от чего всё существо вздрагивает и желает поддаться этой нежности. Нет, нет. Поддаваться нельзя. Вдоль позвоночника пробегается дрожь от горячего её дыхания. Крепкие объятья удерживают от безумия, до которого пара незначительных (или напротив, слишком значительных) шагов. Прав. Не ошибается. Догадки подтверждаются и гнев распаляется пуще прежнего. Не унимает пожара увещевание в том, что всё прошло. Всё проходить безнаказанно не должно, в чём он неожиданно и твёрдо убеждён. Упрямо не поддаётся, разве что не делает попыток вырваться. На периферии должно быть, маячат сигналы здравости, не позволяющее переступить черту. Неохотно поворачивает голову в её сторону, скорее вынужденно. Опасно, опасно смотреть в глаза изумрудные, — вся решимость растворяется в них. Слабость накрывает. Ему хочется всю ночь её целовать и терять сердце от невозможной любви, а не возможно, жизни лишиться. Однако, честь задетая, честь д е в у ш к и — важнее, кажется, что важнее. Верно, потерять то, что приобрёл впервые, так быстро — глупость, безумная глупость. О последствиях он не думает, не думал, поражённый слепящим гневом. Несмотря на здравость её слов, зачем-то упрямится, не желая сдаваться быстро. Зачем-то губы сжимает плотнее, всё ещё ощущая обжигающую грудную клетку изнутри, ярость. А потом осыпаются на него поцелуи и под ними он начинает таить, растворяться; точно дождь, пламя остужающий. Закрывает глаза, наконец поддаваясь её нежными губам, которые целовать оказывается приятно до дрожи. И одного поцелуя достаточно, чтобы его сломать, чтобы вынудить послушать. Поцелуев так много, можно сбиться, считая их. Он считать и не способен, объятый лаской и любовью, какую она отдаёт ему каждую секунду. Вспыхивает пламя, разве что не столь опасное, когда слышит Лизы голос надтреснутый. Глаза распахивает, сперва глядя недоуменно, пока не приходит осознание. Ведь правда, Василий Борисович об этом не иначе как мечтал. Мечтал видеть Волконского в гробу или не видеть вовсе, достаточно и знать, что смешалось его тело с остальными, убитыми. Могила — место смерти.
— Что? — переспрашивает, будто не расслышал. Нет, не расслышать восклицание невозможно, потому и усмехается с оттенком безумия. Он замечает, замечает выскользнувшую слезу, — такое не заметить сложно, когда взгляд прикован к лицу. Более не может злиться, не может думать ни о чём, кроме неё. Сдаётся. Окончательно сдаётся. — Любимая, — шепчет, касаясь пальцами щеки и спускаясь к подбородку, с которого она поспешно слезу смахнула. Странно, он никогда и не думал, что не вернётся, слишком уверенный в том, что увидеть её должен. Должно быть, уверенность и любовь спасли его на войне. Её письма с п а с л и. Он должен был вернуться за своим счастьем и подарить счастье ей. Нежность и тепло тела, прижатого столь тесно, дурманит, дурманит нещадно. Никуда ему не деться, пока она целует и обнимает, пока любит. А когда всё закончится, то и ему жить совершенно без надобности.
— Обещаю, — шепчет, прижимаясь губами к её волосам, — обещаю, такой радости он не получит. Не получит, — повторяет, прикрывая вновь глаза, дабы убедить и убедиться в данном обещании. — Я буду жить ему назло, это тебе обещаю точно, — отводит волную рыжих волос назад и обхватывает ладонями лицо, глядя в глаза серьёзно, как в доказательство своего обещания. Он не знает, что с ним будет в будущем, но знает точно — выживет. Похоже, его судьба в том, чтобы непременно возвращаться назад.
***
Кирилл носится забываясь, задыхаясь разве что от счастья. Носился бы до последних сил, нисколько не волнуясь, ведь рано или поздно она окажется в его объятьях. Она отныне исключительно “его”, а следовательно, далеко не убежит. Он хохочет от собственных умозаключений, от пьянящей свободы, которая в её душе и отражается в глазах зелёно-голубых, вобравших цвет морской. Точно малые дети, урывающие счастливые мгновения у безжалостной судьбы, — она ведь знала, что предстоит им повзрослеть пуще прежнего. Она ведь знает, что осталось “не так много”. А он отчаянно-сильнее влюбляется в девушку, имя которой делается синонимом к слову “жизнь”; влюбляется с новой силой в её озорной звонкий смех, в её льющийся песней голос, в её жажду свободы и ж и з н и, — иной полюбить он и не мог. Иные — равносильно погибели для обоих. Ему предназначалась Лиза и будь что будет. Ради часов, минут и секунд, проведённых рядом с ней, он на всё готов, никогда не почувствует сожаления.
— Цесаревна! Что вы творите? — вскрикивает театрально возмущённо-удивлённо, наблюдая за тем, как треуголка раскачивается в её руках; а ветер мигом принимается волосы взъерошивать. Складывает руки на груди, качая головой с видом истинного театрального критика, смыслящего в столь великом искусстве. Через мгновение она точно вторит ему, становясь чуть ли не отражением. Быть может, любовь в том, что наизусть выучиваешь фразы, выражения лица разнообразные, эмоции отражающиеся; однажды обнаруживаешь способность договаривать за любимого человека, точно зная, что тот собирается сказать. Любовь становится совершенно особенной, больше, чем страсть и желания близости. Он чувствует в подобные моменты не иначе как переплетение душ, но, разумеется, не станет уступать серьёзности. Ежели играть, до самого конца. — Вам в самый раз мужские роли в театре играть, а? — залихватски толкает локтем в бок, как обычно делает с друзьями, словно рядом оказывается мальчишка. — А теперь я советую вам бежать отсюда, пока на моём месте не появился мальчишка с женским голосом и уж больно красивым лицом, — звучит всё ещё играючи, так, словно стоит на подмостках театральных и зачитывает шекспировские строки с листа; явно намекает на первую встречу, когда едва ли верилось в то, что пред тобою стоит м а л ь ч и ш к а. Он срывается следом за ней, настроенный твёрдо догнать и не отпускать, не поддаваясь каким-либо манёврам, призванным отвлечь. Наблюдает с удовлетворением на лице за тем, как она треуголку возвращает на его голову.
— Разумеется, оно у меня было, — произносит весьма довольно, невозмутимо, глядя на неё из-под полуприкрытых глаз длинными ресницами. — Мне и не нужно, платья идут вам, — наклоняется, тянется к её лицу — целовать хочется неизменно, постоянно, много поцелуев никогда не станет. Лиза упорно уворачивается, а он упорно пытается дотянуться до её губ, подсмеиваясь ещё одной выдуманной ими забаве. Нахмуривается на продолжение не иначе как комедии с его персоной в главной роли, находит лишь один выход, раз уж не отпустить из рук, чтобы лицо поймать — иначе точно упорхнёт. Подхватывает на руки с небывалой лёгкостью и направляется к самому берегу, вновь позволяя смешкам вырваться наружу и смешаться с шумом моря, криком чаек.
— И даже не подумаю! — вырывается громко-радостно, перебегая кромку берега — волны мигом стремятся навстречу. — Это был лучший спектакль в моей жизни и за это полагается... — тянется за поцелуем и в последний миг начинает кружить, словно так и хотелось отомстить за не случившийся ранее поцелуй. Смеётся, то щурится, то жмурится от холодных морских брызг и яркого солнца. Продолжает кружить ещё быстрее, наблюдая за тем, как она расправляет руки — точно птица, парящая над голубой гладью, отражающей небо. Он бы кружил её вечно, лишь бы одаривать чувством свободного полёта — лишь бы она летала и никогда не знала золотых клеток. Когда она выскальзывает, не отрывает любящего взгляда, наполняющегося вдобавок умилением; впрочем, это длится недолго — между ними разражается новая война. Кирилл хохочет и беззастенчиво окатывает водой Лизу, насколько представляется возможным, — сколько удаётся зачерпнуть в ладони иль взмахом руки нагнать. Стихает взыгравшая шаловливость, когда наполняется серьёзностью её взгляд. Он присматривается внимательно, делая шаг в воде, желая сразу же оказаться б л и ж е. А потом и вовсе дёргается в её сторону, стоило только волне пошатнуть. Сперва точно послышалось, точно море нашептало, а через несколько секунд приходит ясное осознание — не послышалось. Не послышалось. Кирилл замирает, волны бьются о сапоги совершенно бесполезно и отчаянно, пока он смотрит на неё и проникается любовью. Любови никогда не будет достаточно, ведь с каждым мигом её становится больше; она становится крепче, сильнее, особенно когда звучат слова столь просто, потому и абсолютно искренне. Раздаётся любимый голос громко, окончательно повергая в буйство нежных, трепетных чувств. Нежность отражается в его глазах, окрасившихся в голубой. Однако, любовь в глубине и на поверхности бирюзы сияет ярче солнца. Сердце щемит. Окончательно растроганный её улыбкой, попросту приближается к ней и целует. Обхватывает крепко её плечи рукой, прижимает к себе и меж бровей пролегает складка, а лёгкие спирает от нехватки воздуха, потому что не вдохнуть, не оторваться, не прерваться. В каждом порыве страстном звучит ответное “люблю, люблю, люблю”.
Отрываясь, дышит тяжело ей в лицо и улыбается счастливо. — И пусть, я слишком влюблен, чтобы болеть, — заявляет сбивчиво, однако гордо.
***
Он разглядывает её лицо взглядом, неизменно полным нежности и любви. Молчание вовсе незаметно, когда шумят и пенятся волны морские, когда трещат в пылу сухие ветки, когда сердце стучит гулко и плещется в счастье. Ему бы вечность наслаждаться касаниями ласковых рук, точно прикосновение розового лепестка или тонкого мягко-воздушного шёлка, — от блаженства глаза сами собой закрываются. Моментами ловит её руку, чтобы поцеловать прохладную ладонь и пальцы, прижать к щеке. Приподнимает вопросительно брови, не сразу догадываясь о чём заходит речь. Кирилл вовсе не помнит ночь, оставившую разве что осадок стыда. Воспоминания обрываются на занесённой руке, на неподобающей клевете какую простить никак не мог, на раздирающем чувство, будто влюбиться в девушку — это нечто ужасное, обрекающее. Морщится от вони спиртной: пиво с водкой вперемешку. Быть может, расскажи она раньше и непременно сделалось бы стыдно до покрасневшего лица. А теперь лишь улыбается, нисколько не жалея о затеянной драке. Напротив, чем не повод для гордости? Он любил её тогда и любит сейчас, остальное значения не имеет. Даже пьяным будучи, продолжал любить, наивно пряча чувства за строками на чужом языке; беззастенчиво играя с рыжими локонами и устраиваясь на коленях, — каждый жест, движение продиктованы “любовью”. Оказалось, любить вовсе не страшно. Брови хмурит только потому, что вспоминает пьяных гвардейцев — позорище державы, и тот факт, что болтать в кабаках не перестанут. Сегодня день особенный, дурные мысли надолго не оседают в голове. Прикрывает глаза, чувствуя касание пальцев и губ — от нежности трепещет всё существо.
— Сама же мне говорила, — устремляет задумчивый взгляд в небо, — что уедешь однажды. И меня это ждёт... — цитирует её фразу, ненадолго уносясь в тот вечер, когда всё неожиданно переменилось, когда они стали б л и ж е. — Вот и отправлял тебя к принцу, но теперь это кажется не более чем прикрытием моей трусости, — пробегает улыбка горькая: если бы только раньше осознал, если бы раньше признался, если бы признавался чаще, быть может, не пришлось прятаться, скрываться, шептаться. Крепче сжимает переплетённые пальцы. — Теперь никому тебя не отдам, ни принцу, ни императору, ни господу богу. Ты моя, — полушёпотом произносит, улыбаясь блаженно точно, как в ночь, которую запомнит лишь по описаниям Лизы. Совершенно необязательно произносить подобное в страстных порывах, как и признание в любви. “Ты моя”, — звучит как неоспоримый факт, как нечто естественное, непроходящее, вечное.
— Когда же это произошло? — призадумывается с лёгкой улыбкой на губах, вновь отводя взгляд к небу, по которому точно плывут воспоминания. — Быть может, когда прочёл письмо, или когда Саша вызвал к себе и приказал отправиться за тобой... или когда увидел тебя в той распивочной. Тогда я точно понял, что готов сделать для тебя всё. В лесу... ты меня поразила в сердце, аж выпить захотелось, да я и выпил всё, что было у Саши. В общем-то, я всегда любил тебя, только не знал об этом, — улыбается шире, однако же колющей болью отдаётся каждое упоминание ушедшего друга. — Немыслимо жалеть о том, что должно было случиться. Я счастлив так, как только может быть счастлив человек, знающий, что его любит прекраснейшая из женщин. Разве что... когда Ваше Высочество столь ловко уклоняется от поцелуев... — подсмеивается вместе с ней, поднимая сплетённые руки и оставляя на тыльной стороне ладони поцелуй.
Он рассматривает вновь редко проплывающие облака в небе, чуть прищуриваясь от солнечного света. Небо совершенно чистое, никакого признака надвигающегося дождя, — мгновенно переводит взгляд на её лицо, когда кожи коснулись слёзы.
— Лиза... — отрывается от её колен, заглядывая теперь в глаза встревоженно. Рука тянется к щеке, а пальцы сами собой смахивают слёзы, от вида которых и самому больно. — Ну что ты, милая, — обнимает крепко, чувствуя всем существом не менее крепкие её объятья, дающие ещё больше сути собственного существования в этом мире. Ради неё и для неё, — это почти что предназначение. “До чего же трудно давать обещания, правда, Кирилл? Но ты уж постарайся”, — так и глумится внутренний голос. Не сегодня, так завтра — война, немилость или плаха, но он жить должен. Лишь крепче обнимает в ответ, носом утыкаясь в волосы мягкие, пахнущие весенними цветами и морем. — Я буду рядом, слышишь? Непременно буду рядом, — вырывается шёпотом. — Я ведь тоже не хотел идти на тот бал. Но судьба всегда сильнее нас.
Кирилл отпускает Лизу неохотно, удостоверяясь каждую минуту не появляется ли влага в её глазах. Более невыносимо знать, что будет она плакать где-то в одиночестве, в большом и холодном дворце. Быть может, подле неё остались некоторые “друзья”, но теперь его присутствие имеет наибольшее значение. Однако, смириться приходится перед суровой правдой: император скоро вернётся. Все его отъезды и приезды будут определять счастливое время. Ни один из них не знает, когда та самая счастливая возможность выпадет вновь: через день иль через дней тридцать. Он лишь согласно кивает головой.
— Ты знаешь где меня искать, — слабо улыбается, пытаясь скрыть отражение внутренней борьбы с чувством несправедливости и бунтарства, как его следствие. Долго будет глядеть вслед, а после побродит, чуть сгорбившись от тяжкого невидимого груза, по пляжу; потушит костёр, убирая его следы и отправится прочь.
Никому расставаться не хотелось.
Но судьбы была милостива.
***
“Не свезёт тому, кто в роте Кирилла Андреевича окажется, суровый больно”, — бродит эдакий слушок по офицерским казармам, меж рядов низших чинов. “А как по мне, наоборот! Он своё дело знает!”, — откликаются другие, отважные и мечтающие сделать карьеру в гвардии. Оправдываются успешно обе стороны: и суров, и справедлив, и дело своё уж точно знает. Вечно болезненный капитан, помощником которого доводилось служить наконец отправлен в отставку. И вовсе не по состоянию дурного здоровья, столь дурного что в звании капитана Волконский освоился раньше положенного, а «по домашним обстоятельствам», что означает скорую женитьбу. Кириллу бы самое время поглядеть завистливо и злобно, так как работы на службе добавилось: роту распустили и отправили вояк в уже существующие, будто на один полк мало капитанов. Бог с ним, вечно страдающим Алексеевым. Вовсе не его персона, добавившая забот, беспокоит Кирилла Андреевича. Он то и дело выглядывает знак, ожидает с пылким нетерпением, когда она “найдёт”. А ежели не заметит? Упустит? Себе не простит. Чем дальше, тем суровее становится капитан. Молодые рекруты таращатся перепугано, оставленные теперь на поручика Еремея Артёмова. “И чтоб никакого вина за ужином”, — строго наказал он, прежде чем уйти прочь. Точно назло всплывает в голове «по домашним обстоятельствам» и накатывает новая волна какого-то негодования. Володя верно подмечает, что беда в “отсутствии женского внимания, брат”. Кирилл только смотрит хмуро и не отвечает, потому что Володя прав. Разумеется, ему не сдалось женское внимание без разбору, разве что в единственном числе. Убедившись в том, что его подопечные отправились ужинать под присмотром старших, он направляется в рапирный зал. Поводы провести время в тишине зала с высоким потолком и прохладой всегда разные. Ему доставляет удовольствие одно нахождение в этом зале, где в дневное время звенит сталь, слышатся окрики учителей (словно ты снова мальчишка в школе, разве что голос громкий теперь принадлежит тебе), где воспитывается офицер, какому предстоит сражаться в открытом бою за Отечество иль в тайном, под ночным покровом, за сердце возлюбленной. В этом зале они учатся защищать ч е с т ь. Порою он сам приходит потренироваться в одиночестве, в иной раз усаживается где-то в углу с книгой и плошкой с целым ещё фитильком. А сегодня несёт его по волшебному мановению чьей-то руки, быть может, той самой, единственной и любимой, какую не может никак дождаться. Более того, тренировочные шпаги скверно чищены, — мальчишки поленились. Кирилл бы не спустил такое с рук, если бы самому не захотелось остаться в тишине и задумчивости, и ничего лучше, чем чистка шпаги не наводит забытье. За окнами сгущаются сумерки, ещё проникает тусклый закатный свет, однако он несёт старенький потёртый шандал с несколькими свечами, чтобы виднее было. Оставляет на столе, где разложены шпаги. Быть может, и почуял бы чьё-то присутствие в иной раз, когда из головы выветрятся думы об Алексееве и его свадьбе. Ей-богу, несчастная его женушка! Только Кирилл собирается осмотреться, как перед глазами опускается чёрный занавес. Если бы не любимые нежные руки, не тепло и аромат родной, точно бы среагировал иначе. Узнавая мгновенно, не иначе как тоскующим сердцем, замирает на месте и улыбается во всю ширь лица.
— Лиза! — вырывается то ли ответ на загадку, то ли оклик от восторга и удивления, когда оборачивается и глядит на неё не верящими глазами. — Как ты здесь... — бормочет радостно. Никаких сил не осталось на вопросы и ответы, на её столь необычный вид: он ловит лицо ладонями и увлекает в поцелуй. А когда отрывается от губ, по которым тосковал, засматривается влюблённо. Ничего не имеет значения кроме того, что она здесь, рядом, н а ш л а.
— Хоть сейчас в строй! — сообщает важно, подражая её манере и вскидывая подбородок. — Император дурак, если не оценил ваши стройные ножки, — и брови взлетают многозначительно ввысь, — а впрочем, так лучше, — улыбается удовлетворённо. Однако же, мочи всё ещё нет терпеть, разве что желание вновь увлечь в объятья имеется; и он ловит её руками, позволяя им скользнуть под кафтан на талию стройную, совершенно счастливый в сей м и г. Под её поцелуями забывается, закрывая глаза. Губы в поцелуях расскажут красноречивее сколь велика их тоска, пусть прошёл день или неделя — всё одно долго, невыносимо долго. Его сердце растапливается от нежных слов, от ласкового голоса. Наверняка он бы позволил мальчишкам выпить вина, если бы до них было какое-либо дело. А ежели Еремей и позволит, то Волконский серчать не станет. Снова засматривается, заслушивается, отдаваясь сильному, поглощающему чувству и её глубоким глазам.
— Ну что ты... что ты... я бы тебя дождался, даже если бы пришлось ждать ещё, — словно и не было нестерпимой тоски на протяжении недели, важно лишь то, что она з д е с ь. — Может никто и не узнает, но я-то узнаю, — вновь брови вскидывает игриво, сокращая расстояние меж лицами. — Я счастлив, любимая, — шепчет в губы, а потом расплывается в улыбке ласковой. Наглядеться на неё не может, равно как и устоять перед очарованием. Захватывает в крепкие объятья, не желая более отпускать. По меньшей мере, пока не будет вынужден.
***
Раздаётся голос Федьки, заставляющий оторваться от увлекательных забав. Кирилл прислушивается, раздумывая над тем, какая именно помощь могла понадобиться. После набора молодых и зелёных рекрутов ожидать чего угодно можно. То бойню они устроят и непременно схлопочут, то бутылки с вином побьют, то лошадь накормят чем не положено и после той конюху доведётся всю ночь убирать. Дети малые. А быть может, какая помощь требуется старшим по званию. До чего же неподходящее время они выбрали! Волконский в своём новом чине слишком совестливый, раздумывает над тем, чтобы просто у з н а т ь, а там быть может, и сами справятся. Негодяй, разумеется. Радуется, когда слышит её позволение сходить, да только преждевременная эта радость. Ловит коварный её взгляд. Опускает глаза, замечая первую расстёгнутую пуговицу. Сомнений нет: никуда не уйдёт. Со второй пуговицей вовсе забывает, что чей-то голос слышал. Губы растягиваются в удовлетворённой улыбке, а в глазах пляшут его собственные бесенята. Рубашка вовсе спадает с плеч и вид открывшийся будоражит на пару с её кокетливым взглядом. Не стерпеть! Обхватывает её руками, чувствуя ладонями мягкость и тепло оголённой кожи. Отвечает на поцелуй покорно, падая следом за ней на сено.
— Повезло же мне с женщиной. И как я жил без тебя? — отрывается от её губ на мгновенье, заглядывая в глаза и испытывая в душе небывалые гордость с восхищением. Ему нравится, нравится безумно. Влюбляется ещё сильнее и без памяти. — Надевай рубашки почаще. И я весь твой, — улыбается, глядя из-под опущенных ресниц, и накрывает губы поцелуем, отдаваясь новому порыву целиком.
Ещё одна ночь, принадлежащая им полностью. Запомнится ароматом сена и теплом друг друга, которым и оставалось согреться. Они оба без друг друга не справятся. Урывают то, что могут, не зная, когда окажутся вместе вновь. И ничего более значения не имеет.
***
Василий Борисович наблюдает за развернувшимся действом с крайним неудовольствием. Его помятое лицо мало того, что бесцветное, сегодня оно мрачное, точно наплыли тучи. День петербургский, вопреки воле императора, выдался ясным, солнечным, весенним. Заливаются пением птицы, слабый ветер игриво покачивает ветви деревьев, на которых появляется нежная, молоденькая листва. Доносится звонкий смех фрейлин, носящихся в саду, — бог знает кому они теперь нужны, ежели в одночасье отбыли две царственные особы. Впрочем, монарху не до распускания штаба фрейлин. У него заботы иные. Высший свет постепенно перемещается из дворца на улицы, в роскошные дворцовые сады, парки, где пригревает солнце. Разве что боязно ступить на набережную, где до сих пор холод, запах зимы, стылый ветер и сырость. Он хмурит свои тонкие брови, походя на злящегося ребёнка, который получил запрет от родителя и ничего с этим поделать не в состоянии. Даже императоры не всесильны, ежели хотят ж и т ь, а не быть убитыми руками негодующего народа. Сегодня дело вовсе не в том, что вопреки его воле светит солнце, не в том, что завидует бравым офицерам (которые располагают тем, что жизнь не посчитала нужным дать е м у), а в том, что он снова предстал перед взором. Он, отныне капитан Кирилл Волконский, умудрившийся выжить на войне смертоносной, где полегло немало русских солдат. Говорят, выжившие — это чудо, дарованное Господом. Сверху наблюдать сподручнее, да и одаривать такой честью, как самоличное появление, он не собирался. Наблюдает украдкой с балкона, едва сдерживая вскипающую ненависть. Он, разумеется, был осведомлён о возвращении оного в столицу. Он знал. Жил спокойно, охотился под Москвой, пока не узрел в ряду офицеров. Пока не появилась о н а. Василий Борисович вздрагивает, когда видит её с корзиной, полной срезанных в оранжерее цветов. Дёргается в сторону балюстрады, однако вовремя останавливается, то ли от боязни высоты и смерти, то ли от гордости — увидят, узнают ведь.
Дворцовая площадь залита солнечным светом. Выстроился ровный ряд из нескольких офицеров гвардии. Присутствует сам фельдмаршал Святослав Владимирович Князев, вызвавшийся награждать. Ежели не император, то фельдмаршал. Гвардейцы только рады, лицо служивого человека видеть куда приятнее, чем чахлого, любящего винище да забавы. Не посмотрят, что император. Кирилл стоит привычно ровно-натянуто, сияя радостью и гордостью, вскинув подбородок. Накануне было писано письмо в Берёзово, в котором не постеснялся расписать собственные успехи и выразил убеждённость в том, что батюшка гордиться станет. Матушка непременно бы отвесила подзатыльника и поцеловала в лоб, а батюшка улыбнулся бы своей сдержанной, однако тёплой улыбкой, — гордится, непременно гордится. Церемония награждения скромная. Никто и не желал бы излишних почестей в сложившейся ситуации, — стыдно, когда Россия пусть и прекратила войну, да только причинив себе немалый ущерб. Всё, чем они довольны: Дворцовая площадь и лица важных особ, не менее важно глядящих и кивающих головами. Постепенно Кирилл высматривает и лица знакомые. Едва заметно кивает приветственно князю Вяземскому. Торжественно произносятся знакомые слова. “... наградить орденом Святого Александра Невского!” Сливаются воедино гулкие, сильные, твёрдые голоса офицеров, сообщающие что служат и будут служить Отечеству верно. Доколе не уйдут в отставку по домашним обстоятельствам, разумеется. На мундире вспыхивает красная лента и четырёхконечный прямой золотой крест с расширяющимися концами и характерными двуглавыми орлами, помещёнными между его концами. Когда фельдмаршал переходит к следующему офицеру, вид перед глазами Кирилла преображается. Её появление точно волшебство, как появление первых весенних цветов, прорвавшихся сквозь снег. Взгляд падает на корзину с цветами и губы сами собой растягиваются в предательской улыбке. Выдаст себя, выдаст и очень скоро. “Опять оранжереи ограбила?” — так и вопрошает лукавый его взгляд. Однако же, постепенно он меняется, приобретает оттенки иного рода. Внимательный человек наверняка бы заметил неладное, словно эти двое ближе, чем предполагается. Быть может, князь Вяземский и заметил, за что остаётся судьбу благодарить. Если бы знал будущее, непременно благодарил бы. А пока наслаждается общением безмолвным, не менее красноречивым нежели словами. “Заслужил ли я большего внимания, Ваше Высочество?” — отражается в глазах, чуть прикрытых длинными ресницами. Если бы только доброжелатели оказались столь наблюдательными. Если бы не балкон над головами, где скрывается самый ненавистный в р а г. Оный чувствует неладное, чувствует всей душой, да только словами описать не способен. Не докажешь ведь, не докажешь! Появление Елизаветы Петровны нисколько не удивительно: она всегда оказывает милость гвардейцам, особенно г е р о я м. Никто тени подозрения не бросит. “В таком случае, я весь ваш”, — глаза, отражающие цвет неба, темнеют на пару мгновений, а после, дабы никто не заметил, проясняются. Вовсе отводит взгляд, совершенно довольный, вероятно, полученной наградой. Куда большая награда, чем алая ленточка, — её появление здесь. Гвардейцы пуще прежнего влюбляются в свою цесаревну. А он готов кружить её на руках весь день, без устали.
— Просим вас, Ваше Высочество, — склоняется в почтительном поклоне фельдмаршал, жестом приглашая подойти Елизавету Петровну. — Позвольте, Ваше Высочество, выразить нам восхищение вами, — он берёт её руку и целует сухими губами, тем самым позволяя сие повторить каждому гвардейцу. Будь их воля, они бы расцеловали её в обе щёки, не иначе.
— Я же говорил, что буду первым в следующий раз, — шепчет улыбаясь, когда Лиза подходит к нему. В иной раз цветов не досталось вовсе, а теперь хоть всю корзину забирай, да только братцы за сие поколотят хорошенько. Чувствует нежность её пальцев на своей ладони, сжимает их бережно, прежде чем склониться. Касается губами тыльной стороны и замирает на пару мгновений. Не иначе как бодрствующий Василий Борисович секунды высчитывал, сравнивал и по итогу заключил, что дольше всех Волконский её руку целовал. Гореть ему в аду! И будет, непременно, слово императора. Кирилл вдыхает аромат сладостный цветочный и неохотно отпускает маленькую ручку из своей, выпрямляя спину. Пальцами теперь касается теплой кожи, принимая свой букетик. Каждое касание в сей миг особенное, быть может, от своей сдержанности. Хочется большего. Однако, всё, что остаётся: склонить голову и проводить взглядом, когда направится к следующему. Один светится ярче другого начищенной монетой, когда выпадает возможность припасть губами к руке и заполучить цветы. “Делайте что хотите, всё равно моя”, — прошмыгивает озорная мысль, а душа клокочет от гордости и восхищения.
— Ваше Высочество, ничего не бойтесь, вас охраняют надёжные люди. Сегодня в этом вы убедились сами. Я полагаю, ребятушки будут счастливы, ежели вы к ним как-нибудь загляните, — радостно расходится Святослав Владимирович, когда офицеры получили свою награду в полной мере. Кирилл незаметно улыбается: и то правда, ведь Лизу охраняет он самолично, и во многом она уже “убедилась”.
Раздосадованный Василий Борисович убегает с балкона, проносится через коридоры, пылающий изнутри гневом. О, какие взгляды! Они смотрели друг на друга. Он целовал её руку, да ещё получил цветы! От гнева раздуваются ноздри, а дыхание сбивается. Да, разумеется, все целовали её руку, да только не с таким чувством и не столь медленно, как этот бесстыжий, безродный выскочка. Пелена на глазах не позволяет видеть мир перед собой, и он неуклюже врезается в своего славного друга Голицына, который мгновенно рассыпается в извинениях и якобы тревоге. Тревога, впрочем, притворная.
— А вы знаете, у меня есть одна мысль, — вызывается Голицын, неизменно приходящий на помощь в деликатных вопросах. Ему абсолютно на всех плевать, кроме собственной персоны и её будущего. Ему важно заполучить больше расположения и доверия, пусть некоторые идеи совершенно глупые. Зато понравятся императору, а следовательно, приблизят к успешной карьере и вечно безбедной жизни. Отпивает вина из бокала, прежде чем начать. Создаётся впечатление, будто Василий Борисович пойдёт на всё в данный момент, лишь бы унять злобу и этого подлеца. Лишь бы испоганить ему жизнь! Лишь бы ему было п л о х о. — Ежели не можете отправить прочь, надобно действовать хитро, — разводит рукой, поднимаясь с кресла. Император, друг сердечный, бросает взгляд вверх недовольный. Приходится признать, что не всегда на собственный ум приходят хитрые мысли. Чувствовать себя глупым ему не нравится. Голицын мягко улыбается, стараясь не позволить огню разгореться.
— Я просто хочу помочь вам, как другу. Это нисколько не унижает вашего достоинства, — произносит вкрадчиво, чуть ли не приклоняясь пред ним.
— Говори уже! — сипло рявкает, точно мелкая собака, Василий Борисович.
— Вы ведь знаете, что врагов нужно держать ближе к себе, чем друзей. Вы никогда не доставите ему неудобств, ежели он будет где-то там в своей гвардии, творить что душе угодно. И насколько мне известно, ничего сильнее не гневит капитана Волконского, — замечает недобрый взгляд, осекается. Не следовало напоминать. — Прошу прощения... чем служба во дворце. Подумайте об этом. Ведь чем дальше, тем больше свободы он получит. Эту свободу вы можете контролировать.
По лицу бледному становится заметно, что задумывается всерьёз. Мыслительный процесс запускается. Однако, благодарить не станет, вскочив молча с кресла и исчезнув снова в коридорах, где и появился внезапно.
— Бедный-бедный капитан, — покачает головой Голицын, усмехаясь и допивая вино.
***
На заднем дворе, обнесённом высоким забором, царит праздничное раздолье. Весна в нынешнем году поистине необычная: солнце в ясном небе светит неустанно. Расставлены на только появившейся зелёной траве деревянные столы и скамьи. Стоит в воздухе гул голосов исключительно мужских. Часто раздаётся хохот самый разнообразный, звучат тосты, звяканье бокалов и треск яиц разбитых. Повсюду бочки с вином и пивом. На столах высокие румяные куличи и творожные пасхи. Огромные буханки хлебные, баранки, вареные яйца и поджаренная свинина. Разумеется, квашеная капуста с водкой, — без чего не обойдется ни один стол русского человека. Оставленные без надсмотра высших чинов, гвардейцы не иначе как душу отводят в праздничный день. Кириллу быть может, не следовало соглашаться пить вино с раннего утра. Был ли то хитрый ход, иль чистосердечное побуждение, — не разобрать по лицам рядовых, которые, кажется, только и ждали праздника. Выпить его принуждали чуть ли не всей ротой. После нескольких бокалов и тёплого солнца на душе посветлело. Он вовсе не опьянел, скорее по примеру иных, отпустил душу. Сперва рядовые под присмотром старших заготовили дрова, выдраили столы и оттащили старую, развалившуюся телегу, на которой когда-то перевозили сено и необходимые для быта предметы. Далее следовал приём родственников (родители, братья, тётки, прислуга барская), среди которых появлялись и молодые девицы, приносящие праздничные угощения. Однако, заходить на территорию гвардии оным строго запрещено. Впрочем, сей запрет не помешал стрелять глазками да очаровательно улыбаться господам офицерам, которые появлению прекрасного пола только рады. А ежели удавалось расцеловать краснощёкую девицу, большего счастья быть не могло. Накрыли столы и опрокинули пару чарок, прежде чем отправиться разжечь костёр. Кирилл вызвался испытать свои кулинарные способности, оказавшиеся весьма недурными. Впрочем, каждый уважающий себя мужчина обязан уметь разделаться с куском мяса. А особенно офицер. И он разделался безжалостно, под восторженные возгласы, заблаговременно раздевшись до белой рубахи. Не пачкать ведь, новый мундир. Несколько крупных кусков томительно поджаривались над костром, сводя с ума ароматом и раззадоривая аппетит. После торжественной трапезы все заметно подобрели, пуще прежнего разомлели, попивая вино. Одни поют песни, другие травят солдатские байки, третьи собрались вокруг стола, за которым разыгралось представление.
— Нет, я не стану этого делать! Повелеваю вам пристрелить лису и принести ко мне! — разводит руками, точно находится на театральных подмостках. Брови хмурит и голос сиплый весьма удачно имитирует, добавляя какого-то французского акцента. — Разве не так поступают истинные охотники, а? Я тебя спрашиваю! — подняв одну ногу на скамейку, наклоняется к сидящему за столом Верзилину, и хватает за грудки, впиваясь в лицо диким взглядом. Тот, разумеется, хохочет, мотая головой. — В крепость его, — бросает равнодушно-небрежно, разжимая пальцы и выискивая подозревающим взглядом кого-то среди собравшихся зрителей.
— Ну, а ты? Как смел выпить больше вина, чем твой император? Живопись — женское занятие?! Розгами тебя давно не секли! — взмахивает рукой в сторону хохочущего гвардейца, делая вид весьма разгневанный. Снова осматривается, прищурив глаза, и подходит к одному из высоких, всё одно не выше самого Волконского. Окидывает презрительно-подозревающим взглядом, скрещивая руки на груди. — А ты чего таким высоким уродился? Велю тебе согнуть ноги и ходить так до конца жизни. Иль тебе моё слово не указ? Сибирь по тебе плачет! — выкрикивает, пробуждая очередную волну смеха и оживлённых переговоров. — А завтра чтоб все заговорили на французском, да мундир французов надели, иначе, — делает глубокий вдох, будто бы задыхается от злобы, — казнить всех велю! — выпаливает на последнем дыхании, а грудь так и вздымается. Гвардейцы аплодируют громко, голосят неуклюже, по-мужицки, разительно отличаясь от зрителей в приличном театре, где дамы обмахиваются веерами с перьями. Однако же, потешить душу да уважить праздничный день — не грех.
— Ах, доиграешься! Поймают ведь! По тебе крепость плачет, — тычет в его сторону Верзилин, утирая другой рукой слёзы, выступившие от смеха. — Но до чего хорош, правда, братцы? Потешил так потешил! Мочи нет терпеть его, — ударяет тяжёлым кулаком по столу. Кирилл усмехается, поднимает со стола бокал, отпивает вина. Взгляд делается задумчивым.
— Нет, — твёрдо отрезает, вдруг сделавшись серьёзным, — нельзя мне в крепость, я здесь нужен. Но чёрт этот рано или поздно угомонится, братцы, — возвращает добрую улыбку, прохаживаясь меж сослуживцев, собравшихся вокруг. — Знаете почему? Петропавловская всех в себя не вместит. А пока он ещё одну построит, так мы что-нибудь придумаем, — осушает бокал, прежде чем обернуться на шум позади себя.
Тем временем солнце медленно клонится к горизонту. Улицы утопают в мягком, малиново-янтарном свете раннего вечера. На пропускном пункте заметили приближающуюся карету. Разумеется, отказать в визите столь важному гостю часовые не осмелились, да и охоты таковой не имели. Гордый майор гвардии, собиравшийся отбыть на празднование в имение (и забывший об этом тотчас же), проводит Елизавету Петровну, подставив ей свою руку. Множество восторженных взглядов обращены к ней, и множество восторженных, приветственных возгласов раздаётся, привлекая внимание тех, кто расположился на заднем дворе. Кирилл оборачивается и бокал ловко выскальзывает из руки, благо что на мягкую траву, не имея шансов разбиться.
— Это ещё что такое? — вырывается недовольно-недоуменно.
— Да как же! Это ж цесаревна наша! — выкрикивает радостно Верзилин, вскакивая со своего места. “Цесаревна! Цесаревна!” — раздаётся оглушительно со всех сторон.
— И правда она... я уж боялся, что никогда её не увижу, — завороженно произносит Еремей где-то за спиной, призывая к своей персоне недобрый капитанский взгляд. Одно дело — тайно, совершенно другое — открыто, когда братушки как один возьмутся сходить с ума.
— Увидел? Можешь возвращаться назад, — бросает строго, прежде чем сорваться с места и пойти навстречу. Еремей, по обыкновению, ничего не услышит и суть едва ли поймёт. Кирилл сокращает расстояние широким шагом, быстро оказываясь рядом. Спешно склоняет голову. Нежданный подарок на празднество. По невиданным причинам он и не думал видеть её сегодня. Быть может, из-за сугубо мужского общества, в котором каждый второй мечтает о чём-то большем, нежели букетик цветов. Ещё немного и вся рота изъявит желание поцеловать руку, а может быть, щёку. Бог знает, что на уме пьяных офицеров.
— Вы простите, цесаревна, наш нескромный вид, — майор пусть и просит прощения, однако улыбается широко и взгляда не сводит с её лица. Намекает на Волконского растрёпанного, в рубашке испачканной сажей. Сам разоделся, перед поездкой к родственникам, разумеется. — Знакомы ли вы с капитаном Волконским? Так жаль, но мне следует отбыть. Уверяю вас, капитан в обиду не даст, — похлопает по руке, тем самым заверяя в своих словах. — Раскрою маленькую тайну: здесь его даже боятся, — наклоняется к её уху, заставляя Кирилла невольно дёрнуться в их сторону и шире распахнуть глаза. Первая особа, от которой защищать надобно, успешно определена.
— Не заждалась ли вас супруга, Николай Юрьевич? — не выдерживает Кирилл и остаётся довольным произведённым эффектом. Майор спешно раскланивается и наконец удаляется. Однако же, надеяться на одиночество не приходится, когда вокруг ещё несколько десятков заинтересованных м у ж ч и н. Никто из них не собирается отбывать к родственникам.
— Чему обязаны вашим визитом, цесаревна? — натягивает улыбку, чувствуя, как напрягаются мышцы. Быть может, явление сие описывается одним простым, немудрённым словом — “ревность”. Взгляд опускается на корзину, снова корзину, в которой притаились вероятно, угощения, прикрытые большим белоснежным платком. Он догадывается какова цель визита, но хотел бы услышать, может быть в обстановке более приватной. Постепенно волны офицеров накатывают в их сторону, и Кирилл понимает, что сдерживать их в одиночку не сможет. Тогда приходится обратиться к своим полномочиям и несколько омрачить праздничный день. Сами виноваты, впрочем.
— Всем стоять! Смирно! — как никогда гулко звучит его голос, воздействуя на подчинённых весьма должным образом. Они замирают, прислушиваясь. Наступает хрупкая тишина. — Еремей, помоги цесаревне, — скомандовав, кивает в её сторону. Еремей шустро оказывается рядом, благодарно принимая корзину дрожащими руками и раскланиваясь перед ней. — Вам слово, цесаревна. Пока они не разошлись пуще прежнего, — голос теплеет лишь на миг, а стоит окинуть взглядом собравшихся в плотное кольцо рядовых, прапорщиков, знаменосцев и прочих, вновь хочется заголосить какой-нибудь приказ. Затишье длится ровно столько, сколько она могла говорить.
Волна хлынула снова. Гвардейцы бросаются поздравлять любимую цесаревну: самые скромные кланяются да пожимают осторожно руку, более распущенные и выпившие руку целуют, а обнаглевшие (по его мнению) расцеловывают в обе щёки. Кирилл стоит рядом и пристально наблюдает за каждым, постоянно пытаясь предотвратить излишние порывы нежности и всеобщей любви. Кое-кого удаётся незаметно оттолкнуть, сдержать, да только не уследишь за каждым изрядно набравшимся. Михайлов и пьян, и весел, и неизменно подвижен — бравый офицер, не иначе. Своего не упускает никогда и сейчас не упустит. Кирилл думать не мог, что кто-либо осмелится, вот и не усмотрел, не успел. Чужие руки оказываются на её щеках и чужие губы оказываются на её г у б а х. Глаза распахиваются от потрясения шире некуда. Несколько секунд оцепенения и Кирилл ухватывается за чужой кафтан, оттаскивая силой. Он и забыл, как приказывать, однако же, приказа было бы недостаточно; недостаточно и месяца, который Михайлову предстоит провести в конюшне, — будет чистить лошадей. Сердце забилось неожиданно гулко-тревожно. Быть может, он и целовал исключительно цесаревну, не подозревая даже что оная состоит в отношениях с кем-либо; быть может, поцелуй и оттенял поздравляющим характером, как принято на Руси от широкой и доброй души. Однако же, никакие оправдания приняты не будут, когда Волконский объявит о придуманном наказании — придумалось оно за считанные секунды. Быть может, Кириллу следовало на один день забыть о том, что Лиза е г о, а цесаревна принадлежит куда большему числу л ю д е й. Вопреки всему, подле него Л и з а. Он не может позволить какому-то Михайлову целовать его Лизу, хоть явись здесь сам воскресший Христос.
— Михайлов! Не приложился ли ты головой часом? Увести его, живо-живо! — поторапливает ещё крепко стоящих на ногах гвардейцев. Едва ли Михайлов уразумел, за какую провинность его волочат в неизвестном направлении. Он ведь, всего лишь поздравить с Пасхой цесаревну хотел. — На этом хватит...
— И правда! Цесаревна, а выпейте с нами разок, — вызывается Верзилин, уставший наблюдать за тем, как гвардейцы поздравляют. Шумящий поток уносит Лизу куда-то к столу, оставляя Кирилла чуть ли не в одиночестве. Неисправимые или неисправимый он? Сердце до сих пор колотится, а в голове не желает осесть мысль: её целовал другой! От клокочущих чувств дышит тяжело, сжимая плотно губы и наблюдая за действом из-под тени нахмуренных бровей. На плечо опускается тяжесть чьей-то руки. Он вздрагивает то ли от неожиданности, то ли от напряжённости и раздражения, какие охватили и душу, и тело.
— А, это ты, — отмахивается, когда рассматривает всего лишь лицо Володи в сумерках. Среди солдат водится традиция наведываться друг к другу, никто ведь не запретит в праздник. Вот и наведались артиллеристы, навеселе вливаясь в шумную компанию. — Черти, ей богу! Вот и что прикажешь предпринять? Всех на конюшни отправить? Так места не хватит.
— Ревнуете, Кирилл Андреевич. Что же вы так? Цесаревна наша общая, — нарочито задевает Володя, усмехаясь.
— Нет, — качает головой, — она моя, — улыбнётся беззлобно, прежде чем ринуться в самое, не иначе как пекло. — Братцы! А давайте попросим цесаревну спеть! Не одному же мне развлекать вас театральными представлениями, — вмешивается, успешно привлекая всеобщее внимание. Хитрость срабатывает, ведь каждый мечтает услышать её чарующий голос в пении. На лице засияет победоносная улыбка.
~~~
Счастливые, разморенные и пьяные гвардейцы угомонились лишь к темноте. От своего счастья они выпили лишнего и того вовсе не заметили. Гул голосов отчасти стих, однако находятся трезвые и прыткие, замечающие, что цесаревна собирается их покинуть. Увязываются за ними, радостно сообщая что готовы проводить её до самого дворца. Кирилл резко останавливается и бросает недобрый взгляд через плечо. Упускать возможности своей он не станет. Достаточно и того, что натворили братцы давеча. Щёки Лизы так и пылают от поцелуев.
— Нет! Я приказываю вам остаться здесь. Цесаревну провожу сам, — отрезает он строго, вызывая разве что недоумение на лицах.
— Не каждый ведь день цесаревна приходит к нам! — они цепляются за последнюю надежду, вероятно всерьёз собравшись провожать карету до самого дворца, если не до самих покоев.
— Господа, ежели у вас так много силы осталось, проводите своих братцев в кровати. Не обсуждается!
И после его категоричного приказа остаётся только подчиниться. Кирилл неосознанно накрывает её руку своей ладонью, которую поддерживает у своего локтя и не желая выслушивать ничего более, направляется к карете. Гвардейцы возвращаются с поникшими плечами к столам, собираясь скорее допить остатки вина и водки, а не проводить своих сослуживцев. Они ведь не цесаревна, и даже не прекрасные дамы. Он качает головой слабо усмехаясь, довольный наконец тем, что добился желаемого, — одиночества. Однако, Кирилл сталкивается с тем, что теряет слова, — столько ревностного негодования скопилось в душе. Упрямо молчит, прислушиваясь к шагам и звукам весеннего вечера. Лишь плотнее сжимает губы, будто напрочь отказывается г о в р о и т ь. Открывает дверь кареты и подставляет руку, помогая подняться. “Так и будешь молчать?!” — взбунтуется здравый рассудок, знающий, что встречи выпадают редко и глупо упускать момент. Непонятно, для чего ему понадобилось “одиночество”. Бормочет хмуро какие-то слова благодарности, прежде чем закрыть дверь. Но сердце начинает гулко биться в такт мысли “дурак-дурак-дурак!”. Ухватывается за дверь рукой, пока та не успела окончательно захлопнуться, и решительно её открывает. Нет, никуда она не поедет!
— Он тебя поцеловал, — констатирует мрачно, будто она того не знает. Быть может, позже Кирилл будет вспоминать себя и сей праздничный день со смехом, но сегодня произошедшее — это величайшая катастрофа. — Господи, Лиза, тебе нельзя здесь появляться! — вырывается отчаянно. Впрочем, нужно ли тревожиться, когда точно знаешь, что дальше невинных поцелуев не зайдёт. Он ведь, всегда рядом. Даже если не нужно, Кирилл не собирается так легко и быстро сдаваться. Ревность у него упрямая. — Могла бы отправить Марфу, право слово, — голос звучит более не твёрдо и мрачно, а умоляюще, будто ещё что-то можно исправить. Несколько секунд погодя в его голове появляются новые идеи, а душа требует возмещения ущерба.
Оглядывается внимательно, прежде чем скользнуть ловко в тепло и темноту кареты. Караульные давно валяются где-то без памяти, отпущенные с поста в честь праздника. Да и есть ли кому-то до них сегодня дело? Шустро командует кучеру трогать и тот, после сладкой дрёмы, видимо не разберёт кому голос принадлежал, встрепыхнувшись и подстегнув по инерции лошадей. Командовать ему не привыкать и не стыдно, даже там, где полномочия заканчиваются. Плевать! Он времени не теряет, обхватывая ладонями её лицо и целуя в губы до чрезвычайности. Сердце бьётся ещё быстрее, ещё громче. Поцелуи спускаются от подбородка по шее и рассыпаются горячо на открытой грудной клетке.
— Лиза... — сквозь сбитое дыхание, возвращаясь губами к лицу, — каждый день без тебя — мучение... не могу без тебя, — последнее шепчет, прежде чем пылким поцелуем накрыть её губы и всерьёз отпустить душу. Будь что будет. Карета понесётся ко дворцу под гулкий цокот копыт, выкрики веселящегося пьяного народа на улицах; ему придётся возвращаться назад, через ночной Петербург, но счастливые минуты с ней того стоят.
***
Сады пенятся цветущими вишнями и яблонями. Ветви сирени облеплены густым цветением. Сладостное благоухание манит певучих птиц и работящих пчёл, притаившихся в цветах. Манит нещадно. Манит не только их. Землю застилают малахитовые ковры, давно позеленели дубы, густые кустарники, в которых самое время притаиться. В голубом небе, резвясь и играя, грохочет первый гром. Нитями золотыми стремится на пышно расцветающую землю весенний дождь. Хрустальными перезвонами переливается день в солнечных лучах и соловьином пении. Он тихо подкрадывается сзади, накрывает невесомо ладонью глаза и потянув на себя, лишая равновесия, подхватывает на руки. Кружит неторопливо, плавно, перемещаясь вглубь дикого сада, цветущего нежно-розовыми сакурами. Волосы медные в золотистом свете солнца развиваются и сияют. Ослепительнее светятся только глаза-изумруды, в которых выразительна каждая грань. Его лицо лучится счастьем, неизменным счастьем долгожданной в с т р е ч и. На губах и во взгляде нежность. Капли дождя средь ясного неба падают на лица. Звенит смех в раскатах молодого грома, в шелесте зелёных ветвей и высокой травы. Они такие же молодые, такие же свободные, любящие. Пусть сбегаются тучи и хлынет ливень, пусть! До каждой новой встречи высчитывают дни, а порою и минуты. Пылко бьющиеся сердце не спугнуть. Бережно опускает на эту постель из мягких трав и полевых цветов. Осыпаются на её светлую кожу нежными лепестками поцелуи. А гром так и будет резвиться в небесах.
Кирилл смотрит на неё глазами, полными любви. Перебирает расплесканные пряди волос. Она лежит на совсем близко, опираясь о его грудь, и сердце нещадно щемит от ч у в с т в. В стороне и его скинутый мундир, и верхняя часть её свободного платья, утопающие в траве. Лишь одно маленькое обстоятельство нарушает идиллию, и он раздумывает над тем, как сие исправить. Быть может, книга действительно была интересной и оставалось прочесть несколько страниц, с чем мириться отказывается. Раздумья приводят к самому простому решению: вырывает из Лизиных рук эту книгу со смехом и отбрасывает в сторону.
— Это нечестно! — произносит то ли обиженно, то ли весело, не разобрать. — Неужто книга интереснее моей персоны? Послушай, я тоже кое-что могу, — поднимает взгляд, призадумывается, выискивая в памяти какие-нибудь романтичные строки. Не идёт сегодня Шекспир. Хочется любви, хочется пьянящей весны и никаких книг. Хочется больше Лизы, будто получил м а л о. — Затем-то мы и существуем врозь, чтоб оценил я прелесть красоты, — начинает столь удачно вспомнившийся сонет, гармонирующий с их несчастной судьбой. — И чтоб тебе услышать довелось хвалу, которой стоишь только ты, — голос звучит торжественно-восхищённо, пока рука поглаживает плечо, с которого соскользнула сорочка под корсетом. Корсет, впрочем, ему довелось научиться расшнуровывать и зашнуровывать обратно. И отметить стоит, ученик из него прилежный. — Разлука тяжела нам, как недуг... — обрывается, обнаруживая истинное предательство памяти. Продолжение сонета пробудившимся ветром сдувает, иль раскат грома столь громкий, что забывается всё. А ведь он собирался доказать своё превосходство над её любимой книгой! Поджимает губы, пытаясь вспомнить отчаянно и тщетно.
— Я забыл! Забыл! Не помню, что дальше, — признаётся вдруг честно сквозь смех. — Я всё забываю, когда ты возле меня. Уж больно ты красива, — наклоняется, выкрадывает сладостный поцелуй сквозь улыбку. — Эти строки описывают нас, как думаешь? — задумывается ненадолго. И впрямь, разлука тяжела как недуг. Встречаются они не столь часто. Василий Борисович будто что-то подозревает и возвращается к тому, чем помышлял прежде. Не оставляет в одиночестве. — Но мы с этим справимся, я верю, — откуда-то берётся бодрость в голосе. — Чем дольше ожидание, тем сладостнее встреча, — бережно убирает спадающую прядь на её лицо. — Я не скрываю того, что ревную даже к книгам. Они с тобой постоянно, вот в чём беда.
Снова сольются они в поцелуе, счастливые. Книга так и останется лежать во влажной траве. Дождинки алмазами будут сиять на солнце. Сладостный запах цветущих сакур запомнится надолго. Счастливых мигов череда может и оборваться. Василий Борисович располагает недурными советчиками, и наконец, пришло время эти советы испытать.
Поделиться112024-05-20 21:09:49
Приказ безотлагательно явиться во дворец прозвучал ранним вечером, когда солнце только начало клониться к земле. Кирилл безуспешно ломал голову, пытаясь найти оправдания и причины столь срочному вызову. Ежели ссылка на границы, то церемониться не станут. Ежели арест, то вызов точно не во дворец, а в застенки Тайной канцелярии. Лиза причастна быть к этому не могла. Его походы в её покои равны смерти, как и появление в окрестностях двора. Что же тогда? Император сошёл с ума иль решился самолично пристрелить? Кириллу не страшно, не любопытно: вовсе не может определиться с тем, что чувствует, направляясь в пристанище черта всея Руси. Страшиться можно только того, что никогда больше Лизу не увидит. Так и будет до последнего вздоха вспоминать сакуры и её нежную кожу, отдающую тепло, её красивую душу, её любовь к чтению с которой пришлось посоперничать. Губы трогает невольная улыбка от сих мыслей, а тем временем спрыгивает с Плутона и передаёт солдатам поводья. Дворец высится над ним грозно, — огромной, громовой тучей. Окна светятся вовсе не приветливо, а зловеще, будто насмехаясь. Желтый свет походит на пламя, стремящееся поглотить, испепелить дотла. В коридорах шаги разносятся эхом. Поверить невозможно в то, что когда-то дворец являлся местом уютным, светлым, где ждёт д р у г. Сердце от боли сжимается, стоит только подумать о Саше, вспомнить замысловатые пути, ведущие в его кабинет. После его смерти Волконскому посчастливилось не появляться во дворце. Лучше бы не появлялся. Лучше бы не подчинился. Император как ребёнок малый: надуется и забудет. Волконский отчего-то уверен в том, что никуда его не отправят: ни в крепость, ни на границы. Отголоски войны до сих пор слышны.
Василий Борисович стоит в конце коридора, выряженный, в сапогах высоких и наряде, расшитом переливающимися нитями золотыми. Вид императорский. Только рост маловат, скрадывает и без того напускное величие. Лицо неизменно бледное и помятое, как ни старайся он сие исправить. Румяна едва ли помогут. Держит руки за спиной, всем видом показывая, что не боится. Быть может, научился делать вид, а вздёрнутый подбородок, дрожащий чуть, выдаёт какой-то внутренний страх. Кирилл видит перед собой не императора, даже не человека, а существо, которое от собственной боязни и несостоятельности поднимает руку на женщину. Он не был свидетелем того дня, однако множество раз представлял как э т о происходило. Невольно. Ненависть и презрение — ядрёная, опасная смесь разливается внутри. Крепко сжимает пальцы в кулак, так же невольно. Делая усилие, минует расстояние, целую пропасть, между ними. Будь его воля, оставался бы на расстоянии в версту, не меньше.
— Ваше Величество, — склоняет голову, — вы хотели меня видеть, — голос сам собой звучит отстранённо-холодно. Надо бы воспользоваться своими актёрскими способностями. Надо бы не выдавать собственное презрение, дабы не раззадорить его слишком быстро. Кирилл крепче сжимает кулак, а выражение лица меняет на более добродушное и светлое.
— Да, хотел, капитан, — звание произносит неразборчиво и быстро, словно от самого слова возникает чувство неполноценности собственной. — У меня для вас хорошая новость, — указывает рукой на дверь. Они заходят в его собственные покои, где уже горит множество свечей, а на круглом столике стоит графин полный вина и начищенные до блеска бокалы. Кирилла одолевает ещё большее замешательство, чего не показывает. Наблюдает невозмутимо. Хорошая новость заключается в том, что Его величество решил выпить с ним вина? Эта новость сталась бы ужасной, однако, возможно кое-что и похуже. — Не желаете вина? — звучит вопрос, оправдывая худшие опасения. Василий Борисович по лицу читает, что никакого вина капитан не желает. — Жаль, настоящее французское вино. Я хочу увеличить партии, поставляемые в Россию. Хочу поделиться с моим народом.
Становится тошно до невозможности. Делиться винищем с народом, — это, разумеется, признак хорошего правителя. Страна на краю пропасти, а он смеет народ называть с в о и м. Люди невинные погибают от голода и холода, а он раздумывает над увеличением винных партий. Кирилл отмалчивается, лишь кивая слабо головой, дабы поддерживать хоть какое-то участие.
— С этого дня вы назначены в мою личную охрану. Имеете ли вы что-то против этого?
Взгляды встречаются. Казалось, что хуже быть не может, однако оно случилось. Голицын мимолётом упомянул о том, что сам Александр Петрович едва заставил Волконского служить в ординарцах. Тот не соглашался. И теперь Василий Борисович ожидает подобной реакции, ожидает взрыва, после которого можно будет действовать свободно, исходя из ситуации. Кирилл чувствует, как королевские покои качаются, точно судно в сильный шторм. Нет, ошибается, хуже будет лишь впереди. Приказ ли это? Терпит ли отказа? Не терпит. Император славится тем, что отказов не терпит никогда. Он — не Саша, с которым бесстрашно мог вступать в полемику всяческую. Он этого и ждёт. На лице написано. Кирилл делает глубокий вдох, выпрямляя спину. Только для чего ему это? Они друг друга ненавидят. Доверят свою жизнь и безопасность Волконскому не безумно ли?
— Ежели так нужно, я не смею противиться приказу, — произносит тоном ровным, голосом не дрогнувшим. Обо всём подумает позже. Не угадаешь какой из ответов верный, точно игра с огнём. Быть может, верного и не существует. Он — всего лишь зверь, в клетку загнанный.
— Что, убьёшь меня ненароком пока никто не видит? — криво усмехается Василий Борисович, а после хохочет, переводя сказанное в шутку, весьма дурацкую. Кирилл наблюдает за ним снова с холодностью и неприязнью, однако быстро одумывается, заставляя себя улыбнуться как-то перекошено. Над шутками положено вовсе смеяться.
— Вы не позвали бы меня, если бы чувствовали опасность, не так ли?
Смех сиплый стихает. Василий Борисович кивает головой, всё ещё держа руки за спиной. Придётся следовать подсказкам Голицына, а не собственным. Быть может, однажды повод избавиться от Волконского появится.
Самое страшное случается, когда распахиваются двери. Кирилл предпочёл бы навечно остаться запертым вместе с ним, нежели видеть э т о. Лиза появляется на пороге и его сердце срывается в чёрную, бесконечную пропасть. Для чего она здесь? Страшно делается теперь. Их взгляды пересекаются и теперь они оба точно пойманные в ловушку. До чего же у м н ы й, хитрый ход. Быстро уводит глаза, лишь бы не сдать себя окончательно. Не сдать их. Не предать их редкое счастье. Кому-то происходящее начинает доставлять удовольствие.
— Моя дорогая кузина!
Василий Фёдорович мигом срывается с места и опуская свои руки на её талию, притягивая к себе, целует в щёку. Это не весёлые гвардейцы, не пьяный Михайлов, не безобидные поздравления, вызывающие ревность. Это настоящая угроза и беспомощность, потому что императора силком не оттащишь. Стой смирно и смотри, как потешаются над тобой.
— Я приготовил для вас лучшее французское вино, — придерживая за талию, затянутую туго корсетом, подводит её к столу с вином и свежими фруктами. Не успевает Кирилл выдохнуть, как один удар следует за другим. Опьянённый то ли радостью встречи с кузиной, то ли собственным успехом, и м п е р а т о р совершенно трезвый, снова притягивает её к себе и запечатлевает на губах долгий поцелуй. Показательный. Горделивый. Не удовольствие ли, доказать, что может целовать свою кузину когда заблагорассудится? У в с е х на виду. Нет большего довольства, чем знать, что сейчас происходит в душе Волконского. А именно, уничтожающий всё существо, пожар. Костяшки пальцев нещадно белеют, кулаки дрожат. Верно, императора не оттащить. Здесь не до мальчишеской ревности. Здесь хочется вынуть саблю из ножен или пистоль заряженный. Казалось, сильнее ненавидеть невозможно. Глупость. Он ненавидит сильнее с каждой секундой мучительной. Беспомощность выбивает из тела все силы, которые ещё пригодятся. Мало ли что удумает черт в сапогах после. “Можно ли об этом забыть, Лиза? Можно ли?” Вспоминает её слова, сказанные в ту ночь, лишь бы не отправился совершать справедливую расправу. Он весь трясётся от поглощающей злобы. Они всего лишь имели глупость решить, что перемирие продлится вечно. Ошибались. Планы императора идут куда дальше обычного поцелуя, сведённого к ш у т к е. Делает вид простой, глуповатый, будто и забыл о присутствии третьего лишнего в покоях. Он пытался сделать этот поцелуй приветственно-родственным, безобидным, когда вышло совершенно иначе. Желание обладать не скроешь.
— А вы, капитан, ожидайте снаружи. Вы мне ещё понадобитесь, — обращается навеселе к Волконскому. Едва ли понадобится. Суть в другом: поиздеваться, отыграться за всё своё унижение. Оставлять их наедине не хочется, готов согласиться и вина выпить, да только никто теперь не предложит. Приходится покорно склониться перед самим ничтожеством. Смириться или положить голову под топор, — выбор невелик. Не решается посмотреть на неё из-за хлынувшего стыда. Не остановил, не предвидел, снова ничего не сделал, как и в первый раз. Только первый раз действительно был невинным. А следовало попытаться. Сделать всё, лишь бы она этого унижения не терпела. Так и задумывается, уходя прочь, достоин ли её. Глупый, беспомощный человек. Может быть, и недостоин.
Часы, отбиваемые гулко в коридорах, тянутся мучительно долго. Кирилл бродит из стороны в сторону понурив голову. Моментами старается прислушаться к тому, что происходит за дверью. Услышит ли, ежели будет происходит нечто выходящее за все границы? На глаза наворачиваются слёзы, совсем не мужественно это выглядит, но так и застывают в уголках, не скатываясь по щекам. Быть может, вызванные не тем, что увидел, что пережил, а предчувствием будущего. Теперь он будет рядом постоянно, и ему радоваться. Нет, вовсе не радостная новость. Василий Фёдорович сделает всё, чтобы выместить свою злобу сполна. Забредя бездумно куда-то дальше положенного, поднимает помутнённый взгляд и видит фигуру якобы знакомую в отражении зеркала. Оборачивается порывисто, хватаясь за призрачное спасение.
— Господи, Кирилл Андреевич, вы бледны как полотно! — восклицает встревоженно голос, и фигура выступает из мягкой полутьмы коридора. — Что вы здесь делаете?
Узнаёт в человеке-спасителе князя Вяземского. Хочется разреветься как в детстве, когда столкнулся с первой суровой несправедливостью и побежал в объятья к отцу. Тот, быть может и строгий военный человек, но пожалел. Нет, впадать в детство он не станет. Иметь двадцать три года отроду, чин капитана и военный опыт, а при этом выглядеть жалко и беспомощно, — не порочит ли это честь дворянскую? Иль честь мужчины? Впрочем, проницательный князь понимает без слов, догадывается о порывах души дать слабину.
— Я не знаю, что делать, — первое что отчаянно срывается с уст, забывая о всяких проявлениях вежливости в виде должных обращений. — Мне нужен ваш совет, — поднимает блестящий взгляд на бодрое, живое лицо князя, сообщающие о готовности всегда п о м о ч ь. — Вы знаете... да, вы знаете. Что мне делать?
— Знаете, друг мой, есть у меня двоюродный племянник, — Григорий Сергеевич приобнимет за плечо по-отечески, приглашая пройтись по коридору, — ребёнок шкодливый! Любит он над другими детьми подшучивать. Чем сильнее они обижаются, тем больше он подшучивает. Ему доставляет несказанное удовольствие чужая обида. Я им и говорю: обиду свою не показывайте. Тогда ему быстро наскучит. И знаете каков результат? — заглядывает в лицо действительно побледневшее, отражающее душевную муку. Кирилл обессиленно качает головой. — Наскучило. Теперь у него другие забавы. А ещё, неплохой манёвр: притвориться дурачком. Поверьте, тоже быстро наскучит. С дураками водиться никто не хочет, особенно настоящий дурак. Тут нечего доказывать. Подумайте об этом.
Удивительно, сколь быстро Григорий Сергеевич определил суть проблемы. Лишних слов не понадобилось. Кирилл осмысливает услышанное, останавливаясь. Тот терпеливо всматривается в лицо, покрытое полумраком.
— Но это не исправит того, что он уже посягнул на её честь, Ваше сиятельство, — собственный голос звучит сипло, вымученно, точно преодолел трудную дорогу в сотни вёрст, без передышки. Несколько минут всю его жизнь перевернули.
— Могу вам точно сказать, что всем спокойнее будет, находись вы рядом с ней. Кто если не вы поддержите её? Она не только вам нужна, но и всей России, — прозвучит до нельзя таинственно, словно смысл вкладывался неведомый в эти слова. Словно вся Россия заведомо на что-то надеялась. Кирилл поймёт суть многим позже, а пока они прощаются и ему приходится вернуться на ненавистный пост.
~~~
Он видит её, выходящую из покоев императорских, и замирает на месте. Невозможно пошевелиться. Невозможно дышать. Невозможно существовать. Её взгляд. Каким будет её взгляд? Разочарованным? Обиженным? Гневным? Холодным? На словах все герои, а когда время действовать, — трусы последние? Не он ли говорил, что не отдаст? Лицо точно бледнеет пуще прежнего в тусклом свете редких горящих свечей. А что случилось с ним? Напился винища и заснул? Хочется думать, что не ошибается в догадках. Здоровье императора не столь крепкое, чтоб ночь напролёт хлестать вино и держаться бодро. Впрочем, плевать, плевать! Мысли вовсе не об этом. Мысли о том, что будет дальше. Возникает совершенно неуместный страх приблизиться. Если и впрямь недостоин? Он читал письма, злился, грозился расправиться, да только в действительности всё иначе. В действительности беспомощность и её голос, просящий ж и т ь. Ему жить почему-то не хочется, ежели так будет всегда. Не будет Волконского — императора станет с к у ч н о. Разумеется, иное имел в виду князь Вяземский. Громко бьют часы, и этот звук глушащий изнутри выбивает сомнения, страхи, чувства. Он быстро сокращает между ними расстояние, падает перед ней на колени, губами припадая к руке.
— Лиза, прости меня! Прости, прости, — надорванный голос звучит умоляюще, — пожалуйста, прости меня, — не иначе как раскаивается в грехах смертных. А сердце рвётся на куски безжалостно. Поднимает голову, решаясь заглянуть в её лицо. Снова влага в глазах и снова они блестят слезами, которые так и застынут. Краснеют предательски глаза. Чуть погодя наклоняет голову и упирается несильно лбом в живот, продолжая на коленях стоять. За временем гнаться отныне бессмысленно. Он и не гонится, не знает сколько они простояли в полумраке коридора.
А лучше бы прогнала?
***
Весенняя гроза расшалилась в компании ветра и дождя. Под вечер, когда темнота объяла улицы столицы, вовсе началось главное действо. Весна в Петербурге приобрела свой обыкновенный вид. После поездки верхом под хлещущим ливнем, он наконец-то спешивается и передаёт лошадь (Плутона пришлось оставить в конюшне приватности ради) в знакомые, надёжные руки. Дом сей, обещавший стать надёжным пристанищем, сам по себе знакомый и надёжный. Проворный мальчишка проводит через чёрный ход, где обретается прислуга. По случаю светского приёма царит суматоха, стоят в воздухе разгорячённом окрики, вскрики, указания. Из кухни валит пар и аромат аппетитный, пробегают мимо лакеи во сюртуках нарядных и париках с лентами, — носят туда-сюда на подносах богатые угощения. Звенит посуда, пахнет дорогим вином из бочек, лает мешающийся под ногами пёс, в котором хозяйка души не чает. Внутри уютно, тепло и отчего-то б е з о п а с н о. Его никто не узнает: лицо надёжно прикрыто тенью надвинутой на лоб треуголки, с концов которой падают холодные капли. По случаю дня рождения какого-то человека из свиты французского посла отсутствие эдакого охранника осталось незамеченным. Да и говоря честно, караул посменный. На какой-то один день император удачливо позабыл о своём изощрённом плане и привычно отдался веселью, французскому вину и обществу, которое приходилось по душе. Он даже фразу бросил, мол врагов у него нет и никакой охраны не надо. Вероятно, успев опустошить одну бутылку. Кирилл следует за мальчиком уверенно, нисколько не волнуясь за то, что придётся объясняться поутру. В его голове до сих пор не ужилась истина, гласящая что теперь он якобы в личной охране императора. Полнейший вздор. Быть может, никакие бумаги и приказы не подписаны. Это была всего лишь шутка и желание причинить б о л ь. Последнее удалось сполна. Этим вечером думать о своей несчастной судьбе он не собирается. Шагает решительно вперёд, поднимается по лестнице и вскоре оказывается перед дверью, которая надёжно запирается на ключи, — оный оказывается крепко зажатым в руке. Мальчишка исчезает в стороне, где звучит музыка, смех, звон бокалов и отголоски светских бесед. Вера Константиновна устраивает частный бал. В списке приглашённых сама цесаревна Елизавета Петровна. И разумеется, в списке отсутствует фамилия Волконского.
— Прости, я торопился как мог. На улице ливень, — снимает треуголку и промокший плащ, оставляя подле камина, от которого веет сильным теплом. В иной раз непременно бы подбежал к ней не задумываясь, а теперь отчего-то медлит. Впрочем, любовь сильнее сомнений. Сомнения вовсе грех. Он подходит к ней, не отрывая взгляда от глаз. — Лиза... — срывается жарким шёпотом, как последняя капля, спусковой крючок. Целует её отчаянно, истосковавшись вновь по губам, по ней. Тоска эта непроходящая, вечная. — Ты останешься на ночь? — отрываясь от губ спрашивает так, словно от ответа положительного зависит вся его жизнь. — Не уезжай. Ты нужна мне сегодня. Нет, дело не только в том, что я по тебе истосковался, — качнёт головой, умоляюще разглядывая её лицо вблизи. — Ну... конечно, в этом тоже, — исправляется, позволяя себе лукавую улыбку и огонёк в глазах. — Балы длятся до утра, ему ли об этом не знать. А я как-нибудь выкручусь, не привыкать.
На круглом столике стоит поднос. Вера Константиновна — женщина мудрая, проницательная. Не даром покровительница молодых особ. Вино отобрала лучшее и виноград должно быть, самый сладкий. Кирилл наполняет бокалы из фарфорового графина, чувствуя необходимость согреться и сбросить напряженность, то ли от холода сковавшее, то ли не отпустившее до сих пор после самого жуткого дня его жизни. Он точно струна натянутая, готовая порваться в любой миг. А ему нужно держаться, нужно. В крепость ему нельзя. Только бы не забывать напоминать себе об этом.
— Мне нужна твоя помощь, — скидывает кафтан, несколько промокший тоже. Теперь все верхние части мундира осторожно разложены на стульях и сушатся подле камина. — Кое-какая польза может быть от моего присутствия во дворце, только если я буду знать французский, — начинает расхаживать по комнате и тут останавливается, выразительно глядя на Лизу. — Рано утром я слышал разговор. В нём точно упоминалось имя Саши. И ещё кое-что... — взгляд уплывает в сторону, и он задумывается будто, стоит ли продолжать. Отпивает вина, прежде чем вдохнуть и продолжить. — Завещание. Оно есть, Лиза. Понимаешь? Оно есть. Почему я не думал об этом раньше? Какой же дурак, — сжимает пальцы в кулак, но так и не ударит по столу, лишь безвольно опускает руку и бокал. — Всё могло быть по-другому. Не мог Саша оставить страну ему, — и он снова смотрит на Лизу, смотрит и вдруг его озаряет ослепительным светом. Кому же тогда? “Одной с таким не сдюжить”, — звучит голос умирающего, затухающего друга. Кирилл как-то невольно покачивается, ухватываясь рукой за край стола. Головокружительное озарение. Впервые он допускают догадку: а что, если она? Впервые смотрит и видит в ней “императрицу”. Видит в ней отражение Петра Великого и всеми любимого Александра Петровича. Видит перед собой Р о м а н о в у, законную наследницу. Ведь на троне должны быть Романовы. Иначе быть не должно. Голова нещадно кружится, сердце колотится, лицо наверняка снова бледнеет. Он и не заметил, как наступил тот миг, когда относительно беззаботное существование остаётся позади. Теперь думать надобно о державе всерьёз. Искать предателей. Исполнять последнюю волю законного, истинного императора.
— Господи... дурак, — прикрывает глаза на мгновенье, склоняя голову. — Завещание украли, секретаря убили. Я не знаю кто мог украсть. Поэтому мне нужны уроки. Я не шучу. Не думаю, что оно лежит у нашего канцлера. Судя по всему, каждый уверен в том, что его нет, — всматривается в её лицо как никогда внимательно, лишь убеждаясь в том, что Саша вычертил её имя на бумаге. Только догадку не выскажет. Пока не убедится. Мало ли в чём нынешняя власть усмотрит измену Родине и царской фамилии. Слишком рано. Слишком они слабы. Но будь его воля, тотчас же отправился бы поднимать полки. — И я не сомневаюсь в том, что его убили, — опускается на ковёр возле кресла, в котором она сидит, опираясь спиной. Отчего-то такое положение находит комфортным. Быть может потому, что легко словить её руку и задержать на своём плече. — Если престол российский займет некто, кто его не достоин, значит мои худшие подозрения подтверждены и самые близкие люди всадили мне нож в спину, — так он писал в своём предсмертном письме.
Кирилл задумчиво наблюдает за пламенем в очаге некоторое время, прежде чем осознать сколь неожиданными оказались его душевные излияния. Он писал о подозрениях в своём письме, писал, однако весьма туманно о том, что Саша умер не собственной смертью, не по причине болезни. А теперь не сомневается. Чёртовы французы переполошили его душу, жаждущую теперь справедливости и расправы с настоящими злодеями и врагами Родины. Разворачивается лицом в её сторону, глядя пытливо-встревоженно.
— Прости... я не хотел так... Лиза, я не понимаю, что должен делать, мне кажется, я запутался, — утыкается лбом в её колени, мотая головой, — и устал. Все устали. А этот кошмар обещает длиться долгие годы. Только если мы не найдём завещание, — отрываясь от колен, снова смотрит на неё. Знать бы только, что кошмар истинный лишь приближается. Отличие лишь в том, что тогда никто задумываться и медлить не станет — схватятся на сабли и шпаги сразу. — Я не хочу сейчас думать. И французский учить тоже. Займёмся этим позже, — улыбается лукаво, позволяя себе т а к и е вольности. Ничего не сделается с Россией, ежели на одну ночь он забудет о ней и будет думать только об одной девушке, которую любит б о л ь ш е.
Он приподнимается, озадаченно начиная рассматривать замысловатость её красивого платья. Разумеется, на бал она не могла явиться в домашнем. В саду было совсем другое. Бросает сосредоточенный взгляд на лицо Лизы. Постукивает пальцами по своим губам, от глубокой задумчивости вероятно.
— И ты не поможешь? Ах, Лиза, почему же ты не взяла с собой Марфу? — вздыхает обречённо. Его мозг вскипает от сложных конструкций женского наряда; кажется, куда более сложных, чем устройство пистолета или часов. Множество частей, названия которых ему неизвестны, так как мальчиков в детстве такому не учат, скрепляются мудрёными способами друг с другом, и он упрямо разбирается с ними. Самое время научиться. В сей момент вовсе не до обжигающей душу страсти, скорее до хохота и обругивания законодателя моды. Чёртовы французы умудрились напакостить даже с женским нарядом. — Право слово, Елизавета Петровна, вы не могли надеть на бал мундир? — хмурит брови и до последнего элемента выглядит сосредоточенным предельно. Только корсет расшнуровывает с довольной улыбкой, успев прежде натренироваться. Остаётся сорочка до колен и белоснежные чулки. — Ну что, кто лучше справляется: я или Марфа? — улыбается ей в лицо, ловко манипулируя руками за её спиной. Правда, ему неизвестно сколько времени прошло, пока заменял горничную. Известно лишь то, что конец где-то близко. Увлекает Лизу в поцелуй долгий и пылкий, уверенный в том, что дальше справится даже с закрытыми глазами.
~~~
Они лежат в мягкой постели, объятые жаром и рассеянным янтарным светом. Дождь мерно барабанит за окнами. Дождём пахнет в комнате — его запах Кирилл принёс с собой. А ещё пахнет цветочными духами и дубовым сухим деревом. Поленья уютно трещат в очаге. Одежда всё ещё удивительно аккуратно сложена. Пока разделывался с её платьем, была возможность и прибегнуть к аккуратности. Не всегда же наводить кавардак в порыве страсти, а после обнаруживать одежду в самых неожиданных углах. Они шли к фееричной кульминации неторопливо, наслаждаясь каждым мигом. На его лице слабая, уставшая, но блаженная улыбка. Пальцы путаются в волосах медных. Кожей чувствует и вбирает в себя тепло её обнажённого тела, красивого безо всяких мудрёных костюмов-головоломок. Пальцы вырисовывают узоры, сбегая от очертаний ключиц к груди. Он улыбается, думая о чём-то своём. Мысли согревают и без того опалённое сердце.
— Не так давно я впервые задумался что будет если... — обрывается, как-то невовремя вспоминая о том, что их отношения слишком свободны, не признаны. И он тот, кто безвозвратно опорочил честь девушки. “И ты принять не можешь мой поклон, чтоб не легла на честь твою печать”, — вспоминаются строки шекспировского сонета, как нельзя точно описывающего их любовь. Не один Волконский начинает задумываться о об этом. Где-то зреет план о пышной свадьбе и увы, в обоих умах невеста с одним лицом. Пока Кирилл ничего не знает и улыбается безмятежно, решая, что в конце концов, говорить может с ней обо всём откровенно. — Если бы появился ребёнок, — ладонь тёплая накрывает её живот под одеялом, а взгляд полнится нежной мечтательностью. Мечта глупая. Им только этого не хватало для пущих бед. — Отец всегда говорил, что первым должен родиться сын. У него так и вышло. Вздор какой-то. Я хочу дочь с твоими зелёными глазами, — заглядывает в её глаза, улыбаясь. Так и останется тема незавершённой, застывшей в тёплом воздухе. Он замолкает, утыкаясь взглядом задумчивым в потолок, и уголки губ несколько поникают. Их счастье, что никакого ребёнка до сих пор нет. А ему бы предпринять решительные действия. Ему бы поторопиться.
— Расскажи что-нибудь на французском. У тебя красиво получается. Очень... привлекательно. Честно говоря, тебе очень идёт быть влюблённой, — и улыбка плутоватая снова появляется на лице. — И это правда, тебя собирались отдать за французского короля? — чуть нахмуривает брови, скорее игриво, изображая ту самую игривую ревность. — Какая жалость, — смешинки прячутся в едва заметных морщинках вокруг глаз, — вот почему я обязан выучить этот язык. Не спрашивай. Слухи о чём только не ходят. Просто услышал, — пожимает невинно плечами. Ему вообразить тяжело, невозможно, что было бы, окажись она замужем. Быть может, они бы никогда не повстречались. Быть может, он бы через всю жизнь пронёс с собой несчастную, безответную любовь. Но никаких французских королей более, разве что один русский и совершенный болван. А целовать её может Кирилл и столько, сколько душе захочется.
— А у меня нет любимого сонета, — вспоминает вдруг её письмо. — Они все хороши, только когда вижу тебя, все строки из головы вылетают, — подсмеивается. — И пьесы его страшно любить, больно они похожи на жизнь, иногда. Во все века проблемы любящих людей одни и те же. Взять хоть нас, чем не шекспировская трагедия? И горько, и сладко от этой любви, — голос и взгляд становятся серьёзными уж слишком, когда перед глазами последние тревожные события жизни мелькают. Не будь любви, не было бы и боли. Не было бы счастья. Не было бы губ и рук, которые хочется целовать. Он тянется за поцелуем. Ведь знать наверняка невозможно, какой из них станет последним. До сих пор им благоволит удача, не иначе.
Дождь продолжит лить, заливать и размывать дороги, скатываться по крышам. Ночь покажется счастливой вечностью в своей неторопливости.
***
— Чем же плох нынешний император, любезный друг мой? — поинтересуется будто бы отвлечённо граф Салтыков, перебирая карты. На карточном столе стоит графин с австрийским вином.
— Он вступил в близкие отношения с Францией, и это, признаться, тревожит австрийский двор. Позвольте, не только австрийский. Англия первая, кто противится сему союзу и собирает сторонников.
Австрийский полос юлить не умеет, будто поучился у немцев. А быть может, он не сомневается в том, что собеседник его поддержит. Салтыков улыбается уголками губ, как положено светскому человеку, с неким презрением и насмешкой. Раздумывает над картой, какой сделает следующий ход.
— Что же, мы с вами мыслим похоже, — однако не торопится поддерживать откровенно, желая послушать да понаблюдать. Игра делается опасной и ежели за стеной притаился а г е н т, то завтрашним утром висеть ему на дыбе, а после — на виселице.
— Рассудите сами, граф, — разводит руками посол. — Король ваш — не Романов. Сенаторы позабыли о внуке Петра Великого, верно? — взгляд его падает на веер карт, только угадать пытается не карту и не дальнейший ход на карточном столе, скорее на стол политическом. Внимательный взгляд австрийца следит за каждым движением на лице русского графа. — Вас это тревожит, — смело заявляет он, указывая пальцем на Салтыкова, точно в самую его душу. — Да и канцлер хорош. Я слышал, полномочия его доходят до императорских. Россией правит Борис, а не сын его. Вы на это не рассчитывали. О, мне не нужно шпионить за вами, чтобы понимать суть вещей.
Граф Салтыков настороженно отводит назад веер из карт, откидывается на мягкую спинку стула и отвечает австрийцу таким же пристальным взглядом. Довериться иль нет? Чего так страстно желает этот человек? Верно, сенаторы полагали, что договориться с Василием Борисовичем будет л е г к о. Полагали, что недалёкость сыграет лишь на руку, забываясь сколь хитёр его отец. Теперь великой державой правит род Апраксиных. Род выходцев из низов. Позорище на международной арене. Позорище Империи. А ведь внук Петра пусть и мал, но фамилию носит. Салтыков знает, что союзники за его спиной имеются и сильные. Опускает карты на стол.
— Что вы хотите предложить мне? — спрашивает наконец прямо.
— В Европе есть люди, которые готовы сделать поездку императора последней в его жизни. Они не желают действовать, не заручившись поддержкой кого-то из влиятельных русских.
Салтыков усмехается — неприкрытая лесть. Влиятелен ли он теперь? Единственный, кто имеет влияние — Борис Апраксин.
— Им нужен предводитель, желательно кто-то из ваших людей. Надёжный, знающий русский лес и военное дело. Я готов отправить своих людей. Уж поверьте, они вам понравятся.
Можно ли не воспользоваться шансом смыть столь позорное пятно с чести державы?
***
Василий Борисович внял совету доброго друга: держит врага подле себя, держит уверенно и даже справляется с чувством зависти. Иногда ему кажется, что является полным безумием, будто держать подле себя Волконского полезно. Оный служит верой и правдой России, а следовательно, и монарху. Иначе толку от службы? Некоторые особы начали смотреть с уважением, появилось чувством защищённости, потому что управляется он с оружием ловко. Страх оказаться в смертельной опасности отступает. И вопреки всему, до невозможности раздражает его связь, иногда кажется, что призрачная, с любимой кузиной. Держится Волконский непоколебимо. Ни разу не дал повода заподозрить нечто большее, чем обыкновенные дружеские отношения. Ни разу себя не выдал. Провокации оказались бесполезным ходом, только навредившим после недолгого затишья. И вот, случилась поездка. Дальняя поездка всегда таит в себе опасность. Дороги полнятся разбойничеством и диким зверьём. Следовательно, отбирать следует лучших. Приходилось признать безопасности ради, что капитан Волконский из лучших.
Кирилл скачает верхом на Плутоне впереди императорского экипажа, поставленный во главе гвардейского отряда, собранного в качестве охраны. Серые тучи снова расступились и оставили место для белоснежных облаков в лазурном небе. День погожий, тёплый, полный птичьего пения. Он знает: в карете подле императора сидит о н а. Лиза повсюду сопровождает Его непризнанное Величество. Волконский тоже. Разве что не приходило тому в голову снова лезть с поцелуями, быть может, замечая постоянно отвлечённый, холодный взгляд серых глаз. Кирилл старался усиленно изображать равнодушие. Старался слиться с тёмно-бирюзовыми мундирами, которые сосредоточено сугубо на исполнении долга. Отчего-то теперь уверен в том, что Лиза в относительной безопасности. Распускать руки в карете этот дурак не станет. У него есть вино и красивый вид. Пусть и тошно признавать, что красивым видом зовётся она. Картеж продолжает двигаться в намеченном направлении, никакого отхождения от маршрута не должно быть. Но вдруг Плутон резко останавливается, бьёт копытами беспокойно о землю поднимая клубы пыли, и норовит вовсе на дыбы подняться. Ударяет сильный запах дыма и гари. А перед глазами догорающий мост. Выжженные, чёрные балки дымятся, дотлевают. Кирилл отдаёт приказ остановиться всей процессии и также резко останавливаются лошади в упряжке кареты. Спешивается и не церемонясь, потому что церемонии на службе излишни, открывает дверь. Разве что склонять голову всё ещё приходится, быть может, не перед императором, а перед цесаревной.
— Ваше Величество, впереди сгорел мост. Продолжать путь мы не можем. Желаете вернуться или отправиться через лес? — смотрит на него строгим, солдатским взглядом. Большего от служивого человека и не требуется, кроме хорошо исполняемой работы. Василий Борисович бросает несколько перепуганный взгляд на Лизу, будто она может помочь в принятии решения. Не в каждую поездку и не каждый день горят мосты.
— Почему... горит? — спрашивает заметно потеряно. Опасности явные на его пути по сию пору не возникали. Страшно ведь. Страшно.
— Не могу знать. Естественных причин не вижу. Могу предположить, что разбойники, — предполагает и мысленно подвергает сомнению, склоняясь к варианту более мрачному. Император изволил продолжать путь объездной дорогой и тогда Кирилл понимает, что кто-то этого и ждёт. Или его воображение попросту разыгралось, не унявшееся после войны. Снова кланяется и дверь закрывает. — Разворачивай! Едем через лес! — отдаёт приказ кучеру, а рука ложится на эфес шпаги и сжимает крепко.
— Как думаете, почему он сгорел? — всё же спросит Василий Борисович у своей кузины.
Впрочем, догорающего моста оказалось недостаточно. Посреди леса отпадает колесо у императорской кареты, а в небесах ясных раздаётся зловещий гром. Кирилл снова бросается к ним, когда карета опасно покачивается, а колесо летит к черту в густые заросли. Помогает им выбраться и тогда замечает детский страх в глазах, казалось бы, императора всемогущего; тогда понимает, что должен и его защищать несмотря на недавнее прошлое, несмотря на желание застрелить или придушить. Иногда, или часто, он всего лишь брошенный ребёнок. А ей бы вовсе остаться во дворце, вместо путешествий по лесу, где вдруг горят мосты и ломаются кареты невзначай. Ему думать не хочется о том, что действует чей-то продуманный план. Крепко сжимает её руку в своей, помогая спуститься на землю, пока Василий Борисович занят обеспокоенным рассматриванием обступившего, дикого леса.
Кучер, кряхтя и бранясь, сползает со своего насиженного места, дабы заняться починкой. Заползает под накренившуюся карету с деревянным ящиком инструментов, и разражается свежим потоком отборной брани. У них дело чести — браниться. Сообщает о том, что ремонт продлится до вечера, а если свезёт, управится и раньше. Гром в небе наводит только больше страху и от этого страха да нежелания оказаться мокрым, император приказывает установить шатёр. Под покровом белым он и скрывается вскоре, где подают обед слуги, разместившиеся во второй карете, следующей за императорской. Аппетит разыгрывается, а п и т ь хочется сильнее прежнего. С чего бы вдруг мостам гореть? Каретам ломаться? А гром зачем гремит? Рука его так и дрожит.
Кирилл расхаживает в этом образовавшемся, небольшом лагере, прислушиваясь к разговорам прислуги и некоторых придворных, которые на своих фаэтонах держались императорской процессии. Проверяет кучера, который, однако, добросовестно продолжает браниться и воевать с колесом. Тревожно в лесу. Посеревшее небо замыкается в плотном кольце деревьев и верхушек елей да сосен. Птицы смолкли, не слышится их заливистый, тонкий щебет. Военный опыт подсказывает: не случайно, не случайно, притаилась опасность. Враг в открытом поле — не столь страшно, как враг тайный, стоящий за спиной. Тревога стремительно разрастается внутри. Ещё немного и отразится на его лице. Замечает Лизу в стороне, на поляне, усеянной полевыми цветами. Оглядывается: кажется, никому никакого дела до них нет. Все озадачены стечением неудобных обстоятельств. Кирилл подходит к ней, осторожно-бережно берёт за руку — оба в перчатках, но тепло чувствует и помнит нежность рук слишком хорошо. Так и приходится красть секунды, незаметные прикосновения, взгляды.
— Всё будет хорошо, — заверяет твёрдо; да только простит ли себе такую ошибку? Жизнь начинает преподавать жестокие уроки, — один похлеще другого. Взгляд падает на помятую траву под ногами и совершенно невзначай цепляется за что-то мелькнувшее металлом. — Это от оси кареты, — мыслить вслух не стоило, пожалуй. На ладони раскрытой переливается металлический хомут, идеально подпиленный. — Помоги мне поговорить с ним, — ладонь сжимает в кулак, поднимает просящий взгляд на её лицо. — Не уверен, что он меня послушает.
Оказавшись под натянутым шатром, в очередной раз встречается с болезненными глазами, столь дурно скрывающими страх. Его прогулки по лагерю даром не прошли. Слишком быстро одно связывается с другим, да только не доставляет облегчения. Кирилл смекает что находятся они в самой настоящей ловушке. Обычное дело — за императором охотятся опасные люди. Его сердце колотится от страха не за особу коронованную, а за особу, которая рядом стоит. Она в не меньшей опасности. Обычно убивают всех. Кирилл сойдёт с ума наверняка, если не придумает выход, план, отступление. Но по молодости иль по глупости, совершает одну ошибку за другой. Слишком уж тревожится. Слишком этому человеку не доверяет.
— Ваше величество, за нами охотится как минимум отряд опасных людей. Не спрашивайте откуда знаю. Моё дело — знать, когда вам угрожает опасность. Карета была поломана заранее, — оставляет подпиленный хомут на столе, перед взором Василия Борисовича. Мы должны немедленно что-то предпринять. У нас недостаточно охраны.
Глаза напротив всё хуже и хуже скрывают с т р а х. Он пытается храбриться, приосаниться, но каждый раз проигрывает. Кирилл чувствует себя безжалостным вестником дурных новостей, однако иначе нельзя. Иначе слишком опасно.
— Не думаю, что отряд преследователей станет делиться. Моё предложение заключается в следующем: вы возвращаетесь назад под видом кого-то из вашего окружения. Кто-то из прислуги переоденется в вашу одежду и продолжит путь. Тогда те, кто будут впереди, примут удар на себя. По крайней мере, отбиться будет легче в вашем отсутствии. Проиграть биту будет не страшно, — качнёт головой, едва веря собственным словам. В иной раз он бы обрадовался восстановлению справедливости. Если бы не Лиза. Если бы не она. О ней он нарочно ничего не говорит. За материалом шатра полупрозрачным мелькнёт чья-то тень и Кирилл точно знает, кому она принадлежит.
Через несколько часов случается чудо: не иначе как с помощью Божьей и чудотворной силой брани отремонтировано колесо кареты. Кирилл проводит Василия Борисовича самолично и тот не замечает, что садится в свою собственную карету, охваченный страхом. Надо же было уродиться императору с таким досадным пороком. Кирилл нарочито действует против плана, заметив отсутствие некоторых особ из свиты. Закрывает дверь качнув головой, не позволяя Лизе сесть в карету. Он не знает, где будет опаснее и, пожалуй, просчитывается.
— Останься со мной. Я не могу отпустить тебя с ним. Не могу, — тихим надорванным голосом, не терпящим, вероятно, возражений. — Ты можешь вернуться домой и тебе ничего не будет угрожать. Трогай! — выкрикивает кучеру и тот команду исполняет незамедлительно.
Он хотел, чтобы она осталась. Хотел, чтобы она вернулась во дворец, когда императорская карета продолжила прерванный путь вперёд. Он наивно полагал, что рядом с ним всегда безопаснее. Какая глупость и ложь. Тем временем предатели подбросили записку притаившимся в лесу преследователям. Короткое сообщение передавало суть того, что император возвращается в столицу.
~~~
Кирилл понимает, что просчитывается, когда вдали слышатся первые звуки борьбы. Получив сообщение, отряд европейских солдат бросился из надёжной засады назад; как они были убеждены, следом за Императором Всероссийским. Они получили довольно простые и ясные указания: не возвращаться с дурными новостями в Европу. Кириллу приходится признать, что императору ненавистному жизнь с п а с, и лучше бы отправил Лизу вместе с ним. Лучше бы чувства глупые не вмешивались, не затуманивали рассудок. Она не успела отбыть от разваленного лагеря, где так и остался стоять шатёр. Больно торопился император, подгоняемый страхом. Он не знает кинуться ли они преследовать. Наверняка, кинуться. Наверняка, жалкое количество гвардейцев (половину пришлось отправить с императором) не выдержит бой. Кирилл саблю вынимает из ножен, хватает её за руку, не придумав ничего лучше, чем упрятать в лесу. Прочёсывать лес они не станут. А быть может, станут?
— Я знаю, что ты не боишься, — смотрит на неё умоляюще. Она и стрелять, и фехтовать умеет, и девушка вовсе бесстрашная, но Кирилл этого не переживёт. — Но пожалуйста... — обрывается, так и не договорив просьбу. В стороне раздаётся выстрел. Срывается с места, убегая вглубь леса и увлекая её за собой. Хотел попросить с п р я т а т ь с я. Так будет проще драться. Так будет проще. Впрочем, проще было бы, окажись она сейчас в карете с Василием Борисовичем, который не подозревает, что конечного пункта таки достигнет.
— Никуда не уходи. Я вернусь. Я вернусь за тобой, — сжимает её плечи, глядя в глаза. Едва ли она куда-то уйдёт, разве что решится им помочь. Кирилл почему-то уверен, что вернётся. Быть может, и вернётся. Сердце колотится быстрее и громче от каждого выстрела и звона орудий где-то вдали. Место кажется надёжным. В лесу она не потеряется точно, он не сомневается, потому и решается оставить её совершенно одну.
Их приключение на четверых кажется детской забавой, сущим пустяком. Он ведь обещал, не оставлять. Обещания держать выходит скверно. Драться с солдатами-неумёхами, да ещё и москвичами, куда проще, чем с неизвестным врагом в мундире, кажется, австрийской армии. Кирилл взбирается на Плутона, мчится навстречу гомону боя и выстреливает из пистолета на ходу, попадая в пару недругов. Впрямь, австрийская. Натренированы недурно, судя по тому, что биться остались несколько русских гвардейцев. Остальные на земле проколоты и застрелены. Их оказывается больше предполагаемого. Значит, плохо расслышал разговор графа Салтыкова. Жалкий остаток гвардейцев пытается разве что защититься и бой этот длится продолжительное время. На лице появляется свежая рана, кровь размазывается по виску. Их оттесняют всё ближе к временному лагерю. Вероятно, австрийцы под командованием не иначе как русского, ожидают т а м найти императора. Найти и перерезать саблей, как убитого одного из русских офицеров. Войны было мало. А у Волконского руки почему-то дрожат. Убитых видеть он едва ли может. Поля, устланные трупами, не забываются. Уже и треуголка слетела с головы и кафтан новый нещадно портится от касаний острия сабли. Он вовремя уворачивается, спасая себя от ещё одного ранения и быть может, смерти. Боковым зрением замечает, как отделяется от основного отряда пара человек и бросается в сторону, в лес. Пелена застилает то ли глаза, то ли рассудок, а ярость так и вскипает внутри. Только не в лес. Только не туда, где о н а. Он отбивается отчаяннее, свирепее, не щадя ни себя, ни своего врага. Бросается следом за ними, оставляя гвардейцев добивать чёртовых австрийцев. Случится ли новая война? Плевать! В голове и сердце бьётся только одно: Лиза, Лиза, Лиза.
— Лиза! — вырывается из груди громко, неистово. Он оглядывается судорожно по сторонам, забывая напрочь, где её оставил. Теряется в обилии зелени, среди однообразных высоких сосен-мачт, дубов раскидистых. Перед глазами расплывается мир, и голова кружится нещадно. Сколько же ещё ошибаться он будет? Вспархивает птица испуганно с ветки. Он слышит шелест травы, возможно, её голос. Но не слышит того, что должен. Не видит. Видит только её и на секунду, несчастную секунду испытывает облегчение. Дурак — это меньшее, что скажет о себе. Каков дурак! Она падает в его объятья под звук выстрела и этот выстрел самый оглушающий, самый б о л ь н ы й в его жизни. Пуля вонзается вместо его сердца в её плечо. Шальная пуля. Птицы продолжают вспархивать с веток и кружить под небом беспокойно. Раздаётся ещё один выстрел и человек, которого позже будет хотеть воскресить да снова пристрелить, падает безвольно на землю. Стрелял гвардеец.
Её тело постепенно тяжелеет, оттягивает к земле. Быть может, это он силы теряет. Его пронзает десяток пуль — боль именно такая. Обессилено опускается на землю, держа её в своих руках. Поднимает одну руку и находит её окровавленной. Рана кровоточит. Рана, рана, рана. Смотрит исступлено на дрожащую алую ладонь. Он не думал, что однажды увидит е ё кровь. Не думал, что способен причинить ей боль или вовсе у б и т ь.
— Нет... нет... — на глаза наворачиваются слёзы и теперь уж стремительно скатываются по щекам, падают на руку и мешаются с кровью. — Лиза... Лиза! Зачем... зачем же... — ладонью касается щеки и уже плевать, что испачкает. Надо было попросить Лизу жить в ответ, потому что он т о ж е устал терять. Устал терять товарищей. А эту потерю не переживёт. Точно знает, что не переживёт. Повесится, бросится в реку, застрелиться и не промахнется, потому что смысл жить бесследно растворяется. — Зачем ты это сделала... — и она не ответит. Его, глупого дурака, спасать от пули не следовало. Он бы справился, пережил, если только не в сердце выстрел. Ему было бы не т а к больно. — Господи... Лиза... — голос надорванный содрогается. Осматривается по сторонам в поисках какой-либо помощи. Не каждое ранение смертельное, ежели вовремя п о м о ч ь. Сердце неистово колотится в грудной клетке. Сердце не знает, сколько ещё пробьётся и как ему биться дальше.
Лиза, разве ты не знаешь, что я не смогу без тебя?
Поделиться122024-05-20 21:10:35
Поздняя весна, как впрочем и раннее лето, когда деревья уже вовсю оделись в сочную зеленую листву, а над кустами сирени, роз и гортензий вовсю возились пчелы, в Остафьефо были, пожалуй, лучшими временами года. Хотя, положа руку на сердце князь Вяземский любил находиться в загородной усадьбе круглогодично. Осенью, когда над парковыми дорожками и сонными закоулками огромного сада, клубился туман и в окна белоснежного, словно бы парящего над землею дворца стучали ветки пожелтевших деревьев, не было лучшего места для провидения поэтических вечеров и литературных салонов [да собственно говоря последние здесь никогда и не прекращались, казалось]. Усадьба погружалась тогда в меланхоличную мечтательность и сумрачное осеннее небо лишь подчеркивало эту ее уединенность. В это время года озеро, которое было таким старым, что наверняка видела еще предков нынешних правителей, который казалось нет-нет, да выйдут из него, разворошив ворох листвы, которая покрывала его несколько месяцев, дружным строем в латах и с тяжелыми копьями. Зимой, укрытая девственно-чистым снегом она становилась еще более тихой, казалась задремавшей и почти нежилой, но обитатели ее всегда знали, что в любой момент могут нагрянуть хозяева, которым надоел шум Петербурга, а здесь оказывался на иначе как их «эдем». Здесь, в тени белоснежных колоннад, соединяющих несколько зданий с главным дворцом, казалось скрывалось что-то почти магическое – не зря ведь так любят судачить о «нелепостях» князя, о его увлечениях то искусством, то Востоком с этим его странными практиками, то и вовсе ведовстве и цыганах. Что-то из этого и впрямь соответствовало действительности — Востока в усадьбе, как и в главном дворце в Петербурге было много, да впрочем как и других диковин, до которых князь был большим охотником, ведовством сколько угодно раз могли звать склянки и лекарства его дочери, которой может и не следовало с детства позволять забирать книг из огромной библиотеки отца, экземпляры для которой он свозил со всех тех стран, в которых успел побывать и насчитывающей более двух тысяч теперь томов, но которую уж точно нельзя было обвинить ни в каких глупостях вроде того же самого ведовства.
Григорий Сергеевич, в расшитом шелковом халате с изображенными на нем журавлями, сидит на террасе, наслаждаясь тонким ароматом чая, привезенным из китайской провинции Фуцзянь, то и дело принимая фарфоровую чашку из протянутых рук верного Цзы Чаня. Китаец привычно молчалив, но за внешней миролюбивой умиротворенностью всегда скрывался его острый наблюдательный ум. Да и как забыть тот факт, что под широкими полами халата всегда скрывался маленький, острый нож, которым тот умел пользоваться как никто другой. Впрочем, сомневаться в собственной безопасности никто не приходилось – китаец, привезенный вместе с миссией предан был ему беззаветно и искренне, наотрез отказываясь покидать своего «lǎoye», после того, как тот спас ему жизнь. И никакие уговоры, угрозы не помогли – не собирался князь сначала тащить с собой этого невысокого человечка из чужеземья, да только тот все равно увязался за процессией пусть даже тайно, а бросать его в степи оказывалось бесчеловечным. И, хотя он все еще настаивал, что никакие «рабы господину» не нужны, Цзы Чань остался с ним, в итоге превратившись в молчаливую тень, но бесконечно при этом преданного и интересного собеседника, быстро обучившегося русскому, пусть и говорящего на нем с забавным восточным акцентом. Григорий Сергеевич так до конца и не знает всех тех тайн, что скрывали умения его то ли экзотического дворецкого, то ли личного телохранителя. Но сомневаться не приходилось – последовавший в «варварскую холодную страну» китаец мог не только мастерски заваривать чай или делать специальные примочки от головной боли, основываясь на знаниях китайской медицины, но и в ядах разбирался не хуже и при случае и надобности наверняка мог бы отравить кого угодно не раздумывая, по одному щелчку пальцев своего «господина Григория-цзы», при этом даже следов не оставив. Яды в Китайской Империи, которую доводилось посещать князю с посольством, пожалуй, были делом гораздо более привычным, нежели здесь, в России, где вернее было устроить кровавый переворот, зарубив кого-нибудь мечом или теперь уже шпагой или просто бросить гнить в крепость или всенародно казнить. А здесь могли и не казнить, но человек все равно исчезал бесследно, даже без наличествования Тайной Канцелярии.
Цзы Чань к обязанностям своим подходил всегда серьезно, а иногда через чур. Стоило многих усилий и знаний языка, чтобы убедить его по началу не падать ниц перед ним или Варей, а после не принимать все слова многочисленных гостей Григория Сергеевича за чистую воду – русский юмор он ведь не такой однозначный. Но русский юмор понимать китаец отказывался. И не зря, потому что бывали случаи, когда после очередных посиделок, личный спутник его перед сном заходил к нему и с недобрым взглядом говорил, что только «господин пожелает и Цзы Чань разберется с обидчиком, который оскорблял днем и дураком называл». Как он разбираться будет не уточнял, но приходилось объяснять, что дурак – это иногда и не обидно вовсе, а мысли такие требуется оставить, а лучше доучивать русский и не нести ереси. Но, так или иначе знания свои по части лекарств и, очевидно ядов, он обсуждал непосредственно с Варей. Но до недавнего времени думалось князю, что сведения эти останутся невостребованными. Пока его дочь не начала утверждать, что в деле безвременной смерти императора Александра, виновата была вовсе не непонятная форма чахотки, а попросту яд. Григорий Сергеевич, разумеется позвал верного слугу, отчитал, пригрозил за забивания опасными мыслями буйной головы дочери отправить куда подальше, но тот с неожиданным для себя упрямством, пусть и не поднимая головы, твердил: «Цзы Чань знать – не похоже это на болеть. Это похоже на отравить».
И вот тогда князь Григорий Сергеевич Вяземский – полковник гвардии в отставке, дипломат, меценат и прочая и прочая, человек далеко не глупый, но отошедший от дел и двора, уставший от бесконечной подковерной грызни и все равно при этом удивительным образом пользующийся уважением, сообразил, что ходят они по тонкой и опасной черте, а страна возможно уже давно ее перешла и как бы не хотелось ему забыться в уютной тишине Остафьево – усадьбы в нескольких десятках верст от столицы, забыться уже не выходило. Из головы опытного в свое время царедворца в бытность свою вице-канцлером повидавшего много, не выходил тот факт, что никто и не заметил, как в стране переворот произошел. Вот чудеса! В том, что императора убили – он не сомневался. Почти не сомневался и в том – кто и чьими руками. Но талант князя Вяземского всегда содержался в том, чтобы при любой расстановке шахматных фигур на доске выходить из партии по крайней мере с наименьшими потерями. Иные горячие головы непременно пошли бы угрожать главным действующим лицам, выражать неповиновение и прочее. Как бы не относился князь теперь к нынешнему императору, что бы не думал о нем про себя, внешне он оставался нейтрально-вежливым, приглашал того осматривать большое собрание картин, собранных за всю свою жизнь Василия Борисовича и не участвовал активно ни в чьих интригах. На том и оставался серой силой, которую никто не воспринимал врагом, но которую любили как друга. В свое время он достаточно хлебнул, чтобы не желать ввязываться во все это снова. Достаточно, чтобы удалиться от двора, проводя как можно больше времени теперь не в разъездах по Востоку или Европе, а дома, покровительствуя талантливым начинающим литераторам, художникам, архитекторам [один из таких и спроектировал Остафьево, а после скончался от оспы, а ведь мог еще столько шедевров создать]. Дома тут этого вообще когда-то и не было. Князь купил эту усадьбу у одного в конец разорившегося господина Журавлева. Липовая аллея парка стала весомым аргументом в пользу покупки – он то мечтал, что будет пить чай с липовым медом, не обращая внимания на то, что охотничьих угодий здесь нет, да и вообще место казалось захудалым. Но приоритеты у сумасбродного князя всегда отличались от других. Близлежащее село Остафьево и 150 душ крепостных были куплены «в довесок».
Молодежь тянулась к Вяземским за атмосферой творчества и некоего подобия вольнодумства, разглядывая диковины, свезенные сюда со всего света, ставя весьма смелые театральные постановки, проводя диспуты и называя и дворец Вяземских близ Фонтанки и непосредственно усадьбу «Русский Парнас», сравнивая с обителью муз в Древней Греции. Любой начинающий и подающий надежды поэт, художник или скульптор точно знал, что может рассчитывать на его поддержку. Конечно, консерваторы, непременно называли все это обителью не иначе как «греха», заполненную «бесовскими статУями», но они молчали – в конце концов именно Петр Первый подарил его коллекции первую картину, а дочери книгу по арифметике. И так было как-то проще. Быть странным чудаком [а теперь еще и старым], исколесившим пол земного шара, никогда толком не находившимся на одном месте и от того не умевшим толком распоряжаться всем своим многочисленным хозяйством от чего дома его были всегда несколько нелепы, обеды слишком свободны, разномастны, да и вообще толком не было порядку, все было в легком хаосе. Крепостных он никогда не бил из-за чего видно и ленились, но насилие как известно порождает насилие, да и глупость это в их время иметь труд рабский, когда давно доказано, что труд вольный куда эффективнее. Так было проще – уйти из дворцовой жизни, из политики, сбежать и раствориться, выстроив себе свою обитель и не вспоминать. В душе он знал, что попросту прячется. А теперь, да еще и после обозначенных событий с вероятным отравлением догадывался Григорий Сергеевич, что скоро все же придется вновь выбирать на чью сторону доски вставать – ведь именно поэтому так плохо дается ночной сон. О времена, о нравы!
Варя опускается на соседнее от него кресло, поставленное под ласковое вечернее солнце, которое того и гляди закатится за горизонт, но напоследок золотит медовым светом поверхность озера, белоснежные колонны и парковые дорожки, пробиваясь сквозь густую листву деревьев. Ветерок, набежавший невесть откуда перебирает иссиня-черные волосы, донося легкий запах трав и острый кисловатый запах настоек, который всегда ее сопровождал помимо запаха духов, тени причудливо ложатся на красивое лицо – вот оно, живое напоминание, почему не хочется ему даже близко начинать во всем этом участвовать, ведь в случае чего пострадает не столько он, он то что – уже пожил свое и достаточно, а она. Юная, красивая, непокорная и удивительно похожая на нее. В ней угадывалось что-то цыганское, но по сути цыганского ничего в ее крови не было, кроме этого гордого нрава. Будь его воля – он никогда не пустил бы ее во дворец, но он был отцом, а она девочкой, а девочек не пристало таскать за собой по посольствам и чужим странам, а с его безалаберной жизнью девочка просто не получила бы ни воспитания, ни образования. Впрочем, не сказать, что она росла такой уж послушной своим учителям, которые сменялись одни за другим, жалуясь на ее характер. «Девочка избалованна» - заявила ему однажды очередная воспитательница, кажется в тот раз англичанка. Но досталось не Варе, а ей – получила расчет, была обозвана в сердцах «набитой дурой», а Варю, которая отказывалась спать в те времена без света, он долго укачивал после и обещал, что теперь уже никуда ездить не станет. Правда обманывал и уезжал, не находя возможности долго находиться д о м а, продолжая убегать.
— Ты принял капли от головной боли? – спрашивает почти строго, без обиняков особенных, отмахиваясь легонько от пригревшихся на солнце мух, отправляя в рот кусочек сушеного инжира. В этом была она вся – то неожиданно строгая, кажущаяся неприступно-высокомерной барышней с тем самым роковым типом красоты, который принято называть теперь разумеется на французский манер «la femme fatale» - женщина, влечение к которой приводит к гибели героя. Ироничная, приземленная. То неожиданный ребенок, с детскими проделками и неожиданно простая. Ему бы побеспокоиться о ее замужестве, но достойных по его скромному мнению не было. Да и скажи он ей, что подыскал жениха – рассмеется в лицо, слишком вольная, как те же цыгане. Дворец извращает, но императрица сама в определенный момент пожелала видеть его дочь в составе фрейлин Ее Высочества, а возражать он не стал.
— Приму на ночь. Уж больно горькие, — словно оправдывается, как все тот же тушующийся ученик перед учителем, не выполнив заданного урока, с любовью разглядывая изящный профиль дочери. Ему стоило догадаться, что она вырастет ее копией, стоило заранее знать, что судьба посмеется над ним, но эту насмешку он воспринимал с благодарностью, почти как благословение.
— Зато действуют, — отрезает она, усмехаясь то ли над его ребячливым нежеланием пить горькие микстуры, то ли каким-то своим мыслям. Она любила его, своей особенной любовью, которую так не любила демонстрировать перед окружающими, но о которой он знал и которой возможно не заслужил за все эти годы. Она трогательно переживала за каждое его покашливание, мигрени или боли в суставах быть может именно поэтому родившись такой восприимчивой к медицинской науке, которой как верилось могут обладать только мужчины, ну или знахарки в деревнях. — Ты как ребенок, право! Раз уж отпустили меня в твою дыру, я надеялась заняться твоим здоровьем, а ты устраиваешь саботаж! Нечего сказать – хорош князь!
— Ну от чего сразу дыру? – добродушно возражает Григорий Сергеевич, пожимая плечами и прислушиваясь к тому, как чирикают птицы где-то в кронах парковых лип. — Покойное место, Варюша. И кавалеров хоть отбавляй здесь, как очередной салон откроем…
Ее улыбка становится кисло-недовольной, она закатывает глаза, удивительные глаза, которые волей-неволей делали мужчин ее добровольными рабами, ему ли не знать, если и сам когда-то давно пал такой добровольной жертвой перед другой женщиной. Они казались голубыми, почти сними по краям, но если присмотреться ближе к зрачку радужка расплывалась зеленовато-карим ободом и от того цвет ее глаз даже описать было невозможно.
— Увольте, эти кавалеры начнут читать стихи и признаваться в любви снова и снова. А стихи некоторые весьма посредственны, к слову, — Варя передергивает плечами, а он рассмеется грудным смехом, качая головой и разглядывая дочь из-под густых бровей.
— Ну, Варвара Григорьевна, в стихах я лучше разбираюсь, их мне оставьте. А весна она знаете ли время любви, — добрые голубые глаза теплеют.
— Папа́, я знаю, еще немного и вы заведете песню о том, что вам нужны внуки на старость лет, — она недовольно морщится, словно видит в этом нечто предрассудительное или неприятное. — А любовь – выдумка ваших же поэтов. За редким исключением, — она словно вспоминает сама это редкое исключение, усмехается и продолжает. — К тому же, разве теперь не лето?
О, он много мог рассказать ей о любви. В частности о том, что любовь это конечно же в основном мука, от которой он сам с удовольствием бы отказался или избежал бы. Он мог бы поспорить с ней, но не станет, так как все равно не смог бы привести примера – она просто не видела ее, не помнит ее, а он никогда не делал попыток к тому, чтобы рассказать больше. Может он и сам виноват в том, что она одаривала мужчин лишь кратковременными вспышками интереса, а после забывала, не желая долго задерживаться, как не желает долго держаться на одном месте вольный ветер, дергающий цыганскую кибитки из стороны в сторону. Иногда ее рассуждения о браке сводились к плоскости такой же рациональной, как ее любимые научные труды и учебник по арифметике. Было бы все иначе, если бы никогда не было того дня?
Они не поднимают тему отравления императора с тех пор, как он запретил об этом говорить, впрочем не запретив думать и проводить опыты от чего и пропадает она целыми днями в своей «лаборатории». Запретил он говорить об этом и Цзы Чаню, который обычно слушался его беспрекословно, но проблема состояла в том, что не менее беспрекословно слушал он его дочь, наблюдая за взрослением которой также называл ее «фужэнь» или «тайтай» - госпожа. Он молчаливо сносил всю брань, с которой неизменно культурный Григорий Сергеевич на него обрушивался, подавал даже плетку, мол, бейте, но выполнял ее просьбы, которые с некоторых пор становились все опаснее, если об этом прознают. Плетку князь в сердцах отбрасывал в сторону и, хлопая дверью, отправлялся гулять по неубранным [все те же ленивые крепостные] дорожкам парка, находя в этом какое-то утешение. Кому-кому, а Варе точно в это дело лезть не следовало, он это чувствовал, знал по своему опыту, как это может быть опасно в конце концов. Его искренние симпатии были не на стороне действующей власти, но он за эти годы научился вообще никакие симпатии никому не показывать и ни от кого при этом не скрывать их же. Он не успел зарекомендовать себя как сторонник той или иной силы, хотя многие и пытались перетянуть князя на свою сторону – шутка ли, сам князь, род которого происходил от князя Ростислава-Михаила Мстиславовича Смоленского, внука самого Владимира Мономаха. Правнук его, князь Андрей Владимирович, прозванный "Долгая Рука" убитый в 1224 г. на реке Калке, получил в удел Вязьму и был родоначальником князей Вяземских. Древний, известный род, уважение в конце концов – но тщетно, он ведь давно вроде бы определил, что более никакие «разделы» его не интересуют. Да и стране они не нужны…вот только в последнее время мантра эта что-то не работала, как бы не старался. И странное чувство не покидало его и сегодня и даже теперь, когда находился князь в уютном уединении и покое любимой усадьбы. Будто что-то произойдет. А обманывался он редко в своих предчувствиях.
Солнце лениво закатывалось за крышу, за купола Свято-Троицкой церкви, спрятанной за деревьями, когда запыхавшийся сторож [охраны личной он здесь держал очень мало – в основном сосредоточив ее там, в Петербурге], путанно объясняя что у ворот на подъездной дороге стоит-де карета, требуют-де впустить, ругаются, грозятся, да и вообще кажется «не в себе молодой человек, небось больной какой». Григорий Сергеевич слушает эту путанную, запыхавшуюся речь, удивленно приподнимая брови и как-то не припоминая, чтобы он кого-то ждал сегодня тем более под вечер. Тем более кого-то столь ретивого. Тем более, что со слов сторожа, который видимо ворота так и не раскрыл, оставив нежданных гостей у входа, те грозились эти ворота напрочь сшибить, потому что им так срочно надобно попасть на территорию и к князю непосредственно.
— Так что делать, Ваше Сиятельство? Прикажете поворотить назад-с? – вопрошает Терентий, почесывая затылок спутанных под париком волос. Парики его крепостные носить не научились – вечно какие-то скособоченные.
— Ну отчего ж? Кому-то понадобились, значит встретить надо. Пускай, да пусть едут ко входу – там и узнаю, что у нас за гости.
Он поднимается со своего места, одергивая полы длинного халата и направляясь с террасы вниз, к невысокому крыльцу, через длинную тенистую коллонаду, стараясь отбросить как можно дальше то самое ощущение, что случиться нечто примечательное прямо сейчас. И все же определенное спокойствие привносила молчаливо метнувшаяся следом за ним тень китайца, не собиравшегося выпускать своего господина из вида.
***
Волконского он узнал сразу, завидев издалека и приветственно взмахнув рукой, но совершенно при этом не расслабившись. К нему словно вернулась военная выправка – так ровно и напряженно держал он спину. Цзы Чань разместился поодаль, сложив руки на груди, пряча их в широких рукавах, очевидно как обычно ожидающий, что это не к добру – черт бы побрал он эту подозрительность. «Надвигается ливень в горах, весь дом пронизан ветром» - гласит китайская пословица, обозначающая, что надвигается сложная или опасная ситуация. Черт знает почему надвигается она именно с этим еще по сути юным, но таким отличившимся человеком, она казалась следовала. Следовала за его необычайно бледным лицом, которое буквально разве только не кричало о помощи — видно это было и невооруженным глазом, что уж говорить о нем, о человеке, который при всей своей добродушности и даже некоторой мечтательности, которая накладывалась на него по средствам его деятельности и покровительству творчеству, знал хорошо человеческую натуру и повидал всякое. Ужасно опасная черта при дворе, куда занесло нелегким ветром Кирилла Андреевича [и не ветром, а скорее ураганом, который к тому же и тучи над его головой нагнал], не уметь лгать. Впрочем, раз он до сих пор в порядке и никто и не ведает о том, какие истинные чувства питает он к цесаревне, значит он по крайней мере если не лгать, то скрывать их научился. Но не теперь, не теперь.
Григорий Сергеевич дожидается, пока карета, запряженная замыленными и нервными лошадьми остановится на присыпанной песком дороге, подходя к ней и начиная преувеличенно было:
— Кирилл Андреевич? Какими судьбами к нам?... — сам же он бегло, незаметно оглядывает карету, очевидно дворцовую, судя по вензелям, но не императорскую разумеется, иначе о визите было бы доложено, да и для императорской свиты не достает людей. Недоброе предчувствие роется в груди как черви роются в мертвом трупе лошади. Слишком капитан бледен, слишком взмылены лошади оказываются, словно их гнали как можно быстрее. Слишком неожиданный визит. — Кирилл Андреевич, право, лица на вас нет, — князь Вяземский сдвигает брови, последние капли деланной беззаботности слетают с лица, он словно становится старше, пролегают в уголках губ морщины. — Могу ли я помочь вам?... — это срывается невольно, может быть и не стоило спрашивать, потому что придется отвечать, а что-то подсказывает, что отказать уже не сможешь.
Он лишь сильнее поджимает губы, предательски дернется жилка на виске, как только развернется перед его глазами картина, которая тихой жизни Остафьего совсем не подходит и наверное нарушит ее навсегда. Укрытая наполовину теперь съехавшим плащом цесаревна, ужасно бледная [мертвенно-бледная, если честно говорить] и с отвратительной кровавой раной, расплывающейся по плечу. В голове проносятся тысячи мыслей, тысячи вопросов, которые следует задать и главный из них: «Как это вышло?». А может быть и иной: «Но что я могу?». Он переводит взгляд потяжелевший с неподвижно и опасно-тихо лежащей Елизаветы Петровны на Волконского и обратно. Он молчит лишь пару мгновений. Пара мгновений за которую навсегда изменится и его жизнь в том числе, пара мгновений за которые долгие годы нейтралитета, бегства то ли от реальности, то ли прошлого, то ли от самого себя, надобно нарушить. А может к черту – отослать, покачать беспомощно головой, вернуться к своим литераторам и поэтам, к спасительной тишине, где никогда прежде кровь-то не проливалась?... Но боже, боже мой, картина, которая открылась его глазам так напоминает другую, которую он вытравливал из своей памяти, точно такой же девушки, из-за которой князь так и не женился повторно.
Она оседает на его руках, неожиданно потяжелевшая. И это странно, неправильно, почти противоестественно – его Нуся, как он всегда ласково ее называл, всегда была легкой-легкой, все одно что пушинка, а здесь тянет всей тяжестью свинцом налитого тела к земле. Он опускается за ней, пока руки окрашиваются в кроваво-красный, как и ее светлое платье, как и ее губы, на которых лопаются один за одним красные пузыри. Кожа становится белоснежной на фоне черных волос, а алая кровь, отвратительным цветком расползающаяся по грудной клетке, которую крест на крест перечертил удар холодным острием шпаги, кажется особенно яркой. И нет, не должно так быть – его смешливая грузинская княжна не может быть такой неподвижной, такой н е ж и в о й. Она ведь танцует так прекрасно, засматриваться приходится, а теперь даже не может дотянуться до его лица, толком. Он успевает поймать неожиданно холодную руку жены в тот самый момент, когда она почти дотягивается до его щеки, прижимает ее к своей щеке, прижимает так крепко, словно этот жест должен вернуть жизнь в потухающих так стремительно глазах. Но он знает, что как только отпустит свою руку – ее безвольно упадет вниз. И он кричит, плачет, словно малый ребенок, а вовсе не князь, участвовавший ни в одном сражении, призывая на помощь. И к ним и правда спешат теперь со всех сторон те, кто разобрался с нападавшими, спешат к ней и к нему, застывшими посреди огромной и пустой бальной залы недавно отстроенного дворца, куда должны были переехать вместе с новорожденной дочерью, где еще сохранялся запах свежей краски и дерева. А он все прижимает обездвиженное и холодеющее на руках тело к своей груди, раскачиваясь из стороны в сторону и отказываясь его отдавать, рыдая так, как не рыдал никогда и никогда теперь уже не будет. А его крики растворялись в подвесных люстрах, в расписных плафонах, его сгорбленная фигура в форме отражается в зеркале напротив, в котором также отражается и хрупкая фигура жены, у которой тонкой струйкой стекает с губ кровь. Ее лицо неживое больше, ее губы не станут больше улыбаться, она больше никогда не заговорит.
— Зачем Нина, зачем… — шепчет неразборчиво, продолжая тупо раскачиваться с ней в объятиях, отлично зная, что не получит на это ответа никогда. — Лучше бы меня, лучше бы меня…
По нему скажут – помешался. И вроде бы только подтвердят это тогда, когда откажется отдавать тело княжны для похорон, повторяя, что та не любила темноты. И только когда сбитые с толку няньки принесут безутешному отцу плачущий и вертящийся в их руках сверток, разводя руками и заявляя, что: «Мать ищет», а он возьмет дочь на руки, с похоронами все же определятся. Смоют кровавое пятно с паркета, а он будет укачивать дочь, которая стала сиротой, прося прощения у нее заранее, расхаживая по дворцу с ней на руках и не расставаясь до того момента, пока она не заснет, убаюканная отцовскими руками.
А потом он уйдет в отставку со всех дворцовых должностей, потом он будет убегать все дальше и дальше от дворца, где мерещилось кровавое пятно на месте той, которая решила, что его жизнь ценнее.
Пара мгновений молчания.
Перевернутая жизнь и сделанный неосознанно выбор.
— Пойдемте внутрь, отнесем Ее Высочество в гостевую. Цзы Чань, Варвару Григорьевну позови немедленно, карету отгоните, — это все что он скажет неожиданно сиплым, сухим голосом отставного военного, не задавая более вопросов никаких и сделав, очевидно свой выбор. — И что б ни одна живая душа не болтала, понял?
Китаец склоняется и исчезает бесшумно быстро и не остается сомнений, что понял верно. И в случае чего ни одна живая душа рта не раскроет.
Вопросы он успеет задать позднее.
А отголоски этого выбора на шахматной доске станут заметны гораздо позже.
Солнце напоследок блеснет лучами и они покажутся теперь уже вовсе не ласковыми, а какими-то кроваво-красными. Зловещими.
_______________________♣♣♣_______________________
Лиза вряд ли смогла бы сказать – какой теперь час или даже день. Кажется, что вечность прошла с тех пор, как оказалась она в том проклятом лесу, как увидела первее Кирилла целящегося в него человека, как даже толком не раздумывая опередила выстрел, который целился в грудь, как закрыла собой, совершенно уверенная в тот момент, что иного выбора нет кроме как этому выстрелу помешать. Ей повезло – попали в плечо, но она быстро успела разувериться в том, что это можно назвать везением, потому что когда боль стала нестерпимой, а силы стремительно покидали тело она уже вряд ли могла держать контроль над собой. В те редкие моменты, когда ей удавалось прийти в сознание пейзаж перед глазами стремительно менялся – то над головой лес, то потолок кареты, постоянно мелькало лицо Кирилла: испуганного, бледного, но живого и тогда она умудрялась улыбаться, измученной и наверное пугающей, но все же улыбкой облегчения. Живой – и это главное. Она не выдержала бы, не вынесла бы еще одних похорон, прощаний, гробов. А так – всего лишь плечо, подумаешь. Так она думала, а после вновь впадала в тяжелое забытье, в котором казалось, что ее постоянно трясут [карета], в котором бормотала всякие глупости и в котором ей иногда мерещился Саша – негодяй, который отказывался ей сниться все это время теперь решил все же о ней вспомнить. Его высокая фигура, расправленные плечи и золотистые волосы мелькали перед ней, но добраться до него, вышагивающего по песку залива она все никак не могла – как не старалась, как не просила его подождать. Он неизменно уплывал, уходил, хотя она была готова поклясться, что конечно же слышал ее.
Как можно было догадаться – при таком своем состоянии определить, куда же ее везут она тоже не могла. Когда карета остановилась [и как она оказалась здесь?...] она едва-едва разбирала чужие голоса, совершенно уже ослабевшая с прилипшими к холодному от такого же холодного пота лицу волосами, прикрытая плащом. От плаща приятно пахло лесом, хвоей и Кирюшей, что составляло ее хрупкое душевное равновесие и она уже не переживала от того – где окажется. Да хоть в раю. Хоть в аду. Хотя конечно, умирать теперь было бы как-то нелепо и совершенно, пожалуй, нельзя. В конце концов, она ведь так и не надевала за всю свою жизнь подвенечного платья. А какое оно должно быть было бы красивым! Красивее всех прочих! И дети, конечно дети… Он говорил, что хочет девочку. Она отвечала…что же она отвечала? Не вспомнить, мысли разлетаются. Но девочка конечно должна быть. Только какой он глупый – если уж девочка должна быть похожа на нее, то тогда нужен и мальчик, чтобы был похож на него. Такой красивый будет мальчик…
Лиза почти блаженно улыбается, позволяя чьим-то рукам [нет, не чьим-то, это его руки и даже в почти бессознательном состоянии она может это определить] вновь поднять ослабевшее тело и понести куда-то. Вокруг слышится еще чьи-то взволнованные, приглушенные голоса, перед прикрытыми глазами проплывают незнакомые казалось коридоры, проплывают чудные высокие вазы с рисунками тигров и журавлей, какие-то непонятные доспехи, пахнет сладковатыми запахами от благовоний, а ее несут и несут куда-то. Место это напоминает чужую страну, где в заморских вазах томятся дивные фрукты, а сопровождающий ее совсем не похож на русского в своем шелковом халате и желтоватой кожей лица, да и не европейца совсем не похож. Неужели так долго она находилась в беспамятстве, что ее успели отвести на корабле в таинственную Индию, о которой так много слышала или и вовсе в страну, которой нет на картах? А может, все это снится ей и она все еще в том же лесу, где закрыла собой человека, которого любит больше всего на свете? Лиза не знает и от того только сильнее, крепче прижимается к его груди [знает, что к его], словно маленький ребенок, которого взяли на руки и теперь требуется его укачать, чтобы успокоить, левая рука безвольно, плетью повисла, тогда как правая пытается еще хоть как-то удерживаться. Шевелить левой все еще слишком больно – она один раз попыталась, но та боль, пронзившая руку от самого плеча до самых кончиков пальцев ясно показала ей, что так лучше и вовсе не делать. Голоса вокруг продолжают шуметь, но она слышит их весьма приглушенно, тогда как его бешено колотящееся сердце она слышит неожиданно громко и четко. То, что это его сердце она также не сомневается – она слишком много раз слышала этот ровный стук, засыпая на его груди, убаюканная и успокоенная этим.
Лиза чувствует под собой мягкость перин и подушек, понимая отстраненно, что ее отпустили на кровать. Но откуда на корабле, на котором они очевидно, плывут [иначе почему мир так раскачивается, кажется?...] такие хорошие кровати? Она измученно мотает головой, неожиданно крепко одной, не поврежденной рукой хватаясь за шершавую ткань мундира и не желая отпускать единственный источник стабильности в этом мире от себя слишком далеко, словно если отпустит, то уже не сможет проснуться. Глаза приоткрываются, это сделать оказывается ужасно тяжело, видимо она ослабела настолько даже для такого простого действия. Комната незнакома, но люди, вокруг как раз знакомыми кажутся. Впрочем, воспаленное сознание отказывает ей в памяти. Она помнит только его, видит только его, тянется к нему рукой, ищет поддержки, помощи, защиты, в конце концов просто опоры. Губы сами собой складываются в имя, которое за это время превратилось почти в заклинание:
— Кирилл… — и все голоса, жужжащие вокруг сразу же затихают, а потом затрещат вновь, но с усиленной громкостью, словно находящиеся теперь в комнате люди оказались обрадованы такими признаками жизни, которые она подавала. Боже, глупость, всего лишь плечо, плечо, плечо. Плечо это не сердце в конце концов, чего так переживают. Лиза, тем временем, только крепче сжимает его руку, чувствуя заветное тепло и выдыхая. Со всех сторон настойчиво несется: «Лиза!», «Ваше Высочество», «Слышишь меня?» и прочая и прочая, но она не хочет и не может на все это ответить, вглядываясь тяжелым взглядом в одно единственное, но такое хорошо различимое лицо. — Живой… — словно это он все это время балансировал на грани обморока с кровью вытекающей из тела. — Ты… — она облизывает пересохшие неестественного теперь цвета губы, голос совсем тихий, но различить его все же можно. — …останешься? – она выговаривает это почти по слогам, продолжая держать его руку, словно подозревая, что дальше будет только труднее, а вовсе не больнее. И если бы Лиза была в состоянии теперь понимать, что происходит вокруг, то наверняка разобрала бы и лица и поняла бы тему разговора. А может и спора. Но когда поняла бы – наверняка предпочла бы вновь впасть в беспамятство.
—…это же пуля, отец. Здесь медикус нужен! Ее извлечь нужно, я не увидела, что она вышла, а следовательно пуля еще внутри. Хотела бы я знать как это вышло! — глаза Вари сверкают почти бешеным, гневным огнем и она не знает толком на кого она злится больше. На Волконского, который проморгал подобную опасность и вообще позволил Лизе сделать то, что она сделала; на отца, который отказывается звать медикуса неожиданно упрямо, поджимая губы и становясь нестерпимым; а может и на саму Лизу, которой понадобилось геройствовать в своей любви. Глупая, глупая, глупая! Лежит теперь, пугающе бледная, с раскуроченным плечом, но даже так все равно смотрит на своего Кирилла. Глупо, глупо, глупо…
— Да, а где найти такого, который бы держал язык за зубами? Цесаревне нужна немедленная помощь – пулевые ранения они самые что ни на есть мерзопакостные. Цзы Чаня позови – пусть поколдует.
И китаец действительно выходит из тени двери, у которой стоял – неторопливый и бесшумный, склоняясь перед ними, а после уже над Лизой, с ее так тяжело вздымающейся и опадающей грудной клеткой. Его движения по-кошачьи почти грациозны и от того, как и от своего весьма экзотического внешнего вида кажется он существом как минимум из другого мира. И если они с отцом давно уже привыкли к этому человеку, то у простого обывателя, вроде того же Волконского могут возникнуть вопросы. Цзы Чань же, тем временем, осторожно закатывает широкий рукав, прежде чем взять запястье Лизы. Она при ее состоянии этого кажется, даже не почувствовала, а если и почувствовала, то уж точно не показала вида. Цзы Чань сам всегда говорил, что с пульса следует определять состояние и делал это превосходно. В Китае, как он рассказывал этому посвящен отдельный трактат, который конечно же мало кому известен за пределами Империи, как и все китайское. «Сосуды сообщаются между собой по кругу. В нем нет начала и нет конца... Кровь в сосудах циркулирует непрерывно и кругообразно... а сердце хозяйничает над кровью». Без пульса невозможно распределение крови по большим и малым сосудам... Именно пульс обусловливает круговорот крови и «пневмы»... Посмотришь вперед, оглянешься назад – все идет от пульса. Пульс —это внутренняя сущность ста частей тела, самое тонкое выражение внутреннего духа...», - так говорил он всегда, наверняка повторял это про себя и теперь, придерживая безвольное запястье цесаревны и прикрывая глаза. После, опуская руку на одеяло он склонится над раной, над которой уже целая корочка запекшейся крови, покачает головой, залезая за пазуху и доставая своего неизменного спутника – острый, короткий нож.
— Я разрезать ткань. Нужен доступ. Ткань разрезать, — Варя запоздало понимает, что объясняет он свои неторопливые действия Кириллу, а не им с отцом, видимо определив, что не внушает огромного тому доверия, тем более, склонившись над беззащитным телом Лизы с ножом.
«Не думает же он, что мы решим зарезать здесь ее?» - сердито и отчаянно пронесется в голове Вари. «По хорошему говоря – это ему следовало бы лежать здесь раненным, но уж точно не ей». Но она молчит, отлично понимая, что сейчас не время и не место искать виноватых. Вместо этого она подходит с другой стороны кровати, вставая рядом с Цзы Чанем и прислушиваясь к его ровному голосу, который в своей неторопливости и спокойствии даже убаюкивал. Китаец после того как разрезал рукав платья долго осматривал открывшуюся неприглядную картину ранения, которое характерно для полей сражений, но никак не здесь, не рядом с Петербургом, и уж точно не должно было теперь касаться Лизы. Варя совсем не помнит матери – она умерла так рано, что княжна даже не успела запомнить ее запаха, но ненавидела смерть всегда. И пусть ранение не выглядело смертельным, но осложнения бывают самыми разными. Из раны едва-едва теперь вытекала вязкой субстанцией неожиданно темная кровь, застывая около.
— Внутри чужое, — констатирует он со значительным выражением. — Чужого быть не должно это есть нарушение природы и от того плохо. Кровь темная – плохо. Сил нет – я слышать это по пульсу. Чужое – убирать и станет легче, кровь очиститься. Кровь чужое грязнит.
— Отверстие слишком маленькое, — Варя разглядывает бледное, какое-то серое лицо Лизы и снова и снова в голове прокручивается смерть собственной матери – было ли у нее такое же лицо, когда она умирала, можно ли было помочь ей, был ли у нее хотя бы малейший шанс? Нет, о смерти думать глупо теперь – Лиза сильна и справится. Придется справиться. — Придется разрезать, чтобы вытащить пулю, но… — теперь княжна Вяземская переводит взгляд на неподвижно сидящего около Лизы Кирилла и проговаривает безжалостно четко, не отводя взгляда. —…но это очень больно делать «наживую», а сделать нужно.
Внутренне она содрогается от этой мысли сама, но вида не показывает. Она никогда этого не делала раньше – одно дело лечить порезы, синяки и головные боли, а совсем другое извлекать пулю из живого и дышащего человека, разрезая для этого кожу… Варе страшно, но она каменеет в своей сосредоточенности, потому что не время теперь показывать страха. Цзы Чань прав, когда говорит, что кровь нехорошего цвета и слишком густая – того и гляди, если подождать сутки потечет гной, а там и можно лишиться руки вовсе.
— Цзы Чань не режет человека – это вмешательство в процессы его «ци» и природу. Но я мочь сделать так, чтобы не болеть сильно. Нужны мой набор игл и «шуй-чинь», Цзы Чань собрал их как только они распустились, Цзы Чань знать, что понадобятся.
Варя, готовая было бежать за известным ей набором длинных иголок разных форм с различными, как говорил он назначениями, замирает недоверчиво вглядываясь в непроницаемое, как и всегда лицо китайца. Иные зовут их колдунами хотя бы потому, что методы лечения необычны. Но после таких заявлений и она начинает сомневаться вместе со всеми своими прочитанными медицинскими трактатами.
— Шуй-чинем ты зовешь цикуту. Conium maculatum. Она ядовитая – с малолетства у нас дети знают, что нельзя ее листья жевать, умрешь. Сократ принявший цикуту погиб, — Варя понижает голос, сужает глаза и встречается со все тем же спокойным взглядом их вынужденного лекаря. В действительности никогда не знаешь насколько глубоки его знания по части ядов. Он ведь с таким же спокойным лицом сообщил ей, после того как рассказала она бродящие вокруг смерти императора слухи, что на «кровохаркающую болезнь» это не похоже. А вот яд [он произнес его название на китайском и она даже толком не разобрала] он этот хорошо знает – долгий, жестокий яд. «Тот, кто отравил вашего правителя жестокий» - так и брякнул это, а потом как ни в чем ни бывало продолжил чистить отцовское оружие. — Это цесаревна, это мой друг, ты уверен?... – последнее прозвучит почти жалко. Позади послышится куда более уверенный голос отца, который все еще здесь, все еще должен поддерживать.
— Цзы Чань это дело важное. Рисковать тут нельзя.
В ответ китаец лишь покачает головой, склоняя спину перед отцом, но очевидно намереваясь стоять на своем до последнего.
— Я понимать. Цзы Чань знать, что ядовит шуй-чинь. У смертоносной цикуты холодная сила. Яд если выпить – умрешь. Но приложи к воспаленному месту – исцелит. Иначе не пережить госпожа боль сильная. Цзы Чань нарочно собирать тогда – когда только расцвел. Нельзя иначе. Иначе страшная боль.
Варя не станет более спрашивать не лучше ли страшная боль полному забытью и смерти, окончательно удостоверившись в том, что слуга не спятил и уж конечно понимая, что медлить нельзя, хотя плохо себя помнила и тогда, когда возвращалась с набором этих странных тонких иголок, которые он носил с собой, и со ступкой с растолченным вроде бы смертельным растением, из части которого намеревался сделать тот мазь. И уж конечно как в тумане нож, который пришлось нагреть над свечой во избежание возможных инфекций. Цзы Чань все также, как и всегда спокойно движением этакого фокусника или артиста выудил одну из игл, поднося ее к свету и разглядывая и Варе бы позавидовать его спокойствию, но она и сама словно окаменела, неподвижно глядя на распростертое перед ней тело.
Легко сказать – надо резать, а ведь это сказала она сама, следуя теории и собственным познаниям, а совсем иное стоять с занесённым над небольшим отверстием ножом и понимать, что о тебя зависит теперь половина, если не больше дела. И ладно бы, если бы на этом все и закончилось, но это ведь только начало, а дальше, дальше конечно проще, но исход все равно не ясен, а какое так важно, чтобы было всё известно. И как перестать видеть в теле, на постели теперь Лизу, чтобы было хотя бы немного полегче? И от чего нужно было именно в этот ничем не примечательный день устраивать пальбу? Варя замирает, чувствуя, как капля пота стекает по виску. Она не волшебник и даже не медикус. Цзы Чань замирает где то рядом, очевидно ожидая, когда начнет она, прежде чем начать действовать самому и Все Святые только бы сработали его чудодейственные методы, а иначе… не Варе ли известно обо всех этих случаях, когда от боли люди могли не выдержать? В армии конечно могут полагаться на что угодно, в том числе и на волю Бога, ведь выживают в конце концов самые сильные, а здесь… здесь она должна была выжить в любом случае.
Варя считает до трёх мысленно – странное дело, но это всегда приводило мысли в относительный порядок. За спиной перекрестился отец, может и правильно оно.
— Кирилл Андреевич, — обращается она к капитану, который все ещё держал Лизу за руку. — Мне нужно, чтобы она лежала ровно, когда я начну и не двигалась. Для этого вам придется очень крепко ее держать, — взгляд становится тяжелее, ее лицо бледное, но решительное. Сглатывает. — и чего бы она у вас не просила — не отпускать, пока не подействует метод Цзы Чаня. «О, только бы он подействовал, Боже…». — Вы понимаете меня? — она спрашивает это на всякий случай, вглядываясь в бледные черты лица напротив и гадая насколько в данной ситуации он сам находит себя вменяемым. Его бы царапины тоже не мешало обработать, но позже, все это позже. Убедившись, что рассчитывать она на него все же может, постаравшись избавиться от всех лишних мыслей в голове, оставшись наедине с раной, ножом и своими руками, Варя произносит:
— Тогда я начинаю.
Она заносит руку, касается остриём кончика раны и после глубокого вдоха р е ж е т. И боже, боже мой, ещё долго мог бы преследовать ее этот крик, который разносился по дворцу теперь, крик который ещё не скоро забудут те, кто стоял рядом, крик полный почти животной боли. Но она его не услышит, то ли слишком сосредоточенная на самом процессе, то ли Цзы Чань подоспел аккуратно вводя иглу куда-то рядом с областью века и выглядело это, наверное, не менее жутко, но очевидно в купе с курением все той же ядовитой вроде бы цикуты дало свои плоды. По крайней мере она больше не кричала, а Варя ничего более не видела кроме надреза и мелькающей перед глазами и пальцами крохотной, но такой смертоносной пули.
***
Если бы Лиза могла теперь, вот именно теперь умереть она бы пожалуй не отказалась. Только теперь, когда чужие руки коснулись плеча, чего она не могла видеть, потому что с какой-то глупой, блаженной улыбкой разглядывала лицо Кирилла, она действительно осознала что такое боль и если честно совершенно теперь не была уверена, что такое может выдержать. Это продолжалось на самом деле и не долго, прежде чем она то ли провалилась в бессознательность, то ли просто перестала ее чувствовать, пока ей под кожу одна за одной вводили иголки чужие умелые руки. Но для не это «недолго» казалось вечностью, бесконечной огненной вечностью, в которую она нежданно-негаданно попала, очевидно оказавшись таки в аду. И как жестоко, что в этом аду она видела перед собой его лицо, но на эту короткую вспышку бешеной боли видео его она совсем не хотела, потому что именно оно становилось синонимом к этой самой боли.
— Нет, нет, нет! – она то ли кричит, то ли шепчет, то ли сначала исходится этим леденящим душу криком, а после шепчет исступлённо. Она пытается всем телом вырваться из оков, которые теперь ее сдерживают, чтобы она не двигалась, а ей наоборот кажется в этой бешеной болезненной агонии, что в этом движении как назло заключается спасение. — Отпусти, пусти, отпусти! — не хватает толком воздуха, чтобы прокричать это почти со злостью, не разбирая уже толком кто перед ней – любимый или палач, перед глазами возникает только кровавая пелена боли сквозь которую если смотреть, то все здесь на один манер и все, чего ей хочется это, чтобы все они исчезли. Чтобы прекратили мучить ее, чтобы оставили в покое.
Но нам ли было не знать, Кирюша, что никогда бы мы не отпустили друг друга, даже тогда, когда это причиняло боль и лучше было разжать объятия и больше никогда уже не держаться друг за друга, раз это так больно? Просто одна боль бывает физической и разрезающей пополам, а иная боль душевная и иной раз и не знаешь, что хуже.
Лиза все ещё видит его лицо, в которое теперь смотрит так, словно он как минимум предал ее, доверяющую без меры и задних мыслей, словно это он, а не те люди слева мучает ее, но этот взгляд затуманенный кратковременной на самом деле вспышкой боли, скоро станет совсем далёким, прежде чем она обмякнет и впадет уже в долгое забытье под нескончаемый монотонный диковинный шепот желтолицего человека и более отчётливое: «Господи Иисусе Христе сыне божий, помилуй нас…».
***
Князь кажется себе постаревшим за этот час или два на один или два года. А может на все десять. Нет, не справедливо было заставлять собственную дочь заниматься этим, пусть она даже не показала виду, что ей страшно. Не нужно быть может было и пускать их, бередить старые и казалось зажившие раны, которые теперь заныли вновь, да только стоило посмотреть в это бледное лицо этого мальчика, чтобы живо вспомнить свое собственное и такое же отчаянное. Не хотел бы он, чтобы кто-то помог Нине? Разве не хотел, чтобы этого и вовсе не случилось? И потом – как бы не старался Григорий Сергеевич не переходить черты, перед ним раненой оказалась девушка, отцу которой все они нынешние дворяне когда-то преданно служили. Разве мог он поступить иначе, чтобы спокойно спать? Как бы смотрел в глаза дочери и на собственное отражение? Нет, князь, достаточно вы пожили в тиши и благодати, да только невозможно так всегда жить и убегать. Всем выборы надобно сделать.
Он касается кажется каменного плеча Волконского, которому за этот день очевидно пришлось пережить больше, чем за всю жизнь до этого. И не хочется и вовсе трогать этого по сути ребенка, хоть и капитана и даже прошедшего войну человека, но черт с ним – ребенка. Если бы было время, может и оставил бы в покое, разрешил бы выплакаться, н времени, пожалуй считанные часы, а за ними, если не действовать верно – он знает, горы неизвестности. Рука сильнее сжимает чужое плечо, заставляя отвернуться от неподвижно лежащей Елизаветы Петровны, над которой продолжали теперь колдовать его дочь и его слуга. Она кажется даже не дышащей, если бы не едва-едва поднимающееся одеяло над ее грудью. В гостевой стоит терпкий травянистый запах.
— Кирилл Андреевич, — гадая, слышит тот его или же нет, но питая надежды, что все же слышит. — нам надобно поговорить с вами. Идёмте, здесь мы не помощники и скорее помешаем, — он заставляет обратить на себя внимание и почти ласково качнет головой. — понимаю, предпочли бы остаться здесь, но вряд ли Её Высочество от этого скорее очнется. А вы нужны мне.
Князь идёт к двери, уже у самого выхода ловя вопросительный взгляд Цзы Чаня, но лишь отрицательно коротко мотая головой. Вряд ли капитан решит его убить, пока слуга занят здоровьем цесаревны.
«Подумать только, какой случай!» - подумает мрачно, следуя в свой кабинет и наглухо закрывая дверь, убеждаясь, что никто не станет подслушивать. «Жизнь цесаревны, Романовой, дочери Петра Великого зависит теперь от девушки-самоучки, да китайца-иноверца. Чудеса».
— Это безусловно верное решение, что вы приехали ко мне, — начинает князь, сосредоточенно разглядывая расставленные на шахматной доске фигуры. Он заядлый любитель шахмат, однажды выиграл даже императора, за что тот похвалил вместо того, чтобы обидеться, но потребовал научить тому хитрому ходу, который использовал Вяземский для решающего удара. Да, император никогда не забывал учиться, если было то возможно. Шахматы у князя расставлены были повсюду. — Но теперь, Кирилл Андреевич, я вынужден спросить у вас все обстоятельства произошедшего с вами, потому как видится мне это не простым несчастным случаем. Да и вы, к слову сказать кажется ранены, — Григорий Сергеевич кашлянет и укажет на рассеченный висок, а после превращается в слух, лишь изредка задавая наводящие вопросы, глядя в окно на томно опускающуюся ночь, не желающую все еще опускаться полностью. День становится все длиннее, а сумерки теперь все светлее. По мере того, как углубляется рассказ, он становится все мрачнее и задумчивее, словно подтверждаются худшие из его опасений. Австрийский двор станет ли вмешиваться в это? Из своих дипломатических поездок по Европе, он может предположить, что интерес у них имелся, причем серьезный. Раз так – в ближайшее время, зная канцлера Российской империи, жди репрессий. Жди везде рыскающих ищеек из Канцелярии, жди, что на каждого теперь смотреть станут косо, а за малейшее подозрение или кляузу станут сажать в крепость и устраивать допросы с пристрастием, на которых хочешь не хочешь, а признаешься даже в том, что никогда не совершал. В Петербурге теперь едва ли не переполох. В каждом теперь будут видеть заговорщика.
Пальцы возьмутся за одну из пешек передвинут вперед, а после задумчиво возьмутся за короля. Вот такая рокировка выходит. А она значит…защитила. Боже, какая злая, жестокая ирония. Старые раны разболятся еще сильнее.
Поднимает взгляд на чудом, кажется, держащегося на ногах Кирилла Андреевича.
— Вот значит как?... — цокнет языком. — В таком случае должен спросить – сколько было нападавших, как они выглядели, в какой форме были, на каком языке говорили и главное – как догадались вы, что планируется покушение? – он задает вопросы один за другим и взгляд становится тяжелым, немигающим взглядом человека отлично знающим дворцовые законы. Лишь через несколько секунд смягчается, не в силах изображать человека, которым не является. — Простите, Кирилл Андреевич. Я всего лишь показываю вам, что спрашивать станут у вас совсем в другом месте и боюсь с большим пристрастием, ежели мы не постараемся это уладить. Поверьте – канцелярия наша дремать не станет. Вы правильно поступили, что привезли цесаревну ко мне, но теперь вы должны, — делает упор на это слово. — д о л ж н ы поехать во дворец и сделать все возможное и невозможное, чтобы никто не узнал того, что с ней случилось. Наверняка уже во дворце подняли тревогу по вашему отсутствию, поэтому вам непременно следует убедить всех, что с Ее Высочеством все в порядке. Можете сказать, что она повредила лодыжку, находится в крайнем потрясении или внезапно заболела ветрянкой и пришлось ей посетить мою усадьбу, как ближайшую к себе, к тому же как дом ее ближайшей подруги. Говорите что угодно и сделайте все, чтобы вам поверили только не говорите правды, потому что она вас, увы, погубит.
Да, милый мальчик, который в нее наверное еще верит – правда при дворе не стоит и ломанного гроша по сравнению с тонкой ложью, которой приходится учиться, а зачастую правда только убивает.
Григорий Сергеевич вздыхает, передвигая фигуры по доске, качая головой и на секунду невеселые мысли окончательно грозят поглотить его. Нет-нет, ему теперь придется помогать этим детям, в которых быть может будущее, которое не так для них очевидно. Но он сделал выбор, сделал ход, в тень уже не уйти.
— Да, Кирилл Андреевич, ведь посудите сами – увы, император страдает той же болезнью, что и вы. Любовью, — он грустно усмехается. — Знаю, любовь императора на любовь не похожа, но он полагает, что любит. И посудите сами теперь как выглядеть будет тот факт, что пострадала она, а не вы. Кому станет интересна правда в открывшихся обстоятельствах? В стране заговорщики, на императора совершено покушение, впрочем нападавших застали только вы, а среди них наверняка были близкие к свите иначе откуда знать о передвижениях императорского кортежа?... – он рассуждает вслух с непривычным для своей добродушной кажется персоны хладнокровием. — Выходит так, что вы, среди прочих, Кирилл Андреевич, пока истинных заговорщиков не найдут – персона для крепости идеальная. А даже если и поверят вам, что не причастны вы к тому – цесаревна и случившееся с ней отличный повод от вас избавиться не глядя на ваши перед страной регалии, которые очевидно удерживали нашего императора от оного… Вы должны понимать, что в лучшем случае ждет вас лишении званий, чинов и наград за то, что подвергли ее опасности. А в худшем – крепость, дыба, а то и погост, если решат, что к этому как-то причастны. А своей смертию вы ей никак не поможете, — в глубине голубых глаз покажется печаль, надежно хранящаяся в них с тех самых пор, когда человек с доброй улыбкой и открытым лицом раскачивался на новых полах с мертвой уже женой. — Ни ей, ни стране. Поэтому если и вызовут вас на допрос, вы должны ответить на все мои вопросы, которые я задал. Четко и коротко, чтобы не к чему было придраться. Я знаю, вы бы предпочли остаться с нею теперь, когда от сегодняшней ночи столь многое зависит. Но надобно вам собраться, Кирилл Андреевич. К тому же, мне что-то подсказывает, что после случившегося наш император ненадолго задержится в Петербурге, или же наш канцлер ушлет его куда-нибудь подальше, в место более безопасное. Я бы так и сделал, пока заговорщиков в столице не поймают. Наверняка уже все въезды и выезды в город закрыты, как и дороги. Борис Федорович времени зря терять не будет – и вы не теряйте. А ежели выберетесь живым, то поверьте – встреча с цесаревной будет только слаще. С ней здесь ничего не случится. Это я вам обещаю. В случае чего вы можете ссылаться на мою персону это добавит вашим словам веса.
Григорий Сергеевич даже и не сомневается, не уточняет откуда и с чего решил, хоть и не говорили ему этого напрямую, кто и кого любит. Ах, молодость, ах эти знакомые взгляды. Даже как-то жить хочется после этого. Но куда сильнее этого чувства возрождения, ноют, болят, разбуженные раны, которым, видно не зажить до конца точно также, как не зажить ране на плече цесаревны – все одно останется шрам.
— Кирилл Андреевич, — остановит его уже у входа, задумчиво глядя теперь уже на кольцо на пальце, которое бесконечно на нем прокручивает. — я знаю, что вы чувствуете, поверьте. Вы думаете: «И почему страдаю не я, мужчина и офицер, а она? И как я мог допустить, чтобы это случилось? И почему она это сделала?». Вы обвиняете себя, верно? Я встречал такого человека, как вы. У него была жена красавица, в которую влюбился он, когда ездил в далекий горный край, а она собирала черешню в саду… Редкая красавица, да. Они жили душа в душу, жили хорошо, ребенок родился. А ее муж нес службу при дворе, занимал видную должность и от того, наверное, забылся, да и выступил против собравшейся фракции заговорщиков на стороне противоположной. И нет, заговорщиков в итоге казнили, конечно. А вот жену его зарубили в его же доме – хотели его, а жена не дала. Он так и не услышал – почему, она не сказала. Почему решила, что ему следует жить, а ей нет! — сжимает кулак ударяет по столу, забываясь, что завел с кем-то разговор. — Он так и не женился… — спустя некоторое время продолжает. — …и так себя и не простил. Но в вашем случае она жива, — поднимает, наконец, на него взгляд. — Поэтому постарайтесь себя простить и идти дальше. И делать все возможное, чтобы она жила и дальше. Так оно…лучше. Поверьте. Поверьте и ступайте. Надеюсь увидеть вас в скором времени живым и здоровым. Храни вас Бог.
Но князь не обещает при этом, что когда-нибудь Волконский это забудет. Даже если захочет – на ее плече навсегда останется метка, которая станет напоминать о собственной беспомощности. Но это лучше, чем смерть. Что угодно лучше – чем смерть.
Поделиться132024-05-20 21:11:09
_______________________♣♣♣_______________________
Они выросли перед ним неожиданно, но очевидно перекрывая дорогу и не желая с этой дороги уходить. Одинаково взволнованные и хотя никогда не являлись кровными братьями теперь оказывались удивительно-похожими. Они смотрят на Волконского, который не особенно похож сам на себя даже при внешней своей суровости и вид у всех четверых уже такой, что в случае чего возьмутся за шпаги, но своего добьются. Они – ответов, а он, возможно прохода.
— Возьмите нас с собой, — без обиняков начинает Паша, обретая наконец голос, начиная говорить первым то ли потому, что из них самый старший, то ли потому, что самый умный. — нам известно, что Ее Высочество в усадьбе Вяземских, поэтому мы бы хотели отправиться с вами.
— Ее брат, наш император, — и тут Строганов явно не собирается даже делать вид, что ошибся, не называя императора о котором идет речь покойным. — Александр Петрович когда-то говорил нам всегда быть с ней и выполнять то, что она скажет. Мы дали клятву, капитан.
— И к тому же мы не верим, что с ней все в порядке, — наконец, мрачно изрекает хранивший тяжелое молчание Семен. Он все это время сверлил взглядом это чем-то обеспокоенно-изнуренное лицо, всеми силами пытаясь скрывать клокочущее возмущение. Среди них троих, он единственный, кто первым неладное в долгом отсутствии цесаревны заподозрил. И быть может, если бы их отпустили с ней ничего бы и не случилось – но нет, император как обычно отыгрывался на них, если не мог отыграться на личном телохранителе. И может быть в иной раз Бестужев и поверил бы в то, что именно с Волконским она будет в порядке. Но почему, почему, почему из раза в раз это оказывалось совсем не так? На похоронах она была одна, хотя очевидно хотела его видеть, она хотела его видеть и тогда, когда принимала нездоровые нападки императора нынешнего, но вряд ли могла этого дождаться, так что же должно было измениться теперь? Рука сама собой удерживается за эфес шпаги. — Что-то случилось, но рассказать вы этого не можете. С ней что-то случилось. Император отбыл в Кронштадт, повсюду о заговоре говорят, а цесаревна не в Петербурге.
Хотя что с ней могло случиться, если она была под его черт возьми защитой?
— И еще, если бы цесаревна где-то задержалась непременно послала бы за нами, — бросая предупреждающий взгляд на распаляющегося все сильнее Бестужева рассуждает Паша. — Если мы отправимся с вами так будет выглядеть естественнее, что она просто где-то отдыхает и требует нас к себе.
— У вас нет выбора Кирилл Андреевич, — констатирует, вторит ему Матвей, лихо мотнув кудрявой шевелюрой. — мы все равно за вами поедем, а так хоть сами проводите. Мочи нет здесь находиться в неведении.
— Да, выбора нет, если понадобится мы… — Семену договорить, вытащить шпагу и показать, что если понадобится непременно устроят здесь никому не нужную драку не даст все тот же Богославский, толкая того в бок и заставляя мрачно умолкнуть.
Если бы Александр Петрович был жив он бы, пожалуй, расхохотался от души этой сцене и тому уроку, который с подростковой шутливостью им преподал и который они запомнили на всю жизнь. Служить ей и никому другому. Даже если это значит подставить под топор собственные шеи.
«Вот какая штука, получается Кирилл, а?» - сказал бы он, дружески похлопав измученного Волконского по плечу. «Такие дети пошли непослушные».
Но император давно лежал в могиле.
Оставалась цесаревна.
***
Лиза открывает глаза и в первые секунды покажется, что на нее рухнул целый мир, если не больше. В голове звенело нещадно, но при этом удавалось впервые за все то время, что она пробыла в вынужденном беспамятстве мыслить и ощущать себя вполне ясно. К примеру, ей больше не казалось, что она плывет куда-то на гигантском корабле, мир не шатался перед глазами. Не мерещился ей больше уходящий в закатную даль Саша, а боль в плече ощущалась тупым болезненным жжением, какое чувствовал бы, если бы около кожи постоянно держали уголёк, но ни в какое сравнение не шло с тем, какую она боль испытывала до этого. А впрочем та боль казалась лишь дурным сном, от которого она, наконец, проснулась, не имея ни малейшего, впрочем, представления о том – сколько проспала и самое главное где толком находится. Лиза силится огляделся, но даже шея подчиняется ей плохо, отдавая звонкой болью куда-то в затылок при попытке шевельнуться, поэтому все, что ей остаётся это лежать и моргать в потолок чужой комнаты, слабой и болезненной. Собственная беспомощность начинает раздражать, но у нее сейчас нет сил что-то с этим делать. Во рту так пересохло, что предложи ей сейчас отказаться от всех своих богатств и переехать куда-то далеко в Сибирь за кружку воды она бы, пожалуй, согласилась.
От скорого переезда в края похолоднее и опрометчивых решений ее, впрочем, спасает появившийся словно из неоткуда человек. С минуту они разглядывают друг друга, словно видят впервые, его узкие глаза пристально пробегаются по ее лицу ничуть не стесняясь и очевидно не задумываясь о приличиях [черт его знает как она теперь, впрочем выглядит и стоит ли в ее положении вообще задумываться об этих самых приличиях]. Ее плечо накрепко перевязано, от нее самой исходит едкий запах лекарств и Лиза устало порадуется тому, что первым, кого она видит очнувшись, оказывается не Кирилл, а просто незнакомый иностранец. Но где она находится, черт возьми?
Лиза хочет было это спросить, но язык, который за это время словно разучился разговаривать лишь слабо ворочается в пересохшем горле, а иностранец и в ус не дуя деловито проверяет пульс на ее запястье и бормочет что-то на бусурманском.
— Хорошо очнуться, — выдает он, наконец, укладывая руку, пахнущую от чего то дымом и какими-то травами на ее лоб. — Кровь прийти в правильное движение теперь будет госпожа заживать. У госпожа жар, но жар пройти Я сказать своей госпоже, что правительница России будет в добром здоровье…
Лиза силится сказать ему, что хочет пить ужасно, что никакого жара даже и не чувствует, хотя очевидно, что тело на самом деле горит, как если бы у нее была температура после долгой прогулки в одном платье в лютый мороз. Лиза также хочет возразить этому странному человеку, что никакая она не правительница, а также узнать, кто он такой черт возьми и кто такая его госпожа, но его уже и след простыл, а ей остаётся только лежать неподвижным бессильным бревном, что в детстве давалось очень тяжело. Тело кажется налитым свинцом, а она пытается восстановить то, что случилось…когда? Вчера? Неделю назад? Сколько она здесь? И где Кирилл. Кирилл точно был с ней. Кирилл, Кирилл, Кирилл. Последнее звучит в голове все отчётливее и беспокойнее. Если был, то куда мог пропасть? А если схватили, забрали, а она лежит здесь и ничего толком не может… Лиза совершает жалкую [по истине жалкую] попытку подняться, но на самом деле лишь едва едва поднимает с подушки голову, а после падает обратно растеряв остатков сил и дыхания. Распахнется дверь, принося с собой в комнату, в которой удушающим стоит запах настоек и лекарств [запоздало подумает о том, что и от нее должно быть теперь пахнет как от больной старухи] запах уличной свежести и перед ней окажется Варя, ее Варя, необычно бледная и что это – неужели почти плачущая. Так значит – это дом Вяземских, сюда привез ее Кирилл тем днём? Или Варя здесь тоже случайно?
Лиза кашлянет и тихо, но уже отчётливо попросит:
— Попить бы, Варюша.
И она то ли выдохнет, то ли всхлипнет, прежде чем рвануть к кувшину, который стоит неподалеку, но слишком далеко от жаждущей Лизы. Она сделает несколько жадных глотков из стакана, который так заботливо придерживала Варя, а после опускается на подушку, делая несколько тяжёлых вдоха. Голова и вправду раскалывается и по телу то и дело пробегает дрожь.
— Боже, Лиза, как же ты всех нас напугала. Когда тебя привезли всю в крови, бледную!... Иногда мне кажется, что тебя мне приходится лечить слишком часто! Цзы Чань говорит, что у тебя жар, мы меняем повязку каждые несколько часов и рана вроде бы чистая, но тебе бы врача боже… — она говорит необычно нервно и поспешно и Лиза замечает темные круги под ее глазами, понимая, что ее подруга возможно не спала все это время. Хорошо ещё, если ела. Варя говорит, попутно накладывая на ее лоб что-то мокрое и душистое, очевидно какой-то компресс. —… кто знает, сколько ещё продержится жар, но ты по крайней мере очнулась, а то все это время бредила, я боялась что…— Варя прикусывает губу, а Лиза только покачает почти ласково головой, мол, глупости.
— Нет, врача нельзя, тогда все узнают, Кирилл… где он? — вырывается главный мучающий ее вопрос, а в глазах Вари вспыхивает раздраженный этим вопросом огонек. Но она находит в себе силы по крайней мере не вспылить, методично выполняя свою работу.
— За дверью, с остальной компанией, которую я бы не пустила если хочешь знать мое мнение, — она ловит такой умоляющий взгляд Лизы, что смягчается. — Лиза, у тебя жар, то что ты пережила кризис чудо, пожалуй и положа руку на сердце не такой ценой тебе нужно было защищать своего возлюбленного! И… ладно! — она, видимо и не выдерживает все такого же просящего воспаленного взгляда Лизы, вот и поднимается с колен, на которых стояла у ее кровати, одергивает подол платья и, выглядывая за дверь зовёт громко и решительно: «Она ждёт вас!».
А после комната неожиданно становится тесной, хотя очевидно, что в усадьбе отвели Лизе не последние по величине покои. И она слабо, отчаянно, но улыбается при виде них, своих мальчиков, взволнованных, испуганных, но храбрящихся очевидно до самой последней минуты. Потянет здоровую, не перевязанную руку в их сторону, а они все как один по команде, падают перед кроватью кудрявые и не очень, успевая эту руку поймать.
— Мальчики мои… — шелестят губы растягивающиеся в слабой улыбки по виде их лиц. — Как хорошо, что вы здесь…
— Мы не могли не приехать цесаревна!
— Мы жизнь отдать за вас готовы, вы знаете. Если нужно.
— Вам лучше? Хотя бы немного?
— Дурак ты что ли, не видишь, что человеку все ещё плохо?
— Ответишь сейчас за дурака…
Они говорят на разный лад, почти одновременно, перебивая друг друга, пытаясь, кажется даже шутить и привнося в эту комнату, задушенную запахом лекарств и душную какую-то привычную юношескую свежесть, которая всегда с ними шла. Она видит, что за шутками, поспешными и всегда какими-то суматошными рассказами о новостях из большого города [«А император отбыл в тот же день в Кронштадт на осмотр верфей, но все ведь знают почему – испугался…», «По всем посольствам теперь рыщут…», «Уж ежели мы были рядом с вами, то наверняка цесаревна такого бы не случилось!...»] скрывается почти самый настоящий испуг – вряд ли они ожидали ее увидеть в таком положении, даже если и догадывались, что с ней не все в порядке. Чего же ожидали ее мальчики? Быть может, вывихнутой лодыжки или сильного потрясения [хотя, зная ее, вряд ли это могло так уж сильно испугать ее, что она решила остаться в уединенной усадьбе Вяземских], но уж точно не бледной копии ее, лежащей под одеялом и пропахнувшей такими ароматами, что позавидует иная престарелая тетушка из деревни. И правда ведь – никогда еще не доводилось видеть им ее в таком состоянии – она болела всегда крайне редко и выздоравливала крайне быстро, слишком живая и от того подвижная, чтобы подолгу валяться в постели. А теперь – очевидно все поводы для нечаянного беспокойства. Голова, охваченная все еще не ушедшим жаром начинает постепенно звенеть и тяжелеть, но она не хочет засыпать как того посоветовала бы Варя, она хочет еще хотя бы немного бодрствовать даже несмотря на то, что сон, к тому же избавит ее от далеко не приятных ощущениях в плече, где все еще казалось дотлевал раскаленный уголь. Но она пока не могла попросить дать ей отдохнуть, потому что пока еще не поговорила с н и м. А Лиза чувствует, что поговорить должна.
Она в какой-то момент начинает смотреть поверх их голов, пытаясь слегка затуманенным от лекарств и температуры взглядом найти его, потому что совершенно уверена, что он в комнате, просто не подходит. Конечно не подходит, то ли не желая мешать дружному воссоединению с пажами, то ли просто решив по какой-то своей причине, что является так или иначе причиной нынешнего ее состояния. Лиза слегка нахмурит брови, когда наконец найдет его лицо, уже не отводя больше глаз и невозможно теперь не заметить, что она на Кирилла смотрит. Ну неужели, неужели снова решит, как когда-то на похоронах Саши стоять в стороне, потому что так лучше, безопаснее, правильнее и вообще потому что во-всем-точно-виноват. Мужчины иногда бывают просто невыносимы, особенно мужчины благородные. И, тем не менее именно благородных мужчин так сильно любят дамы. Так сильно любит она. Шум голосов постепенно стихает, словно все понимают, что лучше теперь оставить их наедине [пусть и не все присутствующие так уж этого хотят]. Лиза не замечает, как они уходят, вообще ничего не замечает, лежа на спине и разглядывая его лицо, кажется то ли осунувшееся, с темными тенями, которые как и у Вари пролегли под глазами, то ли просто повзрослевшее. Лиза вглядывается в него, а в комнате на какое-то время повисает тишина. Подумать страшно как в его глазах теперь выглядит она.
Хочется избавиться от одеяла – ужасно жарко, аж дышать нелегко. И все же чуть лучше, чем до этого.
— «…но временами одинокий путь счастливейшим мечтам дает досуг…», — негромко, сипловато прорежется голос, а она все смотрит и смотрит на него, словно никак не может толком наглядеться. И эти строчки вырываются так неожиданно, что могут сбить с толку, но они приходят на ум больного сознания. Те самые строчки, которые он забыл там, в саду, где они лежали, отбирая у нее книгу – смешной, влюбленный и ребячливый, такой, каким казалось только она его и видела. — «И позволяет время обмануть. Разлука сердце делит пополам. Чтоб славить друга легче было нам…», — заканчивает, смаргивая болезненную пелену с глаз – жар достаточно сильный, от чего кажется, что глаза тоже жжет. Лиза помолчит, то ли ждет реакции, а может просто набирает в грудь побольше воздуха, которого явно не достает теперь. Сердце заколотится в груди быстрее – то ли от того как он близко, то ли от осознания, что он здесь, что в тот момент пока она находилась где-то в болезненном забытьи, его не отправили черт знает куда, ведь даже больным сознанием она может понимать, что после нападения на них все не окончится простым выговором. И Лиза, совершенно теперь не выдерживая того расстояния, которое образовалось между ними двумя заговорит снова:
— Ну что же вы, Кирилл Андреевич? Неужели я выгляжу… — еще немного воздуха набрать в легкие. —…так плохо, что вы не хотите ко мне подойти? — называет его полным именем, губы дрогнут в слабой улыбке, вопрошая верна ли ее догадка, после чего Лиза протянет к нему руку, не оставляя, собственно выбора, кроме как действительно подойти к себе и ухватываясь за нее, как за привычный спасательный прут. Из памяти услужливо стираются те недавние моменты болезненной агонии, когда всеми силами души хотела эту руку отпустить – теперь ей определенно этого совсем не хотелось. Ее ладонь ужасно горячая, но она не отнимает ее, заставляя опуститься рядом с собой и прижимая к чужой щеке, выдыхая. — Я знаю, ты злишься на свою Лизу… не злись, Кирюша. На меня нельзя злиться теперь – я знаю, что на больных нельзя злиться. Не думал же ты, что только мужчины могут своей жизнью рисковать? Вы, мужчины, не даете нам женщинам побыть героинями… — она продолжает улыбаться, чувствуя, как силы, постепенно снова покидают ее тело. Боже, за несколько дней превратилась ты в совершеннейшую развалину. — И потом… — улыбка получится чуть шире. —…я в конце концов не просто женщина. Я Романова, цесаревна – я может быть должна защищать своих подданных, так батюшка говорил…
Она отнимает руку от его лица, успокоенная его нахождением здесь, убаюканная мерным тиканьем часов и звуками легкого ветерка за окном. Эх, сейчас бы туда, на волю, на воздух – играть в салки, гулять, дышать, любить, а не лежать здесь мертвым поленом, источая не самые приятные запахи. Но придется, кажется, потерпеть.
— Не ты стрелял, Кирюша… — неожиданно заявит она, когда казалось, что уже задремала, объятая температурой и слабостью. Но необходимо сказать все, пока есть силы, пока он здесь. —…не ты стрелял, чтобы себя винить. А пуще того должен себя винить тот, кто приказывал стрелять… — мысли начинают совсем путаться в голове, а ее фразы оказываются все более бессвязными между собой. Она словно торопится высказать все накопившееся, будто после этого не успеет. А ежели и правда не успеет и он корить себя начнет? Невыносимые благородные мужчины! — Ты не уходи, пока я не усну, не уходи…
Боже, сколько раз она говорила ему эту фразу? Не уезжайте, не уходите, а после умоляла вернуться. Это входит в некоторую привычку, а, Лиза?
Глаза закрываются окончательно, но она успевает пробормотать последнее, прежде чем окончательно окунуться в объятия сна, который столь цепко ухватил ее в свои объятия.
— А этот сонет я не люблю… Не бывает в разлуке ничего хорошего… Ведь…ведь… — словно пытается подобрать слова, но они упархивают, разлетаются в разные от нее стороны. Царство Морфея берет свое. —…ведь не было бы ее и не было бы всех этих сладостных встреч…никто бы просто не расставался. В разлуке только грусть, Кирюша и более ничего… Поэтому ты не уходи, пока я не засну…
И может быть для того, чтобы и вправду не ушел она готова бороться со сном до последнего, но проигрывает в итоге, проваливаясь в радостные объятия поджидающего и изголовья Гипноса.
В разлуке и вправду ничего хорошего нет – она ненавидела ее, ненавидела прощаний, за которыми может и следовала встреча, но зачастую следовало лишь горе. И никогда ее не полюбит – разлука разрушит ее жизнь и это окажется куда болезненнее, нежели пуля в плече.
***
Возможно, в иной раз он бы непременно сдержался бы. Если бы она просто заболела, если бы на ней была пара синяков или царапин, что доводилось видеть все то время, которое были они ее пажами. Но нет – картина, открывшаяся их глазам и близко с этим не стояла и вынести это оказывалось слишком сложным. И как только он видит его, выходящего из спальни, где она лежала необычно для себя бледная, измученная, р а н е н а я [да господи боже, в нее стреляли!...] и что самое ужасное – п р о с т и в ш а я [от чего образ цесаревны в глазах Семена становился совсем уж святым], то дергается вперед, совершенно теперь не задумываясь о том разумно это или нет. Он ведь офицер, в конце концов, а пострадала его о н а, словно они попали в дурное зазеркалье. И потом, если бы она не выдержала, если бы пуля прошла не в плечо вовсе, а…страшно подумать что еще! Паша и Матвей, не ожидающие такого его рывка, подрываются с опозданием, впрочем, на них сейчас Семену глубоко безразлично.
— Как вы могли это допустить, сударь?! – восклицает, а в глазах загорается праведный огонь возмущения. — Она ведь была под вашей защитой! Да если бы, да если бы!... — задыхается от одной мысли о том, что могло произойти. — Что бы делала ваша милость, если бы пуля попала не плечо? Где были вы, когда в нее стреляли? — пожалуй, если бы Бестужев знал наверняка, что в нее не просто стреляли, а это она кого-то прикрывала, пожалуй, не удержался бы вовсе. Впрочем, теперь уже о сдержанности не поговоришь после таких-то выпадов. — Ваш долг если понадобилось бы умереть, но защищать ее! Это просто трусливо! — но прежде, чем он успевает наделать дальнейших глупостей, достать шпагу или выкрикнуть последний решающий призыв «к барьеру», его буквальным образом оттаскивают навалившиеся невесть откуда Строганов с Богославским.
— Семен, совсем ты что ли с ума сошел! — в сердцах выкрикивает Паша в его бесполезных теперь попытках вырваться. Крепко держат – черти. — Кирилл Андреевич, простите…да прекрати ты брыкаться, совсем головой ударился?
И непонятно чем бы эта нелицеприятная сцена в итоге закончилась дуэлью, на которой с вероятностью в процентов девяносто Семен бы потерпел поражение, потому что в фехтовании не отличался такими успехами как тот же Паша или просто дракой, прямо перед дверьми уснувшей таки цесаревны, не появись в дверях, ведущих в противоположные покои Варвара Григорьевна, с медным тазом наперевес. Ей хватило нескольких секунд, чтобы разобраться в том, что теперь происходило и выглядела она настолько мрачно-грозной, что волей-неволей замолкнешь. И надо же Матвею было влюбиться в такую девицу! И не забояться при этом. Позади княжны вырастает фигура не менее странная – все тот же китаец, который очевидно еще немного и пустит в ход кинжал, который прятал за пазухой все это время. Она обводит их пылающим взглядом своих глаз, прежде чем процедить:
— Вы совсем головы потеряли, господа? Что за балаган вы здесь устроили? Хотите выяснять свои отношения – милости прошу вон, во двор. Но лечить вас после этого не стану, не надейтесь даже. Глупость не лечится. А если вы ее разбудите теперь, то клянусь, как бы она сама не просила ни один мужчина порог этого дома не перешагнет! Боже, нравится вам что ли вести себя как младенцы? — она презрительно фыркнет, давая короткий знак Цзы Чаню, что никакой опасности более нет проходит к спальне и перед ней нет-нет, да расступаются настолько решительно-грозно она теперь выглядела. Варя замирает у входа, поудобнее перехватывая тазик с компрессами.
— А знаете, что, господа, вправду ступайте-ка отсюда, а то не ровен час еще чего не поделите. Во флигель. Все четверо, — после чего осторожно прикроет за собой дверь, оставляя китайского дворецкого присматривать за тем, чтобы выше обозначенные господа действительно удалились из главного дворца в пристройку и не появлялись в нем, пока госпожа не сменит гнев на милость или же пока страсти не улягутся.
— Сдюжишь? – Паша забрасывает мрачному Строганову руку на плечо, очевидно намекая на характер Варвары Григорьевны, первым спускаясь с крыльца.
— С такими друзьями как вы, скорее мне умереть, чем сдюжить, — фыркает тот в ответ, пытаясь дать Бестужеву подзатыльник и получая в ответ на это такой злобный взгляд его, что рассмеется и поднимает руки к верху. Да, может быть остыть теперь всем и не помешает, тем более теперь, когда ссориться уж никак нельзя. Да и вообще – главное, чтобы цесаревне стало лучше. Это ведь надо только – беда за бедой, а сколько еще впереди. Если главных заговорщиков таки найдут, то потом будут искать всех, кто с ними связан. Не дай бог ты в карты с ними играл или воду подносил – мигом запишут в соучастники. И до глупых ли выпадов Бестужева теперь? Жаль, он это понимать отказывается.
_______________________♣♣♣_______________________
Ей становилось лучше постепенно, но окончательное улучшение пришло тогда, когда проснувшись утром Лиза потребовала сладкого. Взяла и потребовала, подорвавшись с постели неожиданно легким движением, превращаясь в какого-то капризного ребенка, которому непременно нужно было съесть как можно больше пирожных с лимонным кремом или шоколадом – не главное, только бы сладкого. И, прибежавшая на зов ее Варя, которая очевидно решила, что все потеряно как минимум долго не могла отсмеяться на обиженно выпяченную нижнюю губу цесаревны, которая, очевидно, не собиралась отказываться от идеи поесть своих любимых сладостей здесь и сейчас, заявляющей: «В горло уже ваша каша не лезет!» и не понимающая что тут собственно говоря смешного. Это было огромным улучшением теперь, пусть ее повязку нет-нет, но меняли, а рука то и дело побаливала, но лицу вернулся здоровый розоватый оттенок, а жар уже давно не возвращался, но тем утром, кажется, плоды лечения в виде все того же громкого заявления: «Хочу сладкого!», были на лицо. Лиза, получив себе желаемый поднос, находясь очевидно теперь в благостном расположении духа, конечно же сказала Марфе пойти да сказать Кириллу Андреевичу, что она его ждет и что ей намного лучше. Да только то ли Марфа расслышала лишь первую часть, то ли настроение у нее теперь было действительно исключительно трагичным, но вышло все несколько не так, как радостно Лиза задумывала.
Отправленная с радостной новостью, неторопливая Марфа с каким-то трагическим лицом греческой музы печали сообщила растягивая слова привычно, что: «К Елизавете Петровне срочно требуют…», но видимо произнесла это с таким чувством, что никто и не стал ждать окончания фразы, просто рванул к Елизавете Петровне, которая, если основываться было исключительно на лице и тоне горничной, которая за это время успела устать от постоянных понуканий совершенно несговорчивой Вари, едва ли не находилась при смерти. И, провожая унесшегося прочь Волконского она недоуменно-ворчливо проворчит: «Ну вот, опять не дослушали…». А после величественно удалится следом за таким нетерпеливым капитаном, все с тем же скорбным выражением лица оскорбленной невинности.
Лиза, как раз отправляет в рот очередное пирожное, застывая с ним в руке, не успевая донести его до рта, как только замечает в дверях Кирилла, который радостным совсем не выглядит и это странно – она думала обрадуется, а не испугается. Да уж, она, с измазанным в сливочном креме кончиком носа, с пирожным в руке, ровно сидящая в своей постели, не особенно походила на умирающую и от того картина это была весьма нелепой. Лиза, ловит на себе его взгляд, сначала радостная, а после недоуменная, а после и вовсе закашливается, чтобы не подавиться. Смотрит так, словно видит призрака, поедающего сладости. Куда как хорошо!
— Кирюша! — под таким его взглядом покажется, что она как минимум делает что-то предрассудительное, но желание съесть это самое злосчастное пирожное оказывается все же сильнее, она отправляет маленький кусочек в рот, прежде чем взмахнуть рукой, все еще толком не понимая в чем точно дело и что наговорила ему Марфа. Если бы чувствовала себя на ногах более устойчиво – пошла бы во флигель сама, но, несмотря на явные улучшения, чистую, затягивающуюся постепенно под чудодейственными мазями рану, она ходила только с чьей-то помощью и обычно это заканчивалось долгим отдыхом. Сейчас же, определенно должно было стать лучше. — Видишь…я ем пирожное! – словно это какое-то достижение, не иначе. Лиза не выдерживает этой испуганной тишины в итоге, откладывает его на поднос, хмурится, выгибая бровь и не понимает в чем, точно проблема.
— Кирилл, ей богу… — откашляется. — Что тебе такого Марфа сказала, что ты смотришь так? — Лиза фыркнет, а потом и вовсе рассмеется. И это, кажется, первый день спустя все эти дни неизвестности, страха, невыносимые дни на самом деле, когда никто не знал, что готовит день грядущий и этот смех так подходит ей, звонкий, переливчатый смех, которым она заливается, дожидаясь пока он не подойдет \\ подбежит \\ подлетит к ней, после чего протягивает обе руки к его плечам, слегка морщась от не самых приятных ощущений, но все же будучи в состоянии его обнять. — И вот так делать я могу, обнимать тебя могу, — улыбаясь проговаривает в губы, а после и вовсе потянет на себя, заставляя упасть на ту мягкую, пусть все еще и пахнущую лекарствами перину, почувствовав в руках определенную силу и вновь заливаясь смехом. — И даже так могу! Только больше не смотри на меня так, словно похоронил! Напугал, ей богу! — заявляет Лиза, перед тем как легко поцеловать его, даже не зная хочет ли она наругать Марфу или похвалить. Самые приятные поцелуи — в уголки губ. Особенно, когда нечаянно. Когда ты еще не решил, куда целовать и делаешь это по серединке… — Глупый, — ласково ерошит его волосы здоровой рукой. — ну как ты мог подумать, что мне хуже или еще чего-нибудь. Я ведь тебе когда-то писала, что у меня, Кирилл Андреевич – отличное здоровье!
Она бы, может поцеловала бы его еще раз, упиваясь кратковременной близостью, которую так нежданно-негаданно подарила судьба и это самое ранение, если бы в комнату не зашла Варя и по ее лицу легко можно было понять, что не случилось ничего хорошего. Лиза вопросительно смотрит на нее, улыбка постепенно гаснет на лице, оставляя место внимательной серьезности. В душе что-то предательски обрывается – совсем как тогда, когда поняла, что еще секунда и в него выстрелят. Так почему же теперь создается точно такое же впечатление? И за окнами, будто, действительно слышится чей-то топот и неразборчивые крики. Лиза переводит вопрошающий взгляд на Кирилла, после снова на Варю.
— Не хотела мешать, но у нас гости. Император изволил приехать, — лицо Вари спокойно и голос собран, но Лиза слишком хорошо ее знает, чтобы понимать насколько внутри подруги все содрогается. Да что там – у нее самой в душе все переворачивается, ухает куда-то вниз, леденеет, словно едва вышедшее из-за туч солнце снова прячется за них, чтобы уже никогда не выйти, так легко стирается безмятежное выражение ее лица, оставляя холодному, бледному выражению обреченности.
Откуда он здесь? Чего именно хочет? Когда он успел вернуться в столицу? Столько вопросов появились в голове, а рука сразу же дает о себе знать, начиная ныть и побаливать.
— Вот же, неужели он не может оставить меня в покое… — она почти стонет, поднимаясь с постели и удерживаясь за плечо Кирилла. Да, ходить у нее получается все еще не слишком успешно, но все же худо бедно получается, несмотря на закостенелые от времени проведенного в постели мышцы. Движения даются с трудом, она пошатнется, пошатнется куда опаснее, ухватываясь по инерции больной рукой, за Кирилла, а другой за прикроватный столик едва не опрокидывая стоящий на нем поднос. Морщится, от настолько резкого движения, которого в иной раз бы избежала, но теперь никак нельзя. В дверь ломятся, он с а м ломится, как бы не убеждали его теперь, что цесаревна просто отдыхает после насыщенного утра и не важно себя чувствует. Из-за двери несется знакомый и ставший уже ненавистным голос: «Но я ведь знаю, что она здесь. Я император, я приехал и желаю ее видеть!». Все увещевания становятся тщетными.
— Оденьте меня, — коротко, упавшим голосом, но твердо требует она, всем своим видом показывая, что отступать не собирается теперь. Выбора ей и им не оставляют – если увидит ее состояние, увидит ее руку, увидит здесь Кирилла… боже, как надоело прятаться, если бы кто-то мог представить. Скрываться, словно преступники, но теперь не было времени об этом сокрушаться. И даже халат, который так скоро набрасывают на ее плечи, надежно скрывая последствия лесной п р о г у л к и, кажется каким-то доспехом настолько тяжело он на них лежит. Страшно подумать, что с ней случится, когда придется надевать платье и боже мой, корсет. Лиза делает несколько глубоких вдохов и выдохов, слегка пошатываясь и удерживаясь за Кирилла, заставляя того посмотреть на себя, обхватывая его лицо руками. — Кирюша, послушай меня, подожди здесь, но чтобы он тебя не увидел. Прошу, послушай меня – так оно ведь правильнее будет.
Хотя ты и сама отлично понимаешь, что постоянно его прятать не выйдет. Когда-нибудь всеобщее терпение просто лопнет. Но сейчас момент совершенно неподходящий, чтобы революцию устраивать. Лиза смотрит умоляюще, прежде чем выпрямиться [и бог знает чего это ей теперь стоит!...] в полный рост и пойти на настойчивый стук в дверь, натягивая на лицо безмятежно-скучающее выражение, но не раскрывая двери полностью и не пропуская настойчивого императора дальше порога. Он даже отпрянет настолько неожиданно ее лицо оказывается перед его носом. Лиза незаметно ухватится за дверной косяк, обретая, наконец, хотя бы какую-нибудь точку опоры.
— В чем дело, Василий Борисович? – наигранно-устало, выгибая бровь и обводя всю честную компанию, которая следовала за ним – гвардейцы-васильевцы, телохранители, да и просто очевидно привычные сопровождающие. — Я отдыхала, а вы кажется решили устроить целую военную компанию на бедного Григория Сергеевича, таким неожиданным визитом, право слово… — небрежно поводит плечом, а сама только и мечтает закрыть дверь и снова оказаться в постели, потому что тело слишком слабое еще, чтобы совершать такие подвиги.
— Хотел лишь удостовериться, что вы и вправду здесь, Елизавета Петровна. Как мне и сказали. И в добром здравии я вижу. Впрочем, не кажется ли вам, что вы загостились у князя?
В добром здравии – значит определенный актерский талант у нее, все же имеется, как видно. Потому как она себя сейчас в действительно добром здравии вовсе не ощущала, скорее была близка к потери сознания, вынужденная при этом улыбаться и вести себя так, будто и вправду просто проводила здесь веселые каникулы, удила рыбу или танцевала днями на пролет. Боже, только бы он ушел, скорее ушел, просто ушел. Постепенно, ноющая боль начнет расползаться по поврежденному плечу, а она продолжит стоять на его пути. Возможно, император даже хотел бы обнаружить ее вовсе не у князя, хотел бы обнаружить тот самый заговор, о котором теперь только и слышно везде. Ведь как тогда просто было бы избавиться от человека, каким он никогда не сможет стать и который, тем не менее, спас ему жизнь. Какая ирония! Именно поэтому он так яростно и пристально выискивал на ее лице и в ее поведении признаки лжи и ее сердце готово вот-вот выпрыгнуть из груди, от страха и от усталости. Для нее сейчас такие подвиги все одно, что легкая пробежка. Боже, быстрее бы ушел, только бы выстоять еще немного, еще немного…
— Григорий Сергеевич очень гостеприимный хозяин, Ваше Величество. Я просто находила его дом достаточно безопасным после…произошедшего, — она подрагивает и отчаянно надеется, что этого по крайней мере не заметно. На Кирилла Лиза по понятным причинам не смотрит, так как таким образом рискует их выдать, но наверняка читает его мысли, которые должны были крутиться то ли вокруг персоны императора, то ли вокруг их собственной беспомощности перед императорской властью. Ах, если бы только Саша остался жив, а они быстрее бы поняли, что чувствуют – насколько иной была бы тогда жизнь!
— Что же, я рад, что вы в порядке. Но можете возвращаться – дворцу ничего не угрожает. Надеюсь увидеть вас в скором времени д о м а. И это не просьба.
Лиза какое-то время смотрит в его глаза бесцветно-голубые, водянистые глаза и гадает действительно ли когда-нибудь знала этого человека, действительно ли выросла с ним под одной крышей и действительно ли могла не замечать всех тех наклонностей, которые он показывал все это время. Неужели монстр все то время просто спал, а дорвавшись до трона вдруг проснулся? Тем не менее, ей ничего не остается, кроме как сделать вымученный и на самом деле ужасно неуклюжий реверанс [только бы не заметил, только бы!...], прежде чем выдавить все с той же приклеенной к лицу улыбкой, которая уже скорее напоминала гримасу боли:
— Как вам будет угодно…
И едва его фигура не удалится от нее, от ее спальни в усадьбе, пока не затихнут дробные звуки высоких сапог, которые он неизменно натягивал на себя, Лиза закроет дверь и едва ли не осядет на пол, подхватываемая надежно обратно, выдыхая рвано, но облегченно. Она позволяет просто поднять себя на руки, опустить на кровать и только тогда заговорить:
— Тебе, Кирюша, тоже нужно поехать, раз он вернулся. Не время теперь рисковать… — хватается за его руку, подтягиваясь на подушках и не желая слушать и слышать возражений на этот счет. —…иначе все зря. Я в порядке. Просто нужно больше ходить – я слишком залежалась здесь. Нельзя больше подставлять князя. Но, все же, как я его, а? — и даже в своем не особенно утешительном состоянии Лиза умудряется тихонько посмеяться, в зеленых глазах забрезжит лукавый огонь. — Может и правда пойти в актрисы, а?...
_______________________♣♣♣_______________________
Издалека еще слышатся веселые голоса придворных дам, очевидно радующихся новой забаве – привезли воздушного змея и теперь по очереди они запускали эту диковинку, прикрываясь веерами кокетливо, когда на помощь спешили им мужчины. Июнь расцветал вовсю, а за ним наступили и именины императора, уже полностью и окончательно, очевидно, отошедшего от потрясения нападения на свою персону. С самого утра перепадал мелкий дождик, сменяемый по временам теплым солнечным сиянием; была непостоянная погода, но это не помешало устраивать двору развлечения на свежем воздухе. Небо то всё заволакивалось рыхлыми белыми облаками, то вдруг местами расчищалось на мгновенье, и тогда из-за раздвинутых туч показывалась лазурь, ясная и ласковая, как прекрасный глаз. Листья чуть шумели над головой; по одному их шуму можно было узнать, какое тогда стояло время года. То был не веселый, смеющийся трепет весны, не мягкое шушуканье, не долгий говор середины лета, не робкое и холодное лепетанье поздней осени, а едва слышная, дремотная болтовня. Слабый ветер чуть-чуть тянул по верхушкам. Внутренность парка, влажного от дождя, беспрестанно изменялась, смотря по тому, светило ли солнце или закрывалось облаком; он то озарялся весь, словно вдруг в нем всё улыбнулось: тонкие стволы не слишком частых берез внезапно принимали нежный отблеск белого шёлка, лежавшие на земле мелкие листья вдруг пестрели и загорались изумрудными отблесками, а красивые стебли высоких кудрявых папоротников, так и сквозили, бесконечно путаясь и пересекаясь перед глазами; то вдруг опять всё кругом слегка синело: яркие краски мгновенно гасли, березы стояли все белые, без блеску, белые, как только что выпавший снег, до которого еще не коснулся холодно играющий луч зимнего солнца; и украдкой, лукаво, начинал сеяться и шептать по лесу мельчайший дождь. Листва на березах была вся зелена, хотя и стала заметно ярче; лишь кое-где стояла одна, молоденькая, вся бледно-зеленая, и надобно было видеть, как она серебрилась она на солнце, когда его лучи внезапно пробивались, скользя и пестрея, сквозь частую сетку тонких веток, только что смытых сверкающим дождем. Ни одной птицы не было слышно: все приютились и замолкли; лишь изредка звенел стальным колокольчиком насмешливый голосок синицы. Впрочем, вместо птиц щебетали по высаженной здесь роще все те же фрейлины и прочие дворянки, разбежавшиеся теперь по парку и очевидно ужасно довольные предоставляемыми им развлечениями.
Лиза прогуливается по дорожкам вместе под руку с Варей, наконец-таки оставленная в покое самим императором, общество которого заполняло весь этот бесконечно тянущийся день. Ей даже в какой-то момент показалось, что плечо снова дает о себе знать, хотя в последнее время оно никак не беспокоило ее, только тихонько ныло, если слишком уж активно что-то рукой делать. Каждый раз, когда у нее выходило разглядывать свое отражение в зеркале, она подолгу разглядывала неровные розовые края отметины, которые вскоре превратятся просто в шрам, а после задувала свечу и отправлялась спать. Теперь она змея тоже не запускала, сославшись на то, что это развлечение не для нее [и удивительно, что император сразу же его не запретил в таком случае], таким образом сохранив для своего плеча относительный покой и вынужденная наблюдать за развлечением издалека. Впрочем, уже некоторое время волновало ее вовсе не то, что она не может запустить кусок разноцветной ткани в небо, а, собственно пара, которая обосновалась неподалеку от него и участия в этом не принимала так же. Варя это ее особенное внимание видимо заметила:
— Нашей Ксении Дмитриевне Кирилл Андреевич нравится видно, что скажешь?
Лиза вздрагивает, прекращая наблюдать \\ прожигать дыры в головах \\ метать молнии в конце концов за стоящими в тени и о чем-то разговаривающих княжной и ее [да-да, ее, хотя она и не может даже никак это заявить!] Кириллом и хмуро глядит на нахально почти усмехающуюся Варю. Варе конечно хорошо с ее отрицанием любви и наукой, но нечего сказать знает как поддержать! Княжна Голицына тем временем и вправду выглядела до нельзя счастливой. Или же Лизе попросту так казалось. Она понятия не имела о чем они говорят и не могла спросить. Как это вообще будет выглядеть? Подойдет и скажет: «А о чем это вы так мило беседуете с моим…» и вот тут случится осечка. С моим кем? Как это вообще называется? В груди поднимается что-то вроде протеста, что-то, что она обычно не испытывала, потому что это то самое, что обычно испытывали по отношению к ней. Лиза также понятия не имеет и о том, как вообще так случилось, что темноволосая, темноглазая княжна, родственники которой теперь столь приближены ко двору вообще привлекла его внимание. А это что? Не улыбается же о н. Нет, совершенно невыносимо!
Зеленые глаза ее опасливо сощурятся, Лиза фыркает, тряхнет рыжими локонами, поводя плечами.
— Ксюше? Как же – она ребенок, помню ее еще совсем маленькой. Только в свет выходить начала!
— Ну это ты зря – она вроде бы младше нас всего на год. В свет позже просто вывели. Да и выросла давно, похорошела, а?
— Ох, Варюша, а не перестать ли тебе говорит ерунды? — Лиза цедит последнее сквозь зубы, а сама все равно смотрит на них.
Вот – она опирается на его плечо, очевидно вытряхивая камешек, застрявший в туфле.
Вот – он улыбается. Улыбается. Ей, значит и на Пасху, оказалось ничего толком делать нельзя, а тут значит ничего такого! И что такого смешного они находят в своей беседе?
Ну да, если подумать – ведь с такой девицей было бы даже как-то проще. Она, конечно, княжна, но за ней нет кучи проблем в виде целого императора, да и ухаживать за ней можно открыто, да и вообще у нее не рыжие волосы, а темно-каштановые, почти черные! Лиза бы в другой раз посмеялась сама над собой от таких заявлений, но ее настроение так стремительно падало вниз, а откровенное возмущение тем, что Кирилл то ли действительно не видит, то ли только вид делает, какое иной раз производит впечатление на женский пол, начинало переходить какие угодно границы. Лиза какое-то время не виделась с ним, потому что вздумалось императору таскать то ее то его за собой, как глупых марионеток по разным дворцам, а теперь на тебе.
Если бы Лиза знала теперь, хмуро глядя на развернувшуюся перед глазами идиллию [с ее точки зрения], кто эта девушка с большими глазами-черешнями, встретившаяся на пути не только на самом деле Кирилла, но и, собственно, ее, наверное бы рассмеялась. Горько и отчаянно. Но в тот летний день это было не более чем предметом раздражения.
— Что же, пусть общаются дальше. Нужно же мужчинам какое-то разнообразие, — звучит это так по-детски обиженно, что самой от себя смешно и противно одновременно, но ничего она поделать с этим не может, удаляясь прочь неожиданно быстрой походкой, то ли ожидая, что он заметит, пойдет следом, то ли еще чего, но очевидно только больше раздражаясь на то, что не пошел.
«Ба, да ты ревнуешь».
Может быть, впервые в жизни.
Но если так подумать – то и влюбилась ты так впервые.
***
—…vouloir – хочу. Значит, если «я хочу», то будет je veux, а если «он хочет» – то il veut, — Лиза добросовестно произносит французские глаголы, спряжением которых и мучает Кирилла уже некоторое время. К своим обязанностям учителя она, впрочем, подходит вполне серьезно, а сегодня в д в о й н е серьезно, потому что перед глазами все еще стоит все та же картина. Улыбается. Он. Она. Глупость конечно, но от этого сговорчивости ей это не добавляет. Может именно поэтому сегодня и выбрала так мстительно эти ненавистные ею самой французские спряжения, к которым она и была намерена придираться, что вряд ли было слишком педагогично, но все же. Лиза на него почти не смотрит, погруженная в свои мрачные картины того, что видела и что считала с в о и м точно также, впрочем, как и он.
— Значит, если сказать, к примеру, — бросит на него короткий, оценивающий взгляд, а потом продолжит. — он хочет улыбаться, — последнее произносит почти по слогам, поджимает губы и перейдет на французский. — то требуется сказать il veut sourire. Некоторые из нас, к примеру, очень это любят в присутствии лиц посторонних, к примеру д а м, — Лиза берет себя в руки, стараясь эту тему не развивать и тем самым себя как минимум не выдать своих истинных чувств. Да, это просто урок, а это просто замечание. Ничего такого. — Что? – словно и так не понятно «что», но она лишь передергивает плечами, весьма, впрочем плохо на этот раз изображая безразличие. Этим небрежным с виду «что» она только сильнее свое внутреннее и на самом деле ревнивое недовольство выдает. — Слово смеяться, к слову, я вам К и р и л л А н д р е е в и ч говорила. Надобно уже и знать, — вновь дернет плечами, не замечая даже, как в своем мрачном настроении называет его полным именем и окончательно выдавая свое совсем не безразличное настроение.
Лиза поднимается со своего места, забирая маленькую французскую книжку, откуда и диктует обычно короткие и легкие предложения или слова, но в действительности просто слишком обижена, слишком раздражена, слишком… р е в н у е т, чтобы сидеть на месте, вот и приходится хотя бы чем-то себя занять. Но все это так сложно оказывается держать в себе, что она прерывается, бросая на него очередной быстрый, недовольный взгляд и спрашивает стараясь сделать вопрос как можно более как бы «между прочим».
— Между прочим, вы так мило общались с княжной Голицыной, право слово. Вот вам и je souris – я улыбаюсь, — Лиза фыркает, надувается при этом, все больше и больше напоминая и себе и наверняка ему ребенка. — Ну да, конечно, я даже готова понять – она мила, невинна и главное – свободна, почему бы и нет? Хотя она, конечно, под пули не бросалась, может и не бросится никогда, но это, конечно ничего, может даже умно! — от последнего обидой так и сквозит. — Но ничего такого, я продолжу… nous sourions – мы улыбаемся… — и она снова утыкается взглядом в книжку, хотя слова почему-то разбегаются, а перед глазами снова и снова только эти двое отчего-то так и запавшие в душу. Лиза, разобиженная на него и на весь уже мир, не замечает, как он оказывается теперь уже рядом с ней, очевидно замечая, таки что ее «ничего» крайне обманчиво, а сама Елизавета Петровна едва ли еще не пыхтит от надуманного самой себе трагедией.
Лиза прервется, попытается как минимум вернуться на свою прежнюю позицию, но куда там – уже не получится. Приходится поднимать лицо, разглядывая его бессовестно красивого и от этого вся решимость быть по крайней мере на сегодня нерушимой крепостью как-то иссякает, но она еще держится. Вот и спрашивает хмуро ставшим за этот день любимым слово:
— Что?
Наверное, это последняя капля, перед тем как поднимут ее вверх, заставляя тихонько, предательски ахнуть и едва ли не выдать улыбку, но она да-да, все еще д е р ж и т с я. Ухватывается невольно за плечи, слишком кажущаяся себе маленькой, чтобы сопротивляться пусть и пытается. А ведь он, очевидно все понимает ровно как и она, когда видела его собственное возмущение там, в казармах.
— Кирилл!... — вырывается невольно, когда она еще пытается хоть как-то сопротивляться. —…Андреевич, — буркнет, опомнившись не собираясь так легко сдавать позиции оскорбленной особы, удерживаемая при этом в таком положении, что сохранить лицо на самом деле очень сложно. А его лицо при этом оказывается так привлекательно близко… — Отпустите меня немедленно, Кирилл Андреевич, — продолжая гнуть свою линию и не собираясь, кажется, менять гнев расстроенной женщины на милость. Из последних, если честно сил, стоило только на его лицо посмотреть. Впрочем, упрямые они оба и он, очевидно слушать ее не станет.
Лиза смотрит в его глаза, чистые теперь, серые, на дне которых теперь трепещут эти лукавые, мальчишеские искорки смеха. И не выдерживает уже, пару раз ударяя, все же по плечам кулачками:
— Отпусти! Ты вот также улыбался, вы очень мило щебетали черт знает о чем! Мне конечно все равно – у меня тоже достаточно поклонников и письмами их все бюро забито, да! — обиженно все еще выдает она, но сопротивления уже больше не оказывает, понимая, что не отпустит. — Ладно, может не все равно, может и ревную, а что нельзя? Неужели ты правда, Кирюша, не видишь, что ей нравишься, или вид делаешь так хорошо? Как можно быть таким невыносимым дураком что… — она не договаривает, перехватывая воздух, прежде чем ссора разом так толком и не начавшись закончится. Губы касаются губ и вся гневная решимость куда-то окончательно отступает.
— И все равно отпусти, — уже тише и как-то совсем неуверенно бурчит она, но целует тем не менее снова.
— И я все равно обижена, — добавляет она, но уже улыбается, целует снова.
— Как прикажешь с тобой ссориться? — не выдерживает в итоге, прижимаясь лбом к его лбу и только тогда чувствует под ногами твердую поверхность. Заглядывает ему в лицо и качает головой, убирая пальцами волосы. Хорошо еще что за такой сценой их никто не застал – уроки французского и так кажутся странными, хотя он, чтобы иметь хотя бы какое-то доказательство постоянно Кирилла экзаменует. — И как ты можешь не понимать, как на тебя женщины смотрят? Все-то нужно объяснять. И ты вообще с другими женщинами так улыбаться не можешь, нельзя, не разрешаю! — выпячивает обиженно нижнюю губу.
— Quand on est aimé on ne doute de rien; quand on aime, on doute de tout, — она переходит на французский прежде чем выпутаться таки из теплого и уютного кольца рук, бросит лукавый взгляд. — А что значит – не скажу. Заговорите на французском и узнаете.
А ведь все очень просто: «Когда мы любимы, мы не сомневаемся ни в чем; когда мы любим, мы сомневаемся во всем».
_______________________♣♣♣_______________________
Издали слышатся звуки уходящей вдаль охоты, звуки горнов, лай собак, которых в этот раз собралось великое множество. Всех гончих выведено было пятьдесят четыре собаки, под которыми доезжачими и выжлятниками выехало шесть человек. Борзятников, кроме господ, было восемь человек, за которыми рыскало более сорока борзых, так что с господскими сворами выехало в поле около ста тридцати собак и двадцати конных охотников. Оставалось под вопросом, разумеется, был ли в том огромный какой смысл, учитывая навыки некоторых охотников, но так или иначе императорская летняя охота обещала быть грандиозным собранием и Лиза изловчилась как могла, чтобы в какой-то момент попросту не исчезнуть из виду, шмыгнуть на скорой лошади прочь в надёжную лесную чашу, которой после случившегося необходимо было бы опасаться, но опасаться она так и не научилась. Говорят, способность бояться полезна и может спасти от многих ситуаций, но Лизе это, видно не было дано. Она точно знает, куда направляется и настолько за это время устала бояться, что, кажется, почти играла с судьбой, что когда-то делал и её брат.
Она останавливает лошадь у заимки, отдает поспешно уздцы подоспевшему быстро сторожу этого места и пробегает почти внутрь, на ходу снимая плащ и только оказываясь внутри, Лиза наконец выдыхает. Так странно, словно гнался за ней кто-то, а ведь и не гнался вовсе, а ещё немного все окончательно упьются и позабудут и об охоте и о ней. По крайней мере она отчаянно на это надеялась.
С собой у нее всего ничего, что смогло уместиться в мешок, да седельные сумки: немного свежего хлеба, фруктов, бутылка вина, настоящего французского, которое выставляет на столик, притулившийся в уголке охотничьего домика, с особенной гордостью – не разбила. Выдыхает, опускаясь на старенький, скрипнувший стул рядом и с удовольствием оглядывая свое маленькое предприятие. Теперь только бы пришел, только бы увидеться, только бы вырвался также незаметно, как и она смогла это сделать… А если записки не получил? Что же, будет сидеть здесь совсем одна, дожидаясь его до ночи?... Нет, наверняка должен был получить. И она сидит на одном месте, задумчиво разглядывая брошь, приколотую к платью, пока не послышится где-то одинокое ржание лошади [Плутон, как пить дать – Саша любил говорить, что в него «говор» особенный], скрип половиц крыльца, а после и скрип второй двери, на который она волей-неволей, но откликнется, живо оборачиваясь.
Как только она видит его фигуру мгновенно появляется на лице улыбку и так привычно для себя, порывисто, Лиза подрывается с места:
— Кирюша!
Она подбегает // летит к нему в руки, в объятия, целует, обхватывая лицо руками, а искрящиеся лесной зеленью глаза сияют. Они всегда так теперь сияют, когда она на него смотрит и иной раз диву даёшься каким образом никто этого не замечает.
— А я боялась, что не получил записки или не смог оторваться от них… — убирая с чужого лба непослушные, но такие любимые вихры, бормочет она. А после, когда сообразит, что отпускать ее снова никто и никуда не собирается, рассеется, рассыплется хрустальным смехом, но на этот раз сопротивляться не станет. — Кирюша, а я взяла еды, чтобы только на двоих, даже вино смогла, неужели даже вино не будем? – в глазах лукавство загорается. Сама же отлично знаешь, едва заглянув в глаза, что вряд ли вам теперь до этого. С тех самых пор, как в обнимку лежали в комнате и разговаривали о детях прошло достаточно времени и по понятным причинам ее же болезни, они не могли быть близки вовсе, но теперь, когда о досадном и болезненном ранении один свежий шрам остался можно было отпустить душу всерьез.
Она чувствует, запоздало, как прогибается очевидно старенький матрас под телом, но Лиза не была бы Лизой, не постарайся она напоследок хотя бы немного, но пошутить [хотя и хочется, быть может, совсем другого].
— Кирюша, я же совсем забыла! — делает честное лицо человека, который вот в этот самый момент вспомнил нечто важное. Легко уворачивается от чужих губ, рук, смотрит почти строго при этом. — Отвези меня в гвардию! Я же обещала на крещение приехать, крестной буду! Не красиво будет, если забуду!
Лиза действительно обещала, да и в гвардию обычно ей даже сопровождение не требовалось, но в этом и был смысл. Ее милый, честный мальчик, который продолжай она в том же духе со всей серьезностью смотреть на него, ведь наверняка отвезёт и даже вопросов задавать не станет, даже на то досадуя. И от этого осознания в груди щемящая нежность разливается, которую едва ли можно сдерживать, пусть она и пытается, стараясь не улыбаться слишком уж широко.
И, понимая, что ещё немного ее театрального представления и он действительно сгребет ее в охапку, да отвезёт куда она говорит прямо из леса Лиза не выдерживает, рука тянется к его лицу и она качает головой.
— Дурачок, — шепчет в губы, а рука заскользит по чужому, сильному плечу. — На крестины поедем, как ребенок родится, не сейчас. Сейчас, я совсем другого хочу, Кирюша… — и тянется да новым поцелуем, по которым, как видится истосковалась совершенно. Да и не только по поцелуям.
Мгновенье и их губы соприкоснулись, пустив безвозвратный механизм в их сердцах и заставив выплеснуться фейерверк различного оттенка эмоций, подняться от груди к ключицам и расползтись приятным теплом, заставляющим подрагивать конечности. На кончиках губ еле слышно соприкоснулись две прекрасные души, не потерявшие своей искренности и теплоты со временем. Приятное чувство расползалось по их телам, пока души пели в унисон, счастливо танцуя посреди фонтана расползающихся во все стороны глубоких чувств, и со вздохом наслаждения падали в бездну судьбоносной и роковой любви, охватившей одновременно два сердца.
***
Лиза разглядывает его лицо так пристально, что это кажется даже ему становится заметным. Она разглядывает брови, длинные-длинные ресницы, волевой подбородок, губы, которые в этот момент не сурово сжаты, а скорее расслаблены. Она смотрит так, словно запомнить хочется наизусть. Но ведь обычно так, конечно, смотрят, когда прощаются, а она прощаться не собиралась, так уютно устроившись на чужом плече.
— Знаешь, Кирюша, как я устала прятаться? — прозвучит это неожиданно тоскливо, серьезно. — Я ведь совсем этого не хочу. Я кричать о своей любви хочу, знаешь?
Он конечно же знал.
— И все, чего я хочу это вот так засыпать, а потом просыпаться, а видеть тебя. Того, кого люблю. И неужели это так уж много?
Она приподнимается на локте, ещё пристальнее вглядываясь в его лицо, прикладывая теплую чужую ладонь к своему лицу. Для кого-то важны переплетённые между собой пальцы влюблённых, для кого-то объятья и поцелуи, для меня же нет ничего лучше прикосновения руки любимого к твоей щеке. Совершенно простой жест, но даже он может быть наполнен тысячами невысказанных чувств и мыслей, вырывающимися наружу длинным потоком с этим мимолётным касанием. Это прекрасное чувство, когда любимый человек прикасается своей тёплой рукой к твоей холодной щеке и пытается согреть. Возможно, нелепо или невзначай, но с этим прикосновением по телу громом раскатываются тысячи мурашек. И появляется одна мысль, одно желание: быть рядом с этим человеком как можно дольше, чтобы он никогда не отпускал своих тёплых рук от ее горящих любовью щёк.
Она замечает и взгляд, брошенный на все тот же шрам, который так надёжно остался на ее плече, качнет головой и густые медово-рыжие волосы качнутся следом янтарной волной.
— Это тоже любовь, Кирюша, я так думаю по крайней мере. Ведь любовь не только такая, — она склоняется, целует, целует долго, не желая отрываться совершенно. А после позволяет накрыть рукой это самое плечо. От прикосновения к теплой коже по ней пробегут мурашки. — Но и такая тоже, — говоря как раз об этом шраме.
Она помолчит, повалится на подушки довольная собой, выкрадывая у этого дня оставшиеся крохи, пока компания, которая теперь наверняка занимается совсем не охотой их хватится. И вроде бы страшно, а вроде бы – сколько можно бояться? Потом, подумав немного сообщит, словно не обращаясь ни к кому конкретному. И по началу фраза может сказаться совсем непонятной, словно она задремала и решила говорить во сне:
— Маша.
Встречает его взгляд загадочно улыбается, а потом все шире и шире заиграют на щеках ямочки.
— Мария Кирилловна. Я придумала имя для нашей дочки, — поворачивает к нему голову, смотрит сияющими глазами и даже не добавляет «если она появится». Слово «если тут даже и не подвернулось.
Поделиться142024-05-20 21:19:16
— Что же самое страшное для человека, батюшка?
— Нет ничего страшнее, чем потерять веру, сынок. Без веры и жизни нет.
И он начал её постепенно терять, как кровь, которая текла неумолимо из невидимой глазу раны. Терять веру было рано и как следствие простой человеческой слабости. А быть может, узнай своё неприглядное грядущее, всё одно настаивал на одном: хуже “этого” ничего нет. Поразительно, сколь легко лишиться твёрдой земли под ногами да провалиться в бесконечную пропасть — долго ли ему падать, неизвестно совершенно. “Вчера” он верил в твёрдость своих убеждений, стремлений исполнять беспрекословно долг, а “сегодня” не верит вовсе, потому что суть сводится к одному — не долгу, не отечеству несчастному, а человеку, дыхание которого важнее собственного. Отмашки и увещевания юношеские кажутся сущей ересью и глупостью, — да разве можно было заявлять во всеуслышанье с важным лицом, что т а к о г о быть не может? “У меня сабля в подругах и более никого не нужно!”, — глупый, глупый, бесконечно глупый мальчишка, теперь дрожащий от страха. Что угодно оказалось зыбким, изменчивым как погода в столице, только не чувство, выжигающее душу. И он теряет основание казавшееся крепким, теряет веру и суть. Без неё разве сможет? Её боль вытерпит? Разве кто-то кроме Бога знает, каким прозвучит финальный аккорд? В затуманенном рассудке он более не понимает, для чего живёт, ежели в её теле застряла п у л я.
Кирилл без посторонней помощи знает, что виноват. Не нужно ловить недоуменные, осуждающие взгляды. Не нужно видеть отражающиеся на поверхности глаз вопросы. Однако, в момент определённый наиболее важным становится кое-что иное: сделать всё, чтобы её жизнь (с ним или без него) длилась дальше. Мастерство в сокрытии чувств познавать следует вечно хотя бы потому, что однажды его окажется недостаточно. Внутри пламя пылает, терзая сердце; тело содрогается дрожью, но в руках появляется небывалая сила, ведь держать крепко — всё, что может для неё сделать. Он был готов абсолютно на любой шаг, который потребовала бы жестокая судьба: на коленях умолять о помощи или окровавленной шпагой угрожать, — он был готов и этой готовностью пугает самого себя. А ежели впрямь, станет угрожать лишившись окончательно здравого ума?
Он не в состоянии даже разобрать холодна иль горяча её рука, только крепко сжимает в своей и впивается взглядом в её лицо; взглядом встревоженным? Отнюдь. Не тревога, не волнение, а страх дикий, какого не стал бы испытывать пред собственной смертью. А она будто бы и маячит где-то поблизости, обещая сипло подсмеиваться пока не закончится страшное сновидение. Широко распахнутые, потемневшие глаза отражают страх и твёрдую решимость, — ежели хотя бы кто-то остановится, запнётся, откажет в помощи, он эту решимость непременно выпустит на волю. Несколько долгих минут Кирилл не различает слова и голоса, наполнившие комнату, только гомон на фоне которого звучит её почти безжизненный голос. Жизни в нём осталось впрямь м а л о. В уголках глаз чувствует собравшуюся влагу и сжимая плотно губы, кивает головой. Её лицо расплывается за полупрозрачной пеленой. Слова вымолвить не может — горло сдавливает так, будто чьи-то крепкие руки душат.
Кирилл начинает видеть и слышать, когда рядом оказывается незнакомый, даже чужой человек. Перед глазами блеснёт отрезвляюще остриё ножа, чуть ли не заставляя схватиться за эфес собственной шпаги. Впивается, не иначе, взглядом диким в лицо человека, имя которого наверняка не запомнить с одного раза. Едва разбирает смысл корявых слов своим воспалённым сознанием. Бросает взгляд за плечо, где должно быть, не менее пристально за ним самим наблюдают. Осознание того, что нельзя просить помощи, а после отвергать заставляет всецело повиноваться. Слабо кивает, словно бы требовалось его дозволение. А внутри душа дребезжит точно на сильном морозе, и здесь сливается воедино жар с холодом. Наблюдает за происходящим с каким-то исступлением, и голову поворачивает только когда чувствует чужой взгляд. Он в медицине разбирается посредственно, пусть и доводилось — война учит многому; уж тем паче, не способен вникнуть в подробности в своём-то лихорадочном состоянии. На войне не возятся. На войне сугубо мужчины и так оно верно задумано. Единственное, что он понимает: Лизе придётся причинить боль, ещё большую боль. Сперва вспыхивает отрицание, сопротивление, даже отдаётся в очередном мотании головой, а далее судорожно начинают роиться мысли в голове. Нужно. Он вовсе оставляет без своей реакции Варвару Григорьевну, отводя взгляд в сторону. Пусть молчание принимают за согласие, ежели оно действительно требуется. Лишь отчасти прислушивается к разговору или ещё одному спору, вылавливая отдельные слова. Яд. Смерть. Рисковать нельзя. Цесаревна — мой друг. Тогда что же ему заявить? Цесаревна — моя жизнь? Отнимете жизнь у неё, следом уйдёт другая? Многое можно было бы заявить, да только бесполезны заявления. Их становится всё больше, только вес они теряют. Глупо. Всего лишь с л о в а. Ему бы показать самому себе, чего добился — да только добился ли? Добился того, что она лежит, истекая кровью. Хорош рыцарь в доспехах. И хочется орать, орать на весь мир с мольбами “прекратить”. Хочется остановить сей поток непонятных, чужеродных слов. Он крепко зажмуривает глаза, мужественно перенося миг, в котором всё невмоготу. Глупый, ведь дальше только х у ж е. Голова сильно болит.
Поднимает теперь заметно воспалённый взгляд, смотрит будто бы непонимающе на Варвару Григорьевну, однако же, понимает каждое слово. Понимает, что дрожать более нельзя, и быть может, снова пожертвовать доведётся всем ради неё. Не впервые ведь, причиняет боль ради спасения. Перед глазами лицо Саши: “надо, Кирилл, надо, потому что я не прошу, а приказываю”. Не впервые. Ему бы только смочь снова стать отстранённо-холодным, иронизирующим, готовым на всё. Сможет. Ради неё сможет.
— Делайте что нужно, — цедит сквозь стиснутые зубы, сквозь очертания оскала. Соглашаясь и обрушивая весь праведный гнев сквозь голос, в одночасье, — гнев на судьбу и самого себя. Только Господу известно, какое небывалое усилие делает над собой Волконский, чтобы сохранить самообладание, остатки здравости и силы, которая от него требуется как никогда.
Он теряет твёрдость лишь на мгновенье, не уверенный что выдержит, однако спешно заставляет офицера в своей душе построиться и выпрямить спину, и указы исполнять безоговорочно. По его щекам разбегаются прожигающие кожу влажные дорожки, — бегут, бегут, одна за другой, неумолимо. Лицо искажается той же болью, какая охватывает Лизу в роковой момент, — решающий, определяющий дальнейшее. Не время для глупых вопросов: почему она? Почему она, Господи? П о ч е м у? Ежели и хотелось им отпустить друг друга — не в этот раз. И в общем-то, никогда. А слёзы горячие безвольно продолжают катиться по лицу.
— Прости... прости... — шепчет умоляюще, шепчет как страстную молитву, зачем-то не отрывая взгляда от её лица. Снова покажется, что видеть она его больше не захочет. Злой рок его преследует, злой. Себя не ощущает, не чувствует ни тела, ни силы, ни дымящегося от воспаления ума. Дурной сон, а дурные сны имеют свойство заканчиваться. Только что обнаружишь подле себя иль в себе, когда проснёшься? Пустота везде и всюду. Пустота. Ужасы в сознании услужливо память выжигает, ему ли не знать как человеку военному. Но кажется, что этот ужас останется в памяти навсегда. Об этом ему известно также доподлинно, будто не подрывался посреди ночи от пушечных залпов, гремящих всего лишь в голове. А теперь предстоит подрываться под крик, пронизанный болью. Одно только “прости” срывается с пересохших губ, пока не опустятся её веки.
Смотрит на неё, пытаясь убедить себя в том, что она всего лишь сознания лишилась, а не ж и з н и. Медленно отнимает свои руки, делая глубокие, судорожные вдохи. И правда, ведь забыл, как дышать. Ведь не дышал вовсе. Не чувствует опустившейся на плечо руки, продолжая пристально вглядываться в её лицо. Когда почувствует — вздрагивает. Поворачивает голову в сторону, бросая отстранённый взгляд через плечо и будто бы не собираясь двигаться с этого места. Ему бы полюбопытствовать какого чёрта понадобился в самый страшный день / момент жизни, однако сдерживается, подавляя всполох бунтарства. Ведь множество задачек остаются нерешёнными и ему придётся их решать, как бы сильно не хотелось сдаться.
///
Он привычно леденеет изнутри, успев забыв сие неприятное ощущение, — жизнь с ней переменилась, жизнь казалась солнечным, тёплым днём. Он улыбался, смеялся, дурачился мальчишкой, и проникался какой-то любовью ко всему свету; редко был мрачен всерьёз и даже сдружился с офицерами своего полка, что казалось прежде совсем уж невозможным. А теперь леденеет. Ежели исход окажется удачным, то прежним определённо не станет. Человек в рассудке здравом и трезвом назовёт данное преображение “взрослением”. Наблюдает будто бы сквозь безразличие, заводя руки за спину. Лицо непроницаемо-невозмутимо, лишь тень лёгкая любопытства мелькает. Чему же теперь жизнь-матушка собирается научить?
— На его императорское величество планировалась покушение с целью убийства, — невозмутимо начинает Кирилл, шустро чеканя слова, точно забывая о том, что между ними положено выдерживать хотя бы секундные паузы. А дальше он пускается в некоторые подробности, расхаживая неторопливо, несколько нервно, по комнате. Как ни странно, рисуется более чем понятная картина с чёткими очертаниями. Мысли не путаются, не растворяются в тумане, объявшем рассудок. Мысли ясные. Перестрелять бы всех собственноручно и вовсе не за то, что пытались России помочь. Мысли крамольные. Крепость плачет. — Я полагаю, в этом замешан Австрийский двор. Кто-то из наших, так как план их был хорош, и они знали, что делали. В первую очередь, я пытался защитить его императорское величество, а она... — останавливается посреди комнаты, замирает, глядя пустыми глазами в одну точку. Больно признавать / произносить / раскрывать человеку, быть может не чужому, однако, постороннему. — А она защитила меня, — голос ломается, хрипит нещадно. Он измотался настолько, что не осталось сил ненавидеть себя, и уж тем более, всех остальных. Оборачивается лицом к Григорию Сергеевичу, вопреки всему мужественно, снова, выдерживая тяжёлый взгляд и град из вопросов. Не мальчишка, не первый день жизни в России, где последствия различных решений нынче слишком очевидны. Вскидывает чуть подбородок и губы поджимает сильнее, не позволяя ни единой мышце дёрнуться на лице. Упрямо отмалчивается, возвращаясь к хождению, быть может раздражающему, по комнате. Стоят в бездействии, даже если надобно просто послушать добрый совет, не может. Странная штука: сходить с ума от бездействия в полном упадке сил.
— Неужто у меня такое влияние в гвардии, Григорий Сергеевич? Я — не единственный свидетель, — качнёт головой, почти огрызаясь и превращаясь-таки в того мальчишку. Несколько секунд погодя опускает взгляд, бормоча под нос неохотное “извините”. — Вы же знаете, если в этой стране кого-то в крепость очень надобно посадить, так посадят. Никакие ответы не помогут, — подходит совсем близко к князю, смотря прямо в глаза. Ему приходится молча дослушать до конца со стиснутыми губами и праведным негодованием, вдруг отпечатавшемся на лице. Гневаться он, разумеется, не станет на человека, который утверждается в своей поддержке, помощи и статусе друга-советчика. Остаётся рассчитывать на понимание и умудрённость опытом. Молодые, они ведь одинаковые. Вспыльчивые безумцы, путающие с кем ведут беседу — с добрым другом иль агентом канцелярии.
— Я всё сделаю, в этом не сомневайтесь. Позаботьтесь о ней, вам я доверяю, — оставаясь немногословным привычно, едва заметно склоняет голову и разворачивается к двери. На сей раз Кирилл как никогда убеждён в том, что вернётся живым. Вернётся к ней. Иного исхода быть не может. А всё остальное — промежуточная чепуха, с которой непременно сладит. И никакая обострённая совесть не посмеет вспыхнуть, когда искусно, как актёр на подмостках, расскажет выдуманную историю.
Останавливается около двери, чувствуя укол раздражения. Ему бы вырваться поскорее да уладить возникшие дела. Ему бы поскорее вернуться, дабы не повторить ошибок — не быть рядом. Слушает с невозмутимостью и спокойствием и также спокойно наблюдает за тем, как чужой кулак ударяет по столу. Подозрителен Григорий Сергеевич. Больно проникся встречей с несчастным человеком, а быть может, скрывает самое главное. Кирилл не станет допытываться даже в мыслях. Ежели и догадки верны — не его дело. А угадывает князь удивительно точно, задевая свежие раны на душе. Ему бы уверенность князя в том, что она ещё будет ж и в а. Солдат в лагеря приводят с поля боя тоже живыми, а после они отчего-то умирают. Медики говорят, всё дело в большом количестве крови. Однако, Кирилл смиренно совет принимает. Почему же они так решают, глупые женщины? Не догадываются, что им, мужчинам, будет “без них” куда невыносимее, нестерпимее.
— Благодарю, князь, — склоняет голову напоследок, прежде чем закрыть за собой дверь. О будущем он подумает позже. Нынче совершенно иные задачи заполняют сознание.
***
Кирилл чувствует эти натянутые струны души, готовые разорваться в любой момент. Делает глубокий вдох и на мгновенье прикрывает глаза, находя хотя бы какое-то равновесие. Они появились в самый неподходящий момент его жизни. Могли бы выбрать другое время, чтобы испытать его не такое уж дурное и слабое терпение. Волконский умеет терпеть: боль физическую, боль душевную и троих мальчишек, загораживающих путь вперёд. А ему нужно только вперёд. Нужно мчаться к Лизе. Неизвестность подкашивает. А ежели хуже сталось? Вовсе самое страшное, чего определённо не снесёт? Мальчишкам точно не стоило возникать на его пути. Когда один из троих заговаривает, Кирилл впивается взглядом в его лицо, бессовестно забывая имя, фамилию и простую, человеческую жалость. Заговаривает второй и Кирилл начинает глядеть из-под опущенных ресниц, вздёрнув подбородок. Разумеется, они давали клятву. Разумеется, Саша был единственным, кого должно считать своим императором. Одна струна обрывается. Разумеется, чёртов мальчишка (как же его, чёрт побери, зовут?) никогда, ни во что не верит. Замечает руку м а л ь ч и ш к и на эфесе шпаги — не заметить едва ли возможно, когда сам через сей жест пытался сдержаться, выплеснуть силу, которая могла найти другое применение и навредить. Больно часто его рука покоится на холодящем кожу эфесе. Уж тем более офицеру не заметить подобное недопустимо. Зарождается в душе едкое чувство, словно не одними клятвами Императору живёт этот мальчик, а чем-то большим.
— Господа, — Кирилл вдруг слабо улыбается, определённо с оттенком насмешливым, — я не должен вам всего рассказывать. Я ничего вам не должен. Клятвы свои выполняйте без моего участия.
Однако, следующие слова другого мальчишки (он не вспомнит имена сегодня) вынуждают задуматься. Важнее отвести подозрения и создать ради её безопасности видимость, обстановку на сцене, будто всё как о б ы ч н о, а не отыгрываться на несчастных пажах. Впрочем, не такие уж несчастные. Дерзкие больно. Не стоило брать с собой в дом лесной, когда впервые пришлось причинить боль во благо. Теперь они думают Бог знает что. А собственно, что?
— Что? Угрожать смертью станете? — усмехается Кирилл, успевая заметить очередной порыв неравнодушного мальчика. — Как глупо. Следуйте за мной, — последнее бросает по-солдатски холодно, нетерпеливо пробивая себе путь в этой живой стене. Разумеется, дело вовсе не в клятвах, не в угрозах, не в детях, а в Лизе, которую он может ещё защитить. Кирилл вынес один ценный урок из последних, роковых событий: себялюбие проклятое следует отодвинуть куда подальше. Ежели бы отпустил её вместе с императором, не было бы той боли, какая отпечатается в душе навсегда. А теперь, как бы сильно ни хотелось покоя и отсутствия лишних глаз, позволяет им пойти за собой.
“Пожалеешь ведь, пожалеешь. В иной раз подумаешь хорошенько, прежде чем делать добро.”
***
Кирилл заходит последним, а его сердце до сих пор бешено колотится от решительно-громкого зова Варвары Григорьевны. Ожидание длилось ровно невыносимую бесконечность. Он теряется беспомощно в гомоне, тепле комнаты, в запахах травяных, в бурлящих чувствах. Она жива. Она очнулась. Она будет жить! Она в безопасности? Рядом с ним? Так и застывает где-то позади, около двери, чуть опираясь спиной о стену — волны радости, головокружения и бессилия сносят буквально. На мгновение невероятно отчетливо понимает, что было бы, случись другой исход, случись смерть. Только не о смерти теперь думать следует, а о жизни, которая будет продолжаться. Очнувшиеся после долгого сна солдаты живут. Безумие: постоянно равнять её с солдатом. А впрочем, лишь доказывает то, что не должно ей лежать в постели с простреленным плечом. Безумие. Выпускает из виду радующихся детей, их радостное воссоединение, глядя только на одну Лизу. Взгляды пересекаются, от чего внутри случается не иначе как землетрясение, содрогание. Нет, он обязан превозмочь глупые, дурацкие сомнения и не менее сомнительные проявления благородства. Слишком любит, чтобы из благородства бросать или бросаться прочь. Слишком любит, чтобы оставить её в компании дающих клятвы пажей и черта всея Руси. Он не позволит ни себе, ни другим. Все расходятся, а Кирилл делает первый, пусть и нерешительный, однако, шаг вперёд.
Слышит знакомые строчки и едва-едва улыбается, медленно приближаясь к кровати. Сердце дрогнет от воспоминаний о счастливых днях. Жизнь учит ценить каждый счастливый миг. Быть может, следует оценить и этот, ведь после что станется — неведомо. Останавливается возле кровати, глядя на неё и повторяя мысленно незамысловатую истину. Ценить каждый миг. Потому он никуда не уйдёт. “Только бы соображать вам быстрее, Андреич”. Улыбается смелее, сокращает быстро оставшееся расстояние и опускается на колени перед кроватью, беря Лизу за руку.
— Ты всё ещё самая красивая на свете, Лиза, — целует её руку горячо, прежде чем ощутить прикосновение к своей щетинистой щеке. Он улыбается горько, сдерживаясь от слёз, которыми глаза неугомонно наполняются. Мотает отчаянно головой, поджимая губы. Отрицает, быть может, всё. Не злится? Враньё! Злится безумно. Не думал? Разумеется, думал и был в том убеждён. — Подданных много, а ты одна. Не согласен я с твоим батюшкой, — поднимает воспалённый, сияющий застывшими слезами взгляд на её лицо, последнее произнося совсем тихо. Ладонь соскальзывает со щеки, и он не удерживает, замирая, глядя неотрывно на её лицо. Снова гнать прочь дурные мысли приходится. Ему ли легче от того, что стрелял кто-то другой? Стрелял другой, а защитить должен был он. Переубедить Кирилла в чём-либо — сложная задача да неподъёмный груз. Он ведь и виду не подаст, согласится да останется при собственном мнении. Шмыгает неуклюже носом.
— Не уйду... а если уйду, то вернусь, — шепчет он, накрывая ладонью её горячую руку. Лиза засыпает, говорит о разлуке, и он хочет кричать на весь мир о том, что ненавидит её, разлуку. От чего только становится невыносимо вновь? Будто она не засыпает, а лишается чувств и стремится к смертельной пропасти? Грудную клетку сдавливает, воздуха недостаточно, ладонь соскальзывает с её руки и хочется бежать, бежать прочь не останавливаясь.
Простить себя по силам ли?
Кирилл стремительно удаляется из покоев, ощущая необходимость, вовсе не желание, вырваться туда, где в о з д у х. Останавливается резко и от внезапности всем телом вздрагивает, не ожидая того, чего ожидать следовало, когда бросил небрежное “следуйте за мной”. Глаза непонимающе бегают по лицу напротив. Имени так и не вспомнил. Мальчишка, точно! Безымянный мальчишка. Огонь в глазах чужих опаляет, выжигает остатки, будто ещё не в с ё выжжено внутри. Чего хочет этот мальчишка? Ещё несколько секунд искреннего непонимания, прежде чем громом ударяет осознание. Мальчик влюблён. Влюблён в Л и з у. В его ли Лизу, теперь? Неизвестно что убивает его окончательно: открывшаяся истина иль пуд соли на свежую рану. Как мог? А если бы? Где был? Влюблён? Трусливо! Слова, брошенные в ярости, мелькают вспышками-молниями. Кирилл делает свой выпад и вовсе не шпагой, не словесный, а прибегая к самому ничтожному — к кулакам. Однако, выпад сей обрывается в зачатках. Кулак крепко сжимает до белых костяшек, но руку опускает и вовремя, когда раздаётся голос Варвары Григорьевны. Первым уносится прочь, не имея ни желания, ни сил душевных / физических выслушивать кого-либо. Позади будут звенеть голоса. Будут пытаться нагнать, да только он оказывается быстрее. Совершенно непонятно, каким образом очутился в компании детей, да ещё обозначился как виновный в чём-то. А впрочем, виновен. Виновен во всём.
Вырывается во двор и несётся куда глаза глядят, лишь бы унестись дальше от череды справедливых обвинений, напоминаний, осуждающий взглядов. Только повзрослевший, умудрённый годами человек сдюжить способен со столь тяжким грузом. Способен стоять неподвижно, не дрогнув и даже улыбнуться в ответ, когда словесно его уничтожают. А он вовсе не повзрослевший и учиться жизни только начинает. Опускается на землю прижавшись спиной к холодной стене, совершенно не понимая, не разбирая, где находится. Перед глазами снова мутно, снова будто окно, запотевшее или залитое дождевой водой. Зажимает рот рукой и глаза крепко закрывает. Не желая слышать самого себя, пытаясь сдержаться. Так и останутся никем не услышанные надорванные всхлипы. Жадные вдохи недостающего воздуха. Мальчик испугался. Мальчик плакать больше не будет. Больше нельзя.
***
За считанные секунды способна перед глазами пронестись вся жизнь. Впрочем, в жизни наблюдались улучшения. Долгие размышлениями ночами, выуживание здравых выводов, всплывающие строки из отцовских писем (порою безумно хотелось видеть рядом его) в памяти, — Кириллу становилось лучше. Чувство вины корни пустило глубоко, однако Волконский начал учиться с этим сосуществовать. Тяжесть всего мира взвалилась на плечи, но он учится быть для этого достаточно сильным. А теперь бежит, сердце неистово колотится, в голове бьётся одно только “нет, нет, нет!” и быть может, посылаемые Господу мольбы. Отсутствие новостей из покоев Лизы должно быть, окончательно свело с ума. В последние часы он места себе не находил, расхаживая беспокойно повсюду. А теперь бежит, перепуганный до смерти, побледневший до цвета белых простыней. Слишком тоскует. Слишком тяжело переносит очередную, вынужденную разлуку.
Сперва он бежал, а после остановился в дверях и замер. Застывает на губах не вырвавшееся громко “Лиза!”, застывает от полнейшего непонимания. Он вовсе не пил, ни капли, ни вина, ни водки. А чудится, будто безнадёжно пьян. — Лиза... — срывается с уст, разве что т и х о. Лиза, впрочем, сидит в постели, выглядит удивительно хорошо и свежо, и поедает не иначе как сладкое! Лиза не походит на мёртвую, если только не тронулся головой, если только не очутился в раю вместе с ней заодно. А иначе быть не могло, ежели в рай то вместе. В этой тишине слышен стук его сердца да отдалённое щебетание птиц за окном. Через пару мгновений, понимая, что не чудится, что душа в теле всё ещё прочно сидит, подбегает к кровати, падая на колени. Звенит смех в голове, а на лице остатки смертельного испуга. Счастье медленно проступает в светлеющих глазах, прежде чем губы несмело дрогнут в улыбке. Ей богу, сколько ещё предстоит его несчастному сердцу трепыхаться в страхе? “Жива, жива!” — бьётся в голове одна-единственная мысль, пока улыбка становится влюблённо-счастливой, для кого-то со стороны может и глупой. Глупый, влюблённый / любящий дурак. Он поддаётся её рукам, проникается смехом, по которому тоскует не менее, ловит поцелуи, блаженно прикрывая глаза.
— Дело в том... я люблю вас, Елизавета Петровна, — улыбается вновь под стихающий стук сердца, глядя в изумрудные, ожившие глаза. Ему бы бросить волну негодования на непутёвую Марфу, быть может, снова расплакаться от облегчения, произнести тираду, но какое-то всепоглощающее, глупое счастье отнимает дар речи, заливает светом душу и заставляет глупо улыбаться, словно не видел Лизу целую вечность. Нет, он человек скорее дела, говорящих взглядов и прикосновений. Ему бы урвать ещё один поцелуй, за которым тянется, удерживая бережно Лизу за плечи. Ведь она жива! А стало быть, они оба живы. Да только по злосчастному обыкновению скрепят двери, — счастливые мгновения долго не длятся, на то и “мгновения”. Однако, счастье в груди жить будет всегда, и причина тому одна — Лиза.
Кирилл слухом улавливает гомон за окнами, приподнимается, а следует и вовсе подскочить на ноги. Выражения лиц неумолимо меняются, делаясь настороженными, серьёзными и внимательными, — то, чем им доводится орудовать каждый божий день. Потому что каждый день — всё одно что ожидание, когда тебя схватят и более на волю не выпустят. Считанных секунд достаточно, чтобы понять — очередная неприятность / опасность / буря надвигается. Они не ведают, они чувствуют. Перед глазами проносятся последние минуты, когда провожал в карету, когда, никому не сообщив, изменил свой план. Рассвирепеет ли император ещё более иль напротив, — неизвестно. По крайней мере, Кириллу поверили, а быть может, только сделали вид, что поверили. Трудно читать по лицу Бориса Фёдоровича. Император жив — это самое главное. Не сразу доходит осознание что прятаться придётся с н о в а. Кирилл, ещё не успевший придумать как быть, удерживает Лизу от вероятного падения, пристально вглядывается в её лицо — ведь не прошла боль, не настало время, когда ей можно постель покидать. В отдалении, однако достаточно хорошо слышится ненавистный, тошнотворный голос. Хочется одного: выйти на встречу, быть может, крепко сжимая шпагу в руке. И снова, снова ему предстоит вести борьбу с внутренним бунтарём, напоминая о том, что Лизе нужен свободным и живым. Более того, занять её сторону, ежели кому-то вздумается заспорить. Похоже, Варвара Григорьевна перечить не собирается, больно решительный вид у Елизаветы Петровны.
Кивает головой, оставаясь упрямо немногословным и касаясь её рук, обхвативших лицо. Руки, впрочем, выскальзывают и ему ничего не остаётся, как метнуться к стене, но остаться в положении, откуда удобно наблюдать за ней. Его маленькая, хрупкая, но сильная и храбрящаяся девочка. Быть может, более сильная, чем он сам. Стоит в открытых дверях, преграждая путь достаточно успешно, иначе бы его чёртово величество давно оказалось внутри покоев. Она неизменно превосходная актриса, только немалой ценой даётся сие напоминание; Кирилл точно чувствует, как покидают её последние силы и как должно быть, невыносимо ей стоять на ногах, не дрогнув, перед человеком самым омерзительным. Не замечает, как собственные пальцы сжимаются в кулаки, — и сей жест становится привычным, незаметным. Приказ возвращаться во дворец звучит как очередной раскат грома, зловещий и ничего хорошего не сулящий. Разве что он стал чуточку сильнее. Откуда-то берётся непоколебимая уверенность в том, что оставшиеся в прошлом издевательства не повторяться. И всё одно, ему чертовски не хочется отпускать её в дьявольское пристанище, не иначе.
Он мигом срывается с места и подхватывает Лизу, готовый это сделать заблаговременно. Этого ожидать и следовало, слишком она слаба чтобы геройствовать. Укладывает её в кровать, заботливо поправляя одеяло и подушки, и разумеется, задерживаясь склонившись над кроватью. Поразмыслит несколько секунд, внимательно разглядывая её лицо. Стало быть, снова оставлять здесь и снова без своего присмотра. Не страшно, главное, чтоб черта рядом не было. Невольно улыбается, поджигаемый лукавым огоньком в зелёных глазах.
— Может и правда, вместе пойдём, — улыбается чуть шире; актёры, они ведь, люди свободные, кочующие по миру — никто не найдёт. — Я уже жду нашей встречи, — поцелует её руку, прежде чем, собрав всю решительность, удалиться из покоев.
***
— Право слово, они настоящие дурочки, — хохочет Ксения Дмитриевна, прикрываясь ладошкой, затянутой перчаткой в тон её красивому наряду. Платье нежно-лимонного цвета как синоним цветущей юности. Она впрямь юна, хороша собой и заслуживает внимания кавалеров. Разумеется, Волконский — не кавалер вовсе. В его возрасте офицеры уходят от службы по обстоятельствам семейным иль напротив, отвоёвывают чины, продвигаясь в более элитные офицерские круги. Поблизости находятся истинные кавалеры — ещё мальчишки, бегающие за юбками сквозь смех и лукавство в глазах. Они охотно обхаживают юных дам, порою пытаясь выглядеть важнее и старше, однако, выходит посредственно. Наблюдать за ними до крайности забавно да любопытно. На самом деле, Волконский предпочёл бы вовсе сего не видеть, будто приглашён на очень дурной спектакль, однако же по капризу императора, приходится. Создаётся впечатление, словно его персона забыта, но зачем-то нужна, — дело привычки, вероятно. Ксения Дмитриевна не могла не заметить человека, притаившегося в тени дерева со скучающим видом, и посчитала своим долгом вид сей переменить. Вот уже какое-то время она старается не даром, забываясь в интересной беседе.
— Мои подруги. Чем же они могут увлекаться, ежели не свиданиями с молодыми офицерами? Ах, соврала! Некоторые любят особ и постарше, — она приподнимается на носочках, дабы последнее прошептать где-то около уха. Капитан Волконский неудобно высок, надо отметить. Никакой атмосферы таинственности не создать. — Некоторые фрейлины, к слову, находятся в близких отношениях с иностранными посланниками. Попробуйте сказать, что они не дурочки. Нет более лёгкого способа получить информацию о нашем флоте, например, — лицо казавшееся цветущим, радостным и совсем юным, делается серьёзным, как и смешки в голосе затухают. В один миг все эти пенящиеся рюши, оборки да игривые, тёмно-русые локоны кажутся совершенно неуместными, не подходящими её строго-суровому виду, добавляющему годов. Кирилл удобно опирается плечом о ствол дерева, наблюдая чуть прищурившись, за звенящей суматохой. А самого главного не замечает.
— Вам ли беспокоиться об этом, сударыня? — добродушно-снисходительно любопытствует Кирилл, на что получает ещё более суровый взгляд в свою сторону.
— Не равняйте меня с другими, капитан. Знаете, как невыносимо быть женщиной? Да окажись я простым рядовым, давно начала бы поднимать бунт. Не волнуйтесь, здесь кроме моих подруг-дурочек никого нет, — голос более не звенит, а звучит ровно, твёрдо, ничего кроме истинного удивления не вызывая.
— Как же ваши братья... как же я? Вы меня не знаете. А я, между прочим, состою при императоре.
— Я могу отличить васильевца от любого другого. Друг мой, опасности в вас я не вижу. Будь вы опасным человеком, не стояли бы здесь под деревом, — её взгляд ускользает в сторону дурачащихся гвардейцев, которым компания императора и фрейлин доставляет одно удовольствие. — Братья, — на лице мелькнёт усмешка горькая, — не то, чтобы очень родные, — и она будто чувствовала душой, что однажды они её п о г у б я т. — Давайте забудем об этом. А то и впрямь, вдруг вы очень болтливы, когда пьяны, — вновь зазвенит смех, удивительно заразительный. Кирилл улыбается, не подозревая что улыбка эта была замечена. — Ах, простите, я воспользуюсь вашим плечом, — совершенно беззастенчиво заявляет она, опираясь одной рукой о плечо, а другой вытряхивая из туфли камушек. Сердце сжимается больно от тоски. Непокорные девушки с бунтарским духом неизменно будут напоминать одну-единственную, по которой ежечасно, ежедневно и еженощно тоскует. И определённо нет похожих на неё, потому что она — одна особенная, неподражаемая, забравшая его сердце на множество вечностей. Встречаясь с тёмными глазами, улыбается мельком, а после оборачивается и замечает удаляющуюся, знакомую фигуру. Только в голову даже не придёт, что она могла видеть, а уж тем более, могла “ревновать”.
Ксения Дмитриевна — интересный собеседник. А ещё его роковая судьба.
***
Не даром Гриша с видом знатока, твердил им, дуракам (Кирилл и Володя в такие моменты и впрямь бараны), что женская душа — огромный, неизведанный мир, постичь который не под силу ни одному мужчине. “Не обманывайся, когда подумаешь, что понял женщину, потому что ты никогда не сможешь её понять”, — таинственно произносил друг, словно заклинание. Потребовалось время, чтобы Кирилл постиг суть дружеских советов. Впрочем, потребовалось время на то, чтобы Кирилл всерьёз влюбился. Он, может быть не настолько баран, чтобы не уловить изменение в настроении, однако же, не находит тому причин. Его Лиза вовсе не холодная, неприступная барышня, а сегодня определённо таковою сделалась. Иногда ловит её короткие взгляды, стараясь сосредоточиться на уроке, что получается исключительно скверно. Можно ли сосредотачиваться на уроках, когда Лиза рядом? Сие — труд немалый, да выбора не остаётся. Вскоре уставляется недоумённо на неё, выгибая вопросительно бровь. Какое отношение имеют улыбки к урокам французского? Мужчины и впрямь, бараны. Веет напускным холодом, но кажется, словно в душе буря или пожар, — определённо стихия. И только когда опережает (иначе сам бы полюбопытствовал), проясняется день после туманного утра. Он несколько расслабляется, догадываясь что ничего страшного не стряслось. Бывало страшнее. Откидывается на спинку стула, однако виду не подаёт, улыбку лукавую сдерживает. Только выслушивая до конца поток слов обиженной женщины, дожидаясь, когда опустит взгляд в книгу, поднимается со своего ученического места. В глазах вспыхивает хитрая улыбка, впрочем.
— Да так, ничего, — беспечно пожимает плечами, а после отрывает от пола, поднимая на руках вверх, упрямо, решительно и не скрывая игривости во взгляде. И никакие сопротивления не остановят, не заставят отступить назад, потому что любовь и желание её доказать неизменно сильнее. Постепенно он учится разбираться в человеческих чувствах — своих и чужих. Уроки даром не проходят. Будто сам не выглядел ребёнком, когда ревновал к каждому представителю пола мужского. Будто не хотелось вызвать на дуэль отчаянно-смелого гвардейца. Ревность — доказательство пылкости и серьёзности чувств, не так ли?
— Нет, ни за что, — чеканит по слогам, глядя на Лизу снизу вверх и улыбаясь весьма довольно. — И что же пишут поклонники? О хорошей погоде? — невозмутимо говорит, весь не менее невозмутимый, удовлетворённый жизнью и своим положением, когда можно держать и не отпускать. И сквозь улыбку, сквозь юношеское озорство, сквозь обиженные возмущения, тянется к её губам, накрывая смелым, решительным поцелуем. Не существует способа остановить спор более действенного и лучшего, чем поцелуй. Впрочем, вступить в сей пор он не успел и вовсе не намеревался. Такого рода посягательство на свободу его даже устраивает. Оно ведь, взаимно.
— Нет, — шепчет в губы, упрямствует, забирая ещё один поцелуй. — И не подумаю, нет, — поцелуй за поцелуем и её улыбку ловит взглядом. — В этом нет никакой необходимости, — опускает на пол наконец-то, однако руки остаются покоится на талии. — Лиза, я других женщин не рассматриваю. Никакого желания и надобности нет. Для чего, если у меня есть ты? — перехватывает её руки нежно, за запястья и ладони целует, прежде чем снова обхватить за талию. — Пользуетесь своими полномочиями, Ваше высочество? — вырывается лёгких смешок. Покачает головой, наблюдая любовно за ней. Одна из причин не любить уроки французского: больно хочется Лизу выкрасть и спрятаться вместе с нею где-то вдали от глаз, слишком уж пьянит и волнует её французский.
***
Летняя охота разворачивается в излишестве, богатстве и великих масштабах, как полагается при дворе Василия Борисовича. Легко затеряться среди гомона, мундиров различных полков, придворных и дам, среди лая собак и звона бокалов, разбитых невзначай бутылок, за которые лакеи получают подзатыльники. Василий Борисович как положено, увлекается одной-единственной забавой: напиться винища и потребовать подстреленного чужими руками зверя. Охота неизменно хороша. Ему совершенно наплевать, кто находится рядом и кажется, о самом Волконском позабыл бесповоротно. Ведь самое главное что? Голицыны под боком, французы развлекают своей картавостью и подарками, гвардейцы из Васильевского полка надёжно защищают, иль только вид делают, что защищают. Прелестная кузина где-то рядом, непременно рядом, он отчего-то не сомневается. Исчезновение обоих остаётся незамеченным столь успешно. Кирилл мчится верхом на Плутоне через лес, напрочь забывая о последних трагичных событиях. В голове бьётся лишь одна мысль о том, что соскучился безумно. Сердце трепыхается в предвкушении встречи. По лесу, по заросшим тропинкам, лишь бы сократить путь; раскидистые ветки деревьев до и дело хлещут по лицу, оставляя едва заметные царапины, — плевать, ему бы поскорее добраться, поскорее увидеть Лизу. Около охотничьего домика встречает сторож Игнатий, добрый, несчастный человек, — сколько тайн на его судьбу выпадает.
— Ежели что-то подозрительное заметишь, сразу сообщай, — на ходу строго бросает Кирилл, передавая поводья в надёжные руки. Позади послышатся возмущённое кряхтенье и тяжёлые вздохи, на что, разумеется, никакого внимания не обратит, шустро поднимаясь по ступенькам на крыльцо.
Врывается не иначе как ветром с запахом еловых веток и свежей травы, какую Плутон истоптал, мчась по заросшим, лесным тропам. Снимает шустро треуголку с головы, по привычке отбрасывая куда-то в сторону. Удивительно только, каким чудом не сорвалась несчастная ещё на пути, когда мчался неистово, быстрее света. Оглядывает комнатушку и быстро находит взглядом её. После того, как находит, душу можно отпустить на волю. Ухватывает Лизу, заключая в самые крепкие объятья и растворяясь в поцелуе, на мгновенье, не веря счастью встречи, кажется, снова.
— Как же я мог... — дыхание всё ещё сбитое, окончательно после поцелуя, забравшего весь воздух, — когда ты здесь... — пропадает в сияющих глазах, не может наглядеться вовсе. — Лиза... — срывается горячий шёпот с губ. Он улыбается особенной улыбкой, последствия которой столь легко отгадать. Отрывает её от скрипящего пола, привычно поднимая на руках, — это действие будет неизменно доставлять удовольствие. — Не будем, — решительно качает головой, — позже, — и улыбка делается лишь шире. Нельзя быть счастливым настолько, судьба слишком несчастна и завистлива. А он иначе не может, не может скрыть своего счастья и любви.
Он легко перемещается по этим скрипящим половицам в самый надёжный угол, даже отделённый полупрозрачной, посеревшей шторой. Отпускает Лизу и сразу же оставляет горячий поцелуй на шее, готовый забыться на какие-то несчастные часы. Поцелуи могли бы продолжаться, если бы не прозвучавший голос, не замеченный строгий взгляд и вовсе она уворачивается ловко от его искренних проявлений любви. Нависает над ней, упираясь ладонями в матрас, заправленный свежей простыней. Ей богу, будто сторож и его хозяйка только и ждут, когда здесь объявятся очередные в л ю б л ё н н ы е. Всматривается внимательно, хмурит брови гармонично с серьёзным выражением лица.
— Прямо сейчас? — переспрашивает дабы убедиться. Ежели и отказываться от времени вместе, то причины надобно осознавать ясно. А вдруг послышалось? — Ну... если нужно, — и он вовсе не шутит, готовый пожертвовать всем, только не честью возлюбленной. Обещала — стало быть, обещания выполнять надо. Да и разве смеет он не выполнять её желания? Самоотверженная решительность отражается на лице и должно быть, заставляет Лизу отступить. Постепенно он понимает, что возлюбленная изволила шутить и оттого распаляется ещё больше. И как только можно было повестись? Смотрит на неё из-под опущенных ресниц, улыбаясь одними уголками губ. Она другого хочет, а он не смеет её желаний не исполнять. В этом головокружительном поцелуе в с е их желания.
///
Кирилл не сразу замечает с какой пристальностью она смотрит, потому что сам рассматривает её лицо ласково, любовно. В приятной истоме, уединённости и безмятежности вовсе не до серьёзных мыслей. Однако, забываться нельзя. Давно пора запомнить, что слишком хорошо без слишком дурных последствий не бывает. Едва приподнимает вопросительно брови, наконец-то замечая этот необычный, красивый взгляд.
— Что ты удумала? А смотришь, как в первый раз, — отшучивается он, будто на её серьёзность, мягко улыбаясь. — Знаю, — произносит совсем тихо, отводя свой взгляд в сторону. Ему хочется не меньше. Ему кажется, после таких лучших часов жизни, что готов на подвиги любые. Уставляется в потолок, под которым не мешало бы погонять пауков, задумчиво. Говорить он более не в силах, — слова так и остаются звуком, совершенно пустым, ничем не подкреплённым. Отмалчивается, то ли трусливо, то ли обессиленно и потеряв всякую надежду. Быть может, прикосновения спасают в моменты бессилия. Они говорят больше и красноречивее. Поглаживает нежную кожу щеки большим пальцем, вновь улыбаясь уголками губ, мягко. Оказывается, хотят они много. Мысленно он почему-то соглашается, наверное, отчаявшись. И шрам напоминающий, вовсе не облегчает тяжести на душе. Только за поцелуем тянется, тянется как в первый раз, не желая от любимых губ отрываться. В моменты поцелуев он забывается, а всё, что тревожит — теряет значение. В поцелуях хорошо. Настолько хорошо, что поднимается волна какой-то решительности, мужества и новых сил. Ладонями накрывает плечи, нежно поглаживая с л е д, за который как мужчине, следует извиняться поступками. Следует всё исправить, непременно.
— Опасная эта любовь, — качает головой, глядя в глаза из-под полуопущенных век, — как знать, что в голову взбредёт? Чем больше ты меня любишь, тем больше геройствовать хочется, — произносит, впрочем, серьёзно, когда хотел выглядеть неряшливо-дурашливым. Так и будет рассматривать загадочные узоры путины, пока не раздастся её голос снова. От любопытства теперь он отрывается от подушки и приподнимаясь, подпирает рукой голову. Быть может, на днях он снова улыбался кому-то? Какой-нибудь девице по имени Маша? Быть может, у неё появилась новая подруга? Брови приподнимаются в вопросительном выражении. А потом он вновь осознаёт, что не способен любить кого-то больше, чем Лизу. То ли от поражения, то ли от счастья валится обратно на подушку, ничего не говоря, но улыбаясь во всю ширь лица.
Вдыхает глубоко, прежде чем что-то изречь, но слова так и останутся застывшими на губах. Верно, ведь самые счастливые мгновенья, когда сердце замирает от трепета и любви, жестоко обрываются. Успевает подметить лишь то, что в появлении их “дочери” Лиза даже не сомневается. А после раздаётся скрип двери и деревянных, подгнивших досок.
— Беда, барин! Скачут! Скачут, ироды! — раздаётся перепуганный, сиплый голос сторожа. От вида картины больно интимной, пусть и скрытой за шторой полупрозрачной, он снова бросается причитать, кряхтеть да проклинать всех, кто на ум приходит.
Кирилл подрывается, только на этот раз не от страха, не от скорби и безысходности, скорее от выжигающей злости. Нет, подвергать опасности Лизу не станет, а стало быть, ещё один побег должен быть на их счету — только она говорила, как устала прятаться. Он начинает опасно-тяжело дышать от гнева праведного. Шустро собирает одежду, до которой никакого дела не было. А теперь как в первые дни в гвардии: одеться за пять минут. Выглядывает в окно: и впрямь, скачут, разве что хилой фигурки императора не видно. Быть может, не за ними? Следовало выбирать место свидания наиболее отдалённое. Как только додумались искать здесь? Они успевают разве что одеться, прежде чем послышатся пьяные, мерзкие выкрики его (императора) д р у ж к о в. Вероятно, по дурацкой привычке Лиза оказывается впереди, готовая взять удар (как и пулю, что было проверено) на себя; оказывается быстрее Кирилла в светлой горнице, где нельзя не заметить накрытый стол. Сторож до последнего пытается стать преградой на пути, да постоянно и невежественно его пинают.
Дружков его величества насчитывается трое. Неряшливый вид выдаёт то, чем занимались они до того, как взобраться в сёдла и поскакать на поиски исчезнувшей цесаревны. Должно быть, поисковой отряд разделился, иначе бы насчитывалось их побольше. Горница наполняется вонью перегара. На помятых лицах появляются мерзостные улыбки — не иначе как довольны своей работой, ведь цесаревна самолично выходит к ним навстречу.
— Ах вот как! Прячетесь здесь, значит, — один из них едва стоит на ногах, пошатываясь передвигается ближе к столу, на котором столь узнаваемая бутылка французского вина красуется. — А стол для кого накрыт? Для Игнатия? — шутка ему покажется удачной, до того удачной, что зарегочет на весь дом, похрюкивая. — Любовничек значит... прячется где-то, — утирает нос рукавом, успокаиваясь и осматривая горницу с особым вниманием.
Кирилл подходит к чуть приоткрытой двери, искренне недоумевая по какому праву остаётся в этой крестьянской опочивальне, кишащей пауками и пахнущей пылью вперемешку с сухими травами. Как мужчина, права такого не имеет. Да как кто угодно! Пока она принимает очередной удар, он стоит здесь и выслушивает пьяные вопли, бездействуя — невыносимо, быть так не должно. Нахмурив брови, он берётся действовать решительно: спешно скидывает кафтан, расстёгивает пуговицы камзола (чёртовы пуговицы которых слишком много), и прячет эту опознавательную форму в каком-то пыльном сундуке, оставаясь в рубашке белой. Хватает шпагу, как никогда крепко сжав её эфес.
— Да как вы смеете императора нашего огорчать?! — вдруг накатывает волна злости на пьяного гвардейца Васильевского полка; бездумно замахивается, да рука застывает в воздухе. Бездумно, ведь император его обожаемый не одобрит, ежели рассмотрит на лице любимой кузины лиловую отметину. Винище разум туманит губительно. Только прежде, чем предстать пред императором, следует выбраться живым из-под уничтожающего чужого взгляда. Кирилл наслаждается лицом, искажаемым болью, сильнее и крепче, до еле слышного хруста, сжимая запястье замахнувшейся руки.
— А кто ему расскажет? — выплёвывает гневно, заставляя руку опустить. Не отпускает, разворачивает насильно от себя и пинает ногой под зад; тот валится с ног, удачно ударяясь головой — на одного меньше и так быстро! Разумеется, оставшиеся двое хватаются за шпаги, да только Кирилл вышел к ним заведомо готовый к бою. Прятаться более не намерен. — Господа, прошу вас! — произносит торжественно, театрально разводя руки, будто снова очутился на подмостках. Чёрный платок на половину лица надёжно скрывает издевательскую улыбку, но невозможно этого нахальства не заметить в глазах. Он нисколько не сомневается в том, что разделается с императорскими “посыльными” шустро, и нисколько не испытывает страха. Напротив, словно судьба одаривает возможностью отыграться за всевозможные, пережитые страдания. Звон клинков лишь добавляет бодрости духа, сердце откликается восторгом, и он вступает в схватку навеселе, впервые чувствуя, что слова — не пустое, не только для красоты. Окажись здесь целый полк — справится.
Шпагу первого выбивает, орудуя теперь целой двойкой, — взгляд делается только решительнее, злее и быть может, безумнее. Второго зажимает меж деревянной стеной и скрипящей дверью, имея достаточно силы, чтобы не позволить вырваться. Пьяные они и безнадёжно глупые. Едва ли в полку васильевском учат воевать.
— Ну что? Ты уж прости, но я очень огорчён. Так что делать будем? — продолжает балансировать меж актёрской игрой и искренним негодованием, которое выплёскивается в наглом, уверенном взгляде. Гвардеец сдавленным голосом пытается угрожать, мол так просто этого не оставит и непременно его поймает. — В другой раз, уважаемый! — хватает за шиворот и выталкивает за дверь. — А ты чего? Помоги товарищу! — обращается ко второму, безоружному, кивая на поваленного гвардейца с ушибленной головой. — Пошли отсюда, вон! — выпроваживает оставшихся, захлопывая за ними дверь. Они, конечно, убегают трусливо, однако с намерением привести весь полк дабы сладить с негодяем-любовником цесаревны. Постепенно стихает топот копыт.
— Вот и всё, теперь у нас есть время выбраться отсюда, — спускает платок чёрный на шею, подходя ближе к Лизе и вовсе захватывая в объятья. Лицо сияет радостью и удовлетворением, как и положено, когда мужчине удаётся свою возлюбленную защитить. Конечно, теперь им предстоит разбираться с тем, что не ускользнёт новость от императора: у цесаревны впрямь любовник водится. А догадаться не составит труда, ежели Василий Борисович не растерял остатки ума. Верно, прятаться вечно не выйдет. Кирилл об этом не думает, разглядывая влюблённо лицо Лизы вблизи. — Теперь мне терять нечего, могу украсть тебя и спрятать, — улыбается, склоняется и оставляет быстрый поцелуй на шее. — А потом пойдём в актёры, как и хотели. Нас никто не найдёт. Что? Помечтать можно ведь, — будто и сам находит это детской, нелепой забавой, однако, до чего хочется, чтобы она стала правдой. Хоть музыканты, циркачи, хоть с цыганским табором, зато свободные и любящие. Свободные от постоянной нависающей угрозы, от ожидания тех, кто вломится не иначе как в спальню, где вы обсуждаете имена своих детей.
— Лиза, — произносит вдруг твёрдо, почти сурово, серьёзно глядя в её глаза, — я собираюсь биться. Я буду воевать. Если понадобится, с самой судьбой или Господом Богом, а это посерьёзнее какого-то там императора. Клянусь тебе, он тебя не получит. Не отдам, — прошепчет (впрочем, не впервые), прежде чем увлечь в поцелуй, обхватывая за плечи крепко. — Доверься мне. И за меня не тревожься, я разберусь.
Разве что дерзкие разборки Волконского приводят неизменно к беде.
***
Скрип сапог будет преследовать его в кошмарных сновидениях. Маленькая, сгорбленная фигурка мечется из стороны в сторону. А сапоги нещадно скрипят. Все четверо вытянулись струнами, ожидая каково будет следующее слово императорское. Волконский улыбается одними уголками губ, плечи опущены, подбородок чуть вздёрнут, на лице отражается отцовская невозмутимость, напоминающая штиль, — всё демонстрирует его внутреннее спокойствие. Сперва он уразумел, что ничего страшнее чем потерять Лизу, быть не может. После осознал, что привык к императорским замашкам и характеру, — оказалось не так уж сложно выучить этого неудачливого человека. Несмотря на уверенность в своей правоте, и ведь, они всерьёз правы, оставшиеся трое обеспокоены — напряжением так и веет. Василий Борисович останавливается, пристально осматривает лица, для чего приходится взгляд снизу поднять вверх. Все четверо, черти, высокие. Однако, он самый высокий и быть может, то сама судьба указывает на злодея, негодяя, виноватого во всех бедах.
— Слышишь, Волконский, они говорят, что ты там был, — от негодования и беспомощности император аж подпрыгивает на месте, пытаясь увидеть эти глаза. Кирилл нарочно смотрит впереди себя, глаз не опуская, только поднимая иногда. — Был или не был?! — разносится громкий, раздражённый голос, грозящийся сорваться.
— Не был, — твёрдо ответствует Волконский. Несколько мгновений погодя опускает наконец взгляд, давая императору желаемое. Только это желаемое быстро делается не желаемым. Видеть столь уверенный, наглый взгляд невыносимо. “А вы учитесь врать, Кирилл Андреевич.” — Ваше величество, — произносит с каким-то сомнительным уважением, однако само обращение Василию Борисовичу нравится. Как бы сильно ни обнаглел капитан, признавать е го власть приходится. — Вы сами-то помните тот день? — и этим вопросом уничтожает любое довольство собой и своим положением, заставляя поникнуть, помрачнеть. Разумеется, император не признает, что не помнит ни черта. Молча отворачивается и подходит к своим верным гвардейцам.
— Так они тоже ничего не помнят. Утверждают, что были в домике. А ежели и были, как знать, видели ли цесаревну? Иль привиделось? Я самолично Её Высочество сопровождал к экипажу, когда ей дурно от духоты стало, — крайне правдоподобно врёт Волконский, бросая тень на императорских дружков. — Она отправилась во дворец, я остался. Вы не помните? — в голосе слышится жалость, ещё больше гневящая императора. “Ах, Кирилл Андреевич, играете с огнём”. — Когда половина полка завалилась к старику Игнатию, пуст ведь дом был. Ваше величество, отдохнуть бы вам.
— Ладно! — раздражённо вырывается наконец. — Все свободны, а вы задержитесь, капитан — стреляет негодующим взглядом в сторону Волконского. Страшно? Отнюдь. Ему только любопытно, что на сей раз выдумал Василий Борисович. Одна выходка забавнее другой. “А ты безумец, Волконский”. Васильевцы неохотно покидают залу, в которой император упражнялся в искусстве, рисуя натюрморт, прежде чем все четверо предстали перед глазами. Свет определённо ушёл. Натюрморт останется незавершённым или напротив, расцветёт пёстрыми красками. Как знать?
— Думаете, я ничего не вижу?! Не вижу ваших взглядов? Даже если вас не было в доме! Она вам нравится! — расходится Василий Борисович в истеричном крике, размахивая руками, будто так быстрее выбьет из капитана признание. Не ошибается: терпеть истерику невозможно.
— Нравится. И что с того? В крепость? Повесите? Так я не единственный, кому она нравится. Вы полюбопытствуйте у своих подопечных, произведите обыск, непременно найдёте то неотправленное письмо, то кулон с портретом, — его голос невозмутим, будто объясняет нечто ребёнку, — неторопливо, обстоятельно. — Боюсь, в крепости места не хватит на всех.
Похоже, только такой язык понимает Василий Борисович. Находит себя предсказуемым, ежели все знают, что за любую оплошность можно в крепости очутиться. А не этого ли хотел? Чтоб все боялись! Верно, своего добился.
— А что мне помешает?
— Вы не всесильны, — коротко, однако метко подмечает Волконский. Создаётся впечатление, будто не без основания разбрасывается столь громкими фразами. Хоть сейчас в крепость! Да только что он знает, чего не ведает сам император? Василий Борисович сощуривает глаза.
— Да как вы смеете говорить со мной таким тоном! — вспыхивает после недолгих раздумий, не найдясь что ответить.
— Я люблю Елизавету Петровну. Ответить или отвергнуть, — это её право. Вы можете отнять у меня всё, но любовь — никогда, Ваше величество.
Тогда Василий Борисович взмахивает рукой и бросает несколько растерянно:
— Вы свободны.
Долго будет прожигать взглядом холст, поверх которого наброшены слабые, серые очертания, перепутанные точно нити из клубка. Только художнику известно, какие фигуры задуманы. Свет возвращается по мере того, как расцветает новая, совершенно удивительная и д е я. Рука вновь порхает над холстом, нанося более уверенные, жирные очертания углём. А после разливаются цветастые краски. Много поклонников и все влюблены? А что отличает его, Императора всея Руси, от кучки поклонников? Власть. Никто не осмелится на то, что сделает он. Тогда появится законное основание запретить в с е м сочинять ей письма, отправлять цветы и влюблённые взгляды.
Казнить нельзя помиловать.
Поделиться152024-05-20 21:19:58
Сердце тревожно трепыхалось в груди ещё до того, как были переданы поводья королевскому лакею. Чем же предстоящий вечер грозится разниться от прежних? Не впервые ему присутствовать на царском празднестве во дворце, — то в роли никому не нужного охранника (приходилось порой дегустировать вино на различные яды и откровенно говоря, жизнью рисковать), то в роли караульного (у дверей стоять — та ещё ненавистная служба); а сегодня собственную роль он вовсе потерял из виду. Гвардейцы при дворе — картина привычная, разве что форма выдаёт сплошных васильевцев. Он благодарит Бога за то, что не получил приказа о переводе; а с иной стороны выглядит жалко, ведь император не жалует иные полки. На него смотрят насмешливо, презрительно, догадываясь что вовсе не расположение царское позволяет появляться при дворе. Стоит пройтись по зале и шлейфом шёпот из сплетен, переговоров да слухов. “Что вы! Василий Борисович Волконского на дух не переносит. Что вы! Волконский своё получил, недолго удача ему благоволила, а? Ни в коем случае! Разжаловать нельзя, говорят, за ним важные лица государства стоят”, — и прочее, что невольно улавливает обострённым слухом. По правде говоря, слышать подобное вовсе не хочется. Кирилл упрямо делает вид, будто никого не замечает / не слышит, будто ничего не переменилось в нём с того времени, когда Россия лишилась своего истинного Императора. Дворец со своим прогнившим наполнением ему ненавистен, однако лицо сохраняет непроницаемое выражение. Тем не менее, отчаянно не понимает, по какой причине находится здесь в сей торжественный вечер. Приём царский, казалось бы, ничем не отличается от обыкновенных. Играют музыканты, официанты разносят бокалы с вином и шампанским, на столах огромное разнообразие пирожных и тортов, — он ведь знает, что кузина сладости любит и вопреки образу дьявола, следит чтобы её предпочтения удовлетворялись в полной мере. До чего же тошно от лицемерия и фальши, коей пропитан весь слой высшего света, собравшегося здесь. Позолота слепит ярким сиянием, а множество зеркал, удваивающих и утраивающих окружающий сверкающий мир, вызывает головокружение. Продолжая прохаживаться в поисках не иначе как ответов, замечает князя Вяземского. Несколько секунд будет смотреть на него, невольно вспоминая последние обстоятельства, при которых довелось им встретиться. Кирилл так и не поблагодарил должным образом, а следовало бы. Склоняет едва заметно голову, дабы не привлекать лишнего внимания. Чёрт знает, какая важная особа стоит за ним, по мнению общества. Лишь бы не думали на Григория Сергеевича. Иначе не отвязаться от чувства, будто подставляет князя. Сплетни зачастую пустые как матрёшки, впрочем. Перемешиваются иностранные языки, в которых различает французский, немецкий и английский, — иностранных послов собралось немало. В стороне замечает пажей. Стало быть, она где-то рядом или вскоре предстанет во всей красе. Быть может, в очередном платье, которое было послано Василием Борисовичем. Задерживает ненадолго, незаметно взгляд на мальчишке по имени С е м ё н. Теперь вспомнил. Водоворот событий не позволил подумать об этом человеке детальнее. Стоит ли думать? Никаких причин для этого не находит. В самом деле, труднее найти того, кто в цесаревну “не” влюблён. Волконский не замечает угрозы в мальчике, а быть может, и стоило присмотреться. Глубоко безразлично на силу чужой любви, потому что не сомневается, — его собственная любовь сильнее. Взгляд скользит по лицам. Незаметно половина двора стала ему знакомой. Разве что имена бессовестно забывает. Здесь же и Варвара Григорьевна, и Надежда Борисовна, — лёгкий укол, напоминание о времени, когда всё было совершенно иначе. Однако, они обе больше не те юные, цветущие девицы, с которыми он знакомился. На лицах отпечатались пережитые (переживаемые до сих пор) времена. Быть может, все они стали старше, взрослее, благоразумнее. Разве что Ксения Дмитриевна не вписывается в общество покинувших беззаботную юность молодых людей, или очень мастерски притворяется. Кирилл останавливает взгляд на её лице. Не разобрать: рада она своему присутствию во дворце или только и думает о том, как сбежать через балкон. Сегодня наряд её в сугубо тёмных тонах, походя на траурный в тон его дурным предчувствиям. Взмахнув веером и закрыв лицо, точно играючи, она подходит к нему, хлопая чёрными ресницами.
— И что же вы стоите как памятник? Вы должны были броситься к моим ногам, как все остальные. Берите пример с Трубецкого, — начинает она всерьёз, а после подсмеиваясь, складывает веер. Стоящий неподалёку Трубецкой, такой же гвардеец, разве что моложе и чином ниже, заметно краснеет. — Не обращайте внимания, сегодня душа моя желает злорадствовать. Не видели ли вы моих несчастных братьев? — она осматривается, выискивает вероятно, братьев, а сталкивается с пристальным взглядом какого-то светловолосого, молодого человека. — Почему он так смотрит? Точно не мой поклонник, — поморщится, не боясь того, что молодой человек сие может заметить. Кирилл проследит за её взглядом и снова наткнётся на лицо Семёна. Теперь бы вспомнить фамилию. — Бог с ним. Кажется, это паж цесаревны. Они ревнивые, охраняют её от кавалеров. Так вы будете сегодня танцевать? — шустро меняет тему разговора и предмет своего внимания, внимательно глядя на Волконского. В её глазах он загадочный человек. Аура таинственности привлекает. Не одну княжну, надо отметить. Так и хочется разгадать отчего же он бродит по залу в потерянности и выглядит столь одиноким, когда вокруг столько знакомых и возможностей обзавестись полезными связями в обществе.
— Нет, пожалуй, нет... — негромко произносит он, будто в забытье, так и не удостоив Ксению Дмитриевну взглядом. Теперь она пытается определить, куда смотрит капитан. А смотрит на прекрасную девушку, при появлении которой гомон в зале ощутимо стихает. Перед ней расступаются, за ней шепчутся восхищённо, завистливо, гневно, горячо, — по-разному. Княжна Голицына склоняет голову к плечу, прикладывает задумчиво кончик веера к подбородку, чувствуя близость к одной из разгадок. Да только кому не нравится Елизавета Романова? От императора до крестьянина, — всем нравится, все смотрят на неё точно на богиню. Так было всегда и так будет всегда. Сменяются монархи, а взгляды в её сторону — никогда.
— И каково же ей, когда все смотрят? Я бы так не смогла, — задумчиво вырывается у неё вовсе не для того, чтобы отвлечь Волконского. Пусть смотрит, разумеется. Он быстро переводит взгляд, теряя Лизу среди толпы, чувствуя опасность в долгом взгляде. Бдительность терять непозволительно, особенно сегодня, при многих очевидцах. — Если вы пригласите её, она вам не откажет. О, кажется вам благоволит удача, — легонько толкает его в бок и улыбается лучезарно, когда замечает передвижение цесаревны в их сторону. Быть может, дело в том, что поблизости стоят её пажи; быть может, она желает потянуть время до того, как окажется в плену императора (тот посреди зала беседует с кем-то, но не мог не заприметить её появление); быть может, рядом с капитаном и княжной стоит ещё какой-то важный человек, которого она должна приветствовать. — Я, пожалуй, удалюсь, — бросает в его сторону, раскрывая веер. — Ваше Высочество, — делает реверанс, прежде чем действительно удалиться и раствориться среди гостей. Ежели спросить Кирилла, какого мнения он о знаках внимания, то ответит, что совершенно никакого мнения не имеет. Знаков внимания он не замечает. А княжна вовсе похожа на какого-то мальчишку, который постоянно дурачится и толкается.
Кирилл склоняет голову, как положено у света на глазах. Впрочем, говорить друг с другом светский устав, возможно, не запрещает. Ловит её взгляд и сей зрительный контакт обещает не прерываться до последнего. Он искал её глаза — вот и вся разгадка.
— Пытаюсь понять, какого черта здесь делаю, — бросает тихо, стараясь придать беседе самый нейтральный, светский вид. Научишься делать вид — говори о чём душа пожелает, ежели, конечно, поблизости нет ушей. Пажи его голову так прожигают взглядами, он чувствует, особенно взгляд Семёна. Подумать только, до сих пор не забыл имя! — Елизавета Петровна, на сей раз я не улыбался, вы были тому свидетелем. Спешу оправдаться тем, что каждая дама подходит ко мне первой. Думаете, убегать от них здесь очень удобно? — улыбается одними уголками губ, стараясь сохранять важный, серьёзный вид. Огромная несправедливость в том, что отведено им не более пары минут. Долгие беседы покажутся подозрительными. Или вызовут императора, что и случается. Кирилл успевает мимолётом коснуться её руки, прежде чем она повернётся к Василию Борисовичу. Прежде чем зрительный контакт жестоко оборвётся. Как отгадать, когда взгляды переплетаются в последний раз. Они оба должны выказать уважение в реверансе и поклоне, но сегодня он особенно нетерпелив.
— Моя дорогая, я вас заждался! Следуйте за мной! Вас ждут пирожные, вы таких ещё ни разу не пробовали, клянусь, — подставляет свою руку, похоже, не оставляя Лизе выбора. Ведь в с е смотрят. Волконского будто не существует вовсе. Ему бы порадоваться. Смотрит им вслед, а пальцы снова сжимаются в кулаки незаметно, в складках кафтана. Ксения Дмитриевна поджимает нижнюю губу, выказывая сочувствие и обиду на ситуацию. Похоже, не потанцевать капитану с цесаревной этим вечером. Пажи торопятся переместиться поближе к ней, а Волконский так и останется стоять на месте. Бесконечно одинокий. “Грустный, очень грустный”, — подумает княжна Голицына.
Василий Борисович выходит в центр зала, наслаждаясь обращёнными к его царской особе взглядами. Разумеется, взгляды восхищённые. Фальшивые. Он собрал общество под стать себе. Общество, помнящее прошлых императоров и фамилию “Романовы”, обступает центр залы вторым кругом, и наблюдает вовсе не восхищённо. Настороженно. Надо отметить, разоделся император краше нежели обычно. Сияет начищенной монетой и осторожно стучит десертной вилкой по бокалу, привлекая ещё больше внимания. Дело в том, что на некоторые подвиги были способны лишь некоторые люди. Второго такого не будет. Лишь комичное представление, в котором он, император, выставит себя дураком, посмешищем. Разве что никто не станет хохотать в лицо. Зато в каждой гостиной Петербурга будет ещё долго звенеть смех и чашки с чаем из лучших сервизов, опускаемые на блюдца.
— Дамы и господа! Я хотел бы сообщить важную новость. С этого дня цесаревна Елизавета Петровна — моя невеста! Тост за самую красивую невесту!
И он поднимает бокал, сияя ярче золота, каким дворец облеплен изнутри.
Только Александр Петрович вставал на колени пред ней, не боясь того, что наблюдает весь свет. Александр Петрович спрашивал её с о г л а с и я. Им никогда не стоять даже рядом. Император, несомненно, знал, что она своего согласия никогда не даст. Зачем же спрашивать? Сам Борис Фёдорович пошатывается от неожиданности. Его в планы столь любопытные не посвящали. Значит ли это, что собственного сына опасаться иль приструнить надобно? Заявление гремит громом, пронзая насквозь. В аплодисментах растворяются те, кто наблюдал с “последних рядов”. Князь Вяземский смотрит невозмутимо, однако глаза нечто неясное выдают. Взгляни кто-то в них сейчас и непременно скажет, что князь столь безумное, смелое решение не одобряет. Семён глядит широко раскрытыми глазами, стреляющими молниями. Мальчишка. Пажи в общем-то превращаются в свои каменные копии, застыв в глубоком потрясении. Они ведь знают немного б о л ь ш е. Что говорить о них, ежели потрясены иностранные послы и придворные. Ксения Дмитриевна резко оборачивается, быстро находя фигуру Волконского. Она наслышана о жизни дворцовой благодаря братьям и пронырливости; подслушивала разговоры после очередного бала вместо того, чтобы лежать в постели. Однако, не может определить сколь значимое / хорошее / дурное сие известие. Свет делится на две части: одни аплодируют, другие не шевелятся вовсе.
А что же Волконский? Человек, который пережил, казалось, всевозможные невзгоды. Терпел выходки безумца, наблюдая за тем, как его возлюбленную целовали / уводили в опочивальню. Видел следы / отметины рукоприкладства, после которых хотелось разве что прострелить голову. Видел кровь, вытекающую из её тела. Видел / чувствовал её боль и позволял, чтобы другие сделали ещё больнее. Пережил множество расставаний, пережил чёртову войну, после которой жизнь не обещала стать л у ч ш е. Казалось, на его душе не осталось места, по которому не пришёлся удар, — вся избитая, в синяках. “Но будет хуже, Кирюша. Будет хуже.” Лицо его бледнеет. На мгновенье покажется, что и силы покидают тело. Странно, пальцы в кулаки не сжимаются. И мир качается. Что же происходит, Господи? “Невеста, невеста, невеста”, — бьётся в голове. Странное чувство, словно кто-то опережает в том, чего желал всей душой с а м. Хотел ведь, назвать своей невестой. А что же теперь будет? О последствиях позже. Он судорожно выискивает взглядом Лизу. Она знала? Едва ли. Никто не ведал, что на уме давно потерянном и безнадёжном. Никто не знал. Он не может её найти. Несколько минут назад она стояла подле императора, в таком же центре всеобщего внимания. “Где она, где же?” Краем глаза замечает мелькнувшее платье, — каким-то образом запомнил его цвет. Василий Борисович остаётся довольным собой весьма, принимая с гордостью поздравление. Кирилл же ничего не понимает кроме того, что должен бежать за ней. Совершенно ясно становится, для чего его присутствие. Должен был услышать. Должен был сломаться, слишком обнаглевший в последнее время. Быть может, должен был выкрикнуть протест и вызвать на дуэль — прямая дорога в крепость. А быть может, императора более не тревожит персона капитана. Ему теперь к свадьбе готовится.
— Лиза! — вырывается из груди отчаянно-громко, на весь пустой коридор. Догоняет её и за руку хватает. Вероятно, она бы не стала от него убегать. Вероятно. Смотрит в глаза напротив пристально. А дыхание учащается по мере учащения сердцебиения. — Ты знала? — звучит с каким-то укором / обвинением / вызовом, чего он, разумеется, не желает. Нет, так не должно быть. У него всего лишь мир перевернулся в очередной раз. Только он поднимается после падения, становясь сильнее, и жизнь демонстрирует насколько всё ещё с л а б. Мотает головой, зажмуриваясь, будто сейчас проснётся и кошмарный сон уйдёт. Не уходит. Не уходит! — Ты знала? — повторяет совершенно с иной интонацией. Теперь умоляюще, устало, разбито. Отпускает её руку. Она бы сказала, разумеется, сказала если бы узнала раньше остальных. И что же за любовь такая? Безумная, больная, не любовь вовсе.
— Мы что-нибудь придумаем, — на сей раз он не желает ни плакать, ни отступать, ни бросаться со шпагой на безумца. Только что? Наверняка она задаст похожий вопрос. “Что ты придумаешь?” — Этого не может быть... нет, — мотает головой, упрямо отрицая то ли свершившийся факт, то ли грядущее, в котором она из невесты превратится в жену. Тогда за взгляд можно очутиться на плахе. Тогда, зачем ему жить? Они не успеют разобраться. За спиной послышится топот сапог. Боковым зрением замечает гвардейцев. Вооружены. С м е ш н о.
— Кирилл Андреевич, отойдите немедленно от моей невесты! Отойдите же! — требует Василий Борисович на правах ж е н и х а. Гвардейцы весьма к месту: хватают его под руки и оттаскивают в сторону; будто он станет сопротивляться (мог бы, случись таким же сумасшедшим). — Вам не стоит находиться здесь более. Кроме того, вы отстранены от службы и возвращаетесь в полк. Заметьте, я вас никуда не собираюсь ссылать, — произносит ехидно-вкрадчиво, словно воплощение самого милосердия. — Хотел сообщить об этом утром, да так даже лучше.
Наблюдает с удовольствием за тем, как крепко Кирилла под руки удерживают. Пусть хотя бы видимость какого-то ареста его потешит, ежели такой неуловимый. В этот самый миг Кирилл как никогда ясно осознаёт, что существует способ уничтожить человека, доставляющего одну только боль. Ненависть и злость жгучие достигают предела, заставляя тело едва заметно дрожать. Даже сейчас они должны храбриться. Даже сейчас лицо должно сохранять холодную невозмутимость. Иначе не выжить, ведь так?
— Сдайте оружие сопровождающим, немедленно, — приказывает император, продолжая наслаждаться происходящим. Верно, этот Волконский непредсказуем, так пусть отправляется в свои казармы безоружным. Кирилл покорно вынимает шпагу из ножен. Василий Борисович несколько напрягается от блеска и лязганья стали, но ничего не происходит — шпага ложится в руки гвардейца. Следом и пистолет, который давно мог выпустить одну шальную пулю. — Ах, ещё кое-что! На неопределённое время двор переезжает в Москву. Хотел сказать, что не нуждаюсь в вашей защите. Оставайтесь в столице, это приказ. Вы же любите цесаревну? — играть с чужими чувствами не менее приятно, и сколько разных способов для того есть. — То же самое касается ваших пажей, кузина. Вам будет чем заняться и без них, — он улыбается, будто делает очередное одолжение / что-то хорошее. — Теперь вы свободны.
Кирилл, точно оглушённый градом известий, не слышит более его голоса. Не слышит, потому остаётся на месте стоять, словно вздумал бунтовать против царской воли. Император кивает, позволяя гвардейцам его попросту потащить по коридору за собой. Тело невольно совершает одну попытку протеста, а после поддаётся чужой силе. Он успевает украсть её взгляд, перед тем как наплывёт кромешная темнота. Нет, не от потери чувств, разумеется. В другой части коридора начинается темень, ни одной свечи, да и не хочется видеть этот мир, слишком жестокий. Не хочется н и ч е г о. Его уводят в неизвестность. Удивительно что не в крепость, а и впрямь, в казармы. Должно быть, эдакий свадебный подарок Елизавете Петровне.
Продвигаясь к выходу из дворца, невзначай Кирилл ловит французскую речь, доносящуюся из тёмного угла, и распознает знакомые слова да имена. Завещание. Борис Фёдорович. Охота.
***
— И что вы можете мне предложить?
Борис Фёдорович крайне раздражён в последнее время. Никто не желает попасться под горячую руку, да эти французы лезут под неё добровольно. Подумать только! Без его ведома Император удумал жениться. Ежели пораздумать, брак только на пользу — укрепит род Апраксиных на троне. Наследник будет Романов. Отчего же покоя нет его душе? Ведь получает всё, чего мог желать — больше власти, богатства, прочности в своём положении. Никто не посмеет над Апраксиными насмехаться впредь. За ними сила. Только бы этот глупец, сын его родной, неудавшийся, не натворил за спиной чего похлеще. Так глядишь, и канцлер в империи сменится. Проснёшься утром с ножом в спине. Канцлер передёргивает плечами, отрываясь от созерцания осеннего вечера за окном. Французы его откровенно начинают раздражать, больно часто маячит перед глазами, больно часто картавят на своём языке. Слух режет. Россия должна быть великой державой и без примеси французской крови, без довеска в виде ещё одного государства, которое станет вертеть ими как пожелает. Французы, надо сказать, глупые до крайности, ежели решились на сей шаг. Посол привольно развалился в кресле и теперь попивает вино, чувствуя себя точно в гостиной собственного дома.
— Известно ли вам, что в природе существует некий документ... Этот документ вас заинтересует. Только если примите наши условия. Мы хотим не так много: сотрудничества.
— То есть, вам мало того, что Император оказывает допустимые и недопустимые почести французскому двору? — от нелепости ситуации Борис Фёдорович начинает улыбаться. Не ровен час, разойдётся в неистовом крике и выставит за дверь француза.
— Этого недостаточно. Император ничего не решает. Власть в ваших руках. Франция чувствует некоторые притеснения со стороны России.
— Как же вы все мне надоели! — и впрямь, расходится, выкрикивая громко, гневно, взмахивая рукой. — Час назад сидел в этом же кресле австрийский посол и знаете что? Прямо сейчас вы цитируете его слова!
— Не стоит вам поднимать на меня голос, канцлер. Эта бумага определяет будущее вашей страны. Это вам нужнее, чем мне, уж поверьте. Но я не стану, — француз вскакивает с кресла, обиженно оправляя сюртук, — вдаваться в подробности. — Скажу лишь одно: стоит ей оказаться не в тех руках и вашего сына тотчас же свергнут. Подумайте. Вы знаете где меня найти.
Тогда впервые Борис Фёдорович почувствует страх. Страх выльется лишь в большее негодование, обрушившееся на весь дворец и его обитателей. Страх уничтожает человека. Ежели французы обладают тем, о чём он подумал, гнать их надобно немедля. Ему нужна была собственная игра со своими пешками и правилами. Играть в чужие он не собирался. Так и забылось недавнее потрясение — пусть женится себе, пусть делает что желает, пока не объявили самозванцем и не отрубили голову. Нет, тогда сам Апраксин потеряет всё, чего добивался всю свою нелёгкую жизнь. Кровью и потом. Отобрать плоды трудов своих никому не позволит. Оно ведь опасно, будить русского медведя.
***
Дни превратились в сплошную череду бессмысленных часов. Забыв, как отличать день от ночи, Кирилл отчаянно _ судорожно пытался найти выход, ведь должен он быть. Ведь должен быть Господь Бог, который вершит справедливый суд и ведает, сколь безумен человек, правящий Россией. Пусть забирает страну, но Лизу забрать он не может. Никогда с подобной страстью к Господу не обращался. Последняя надежда только на него. Ответ последует, да только прежде хорошенько помучиться придётся. Желал ли смерти? Над способом избавления от причины всех бед Кирилл не думал. Главное, избавиться. Говорят, у каждого свой путь. Каждый должен его пройти сам. От безысходности соглашается с тем, что таков его путь — тернистый, обрывистый, где опасности и смерть скалятся на каждом повороте. И вот, невзначай Волконский подслушивает чужой разговор, состоявшийся в кабаке. Пытался напиться, да не выходило, будто в стакан подливают не вино, а фруктовый компот. Вдруг случилось божественное озарение: он начал понимать чужой язык, звучащий где-то позади. Французский неизменно будет напоминать о Лизе и резать сердце ножом, разве что в тот вечер французский зазвучал особенно интересно и волнующе. Люди обсуждали какое-то совместное предприятие. Якобы они собираются передать одну ценную бумагу взамен на другую, где-то в Подмосковье. Один из них ляпнул невзначай слово, за которое получил подзатыльник. З а в е щ а н и е. Пусть они и убеждены в том, что ни один русский не понимает их священный язык, однако же, осторожность не лишняя. Никогда не угадаешь, за какой стеной сидит шпион и сколько языков знает. Так оно и случилось: Кирилл совершенно случайный шпион, в полу трезвом состоянии сообразивший, что завещание хранится у чёртовых французов. А потом его голова упала на стол и свечи погасли, а быть может, его глаза попросту закрылись; на лбу задержится отметина красная — приложился. Справедливости ради никто не подсобил ему в этом, попросту хлынуло долгожданное опьянение и снесло моментально. Утром нещадно болела голова. Ничего кроме слова “завещание” он не помнил. Надо сказать, Господь всерьёз ему помогал, иначе откуда взялся француз с утра пораньше в кабаке? Едва ли у него похмелье. Оказывается, забыл свои любимые перчатки. Глупый. Зато Волконский увязался следом, стараясь быть незаметным — носило его знатно из стороны в сторону, но мало ли похмеляющихся носит по Петербургу с раннего утра. Вскоре Кирилл выяснил куда, для чего и каковы последствия успешного исхода дела. Ежели у него забрали право на личное счастье, то право спасать несчастную отнять не посмеют. А быть может, там и личное счастье подоспеет. Только бы разобраться, в чьих руках окажется завещание императора Александра Петровича.
Кирилл спешивается, удерживая за поводья подле себя Плутона и наблюдая за тем, как принимают лошадей французов. Стало быть, их ожидали. Тогда в чём хитрость кроется? В ночном полумраке выступает дом, походящий на дворец. Подле стоят покойно несколько экипажей, походящих на царские. Когда в судьбе бесповоротно разочаровываешься, она вдруг преподносит изощрённые дары. Двери захлопываются за французами и человеком с фонарём, во дворе вновь наступает тишина. Сторожевая собака мирно посапывает на крыльце. Он осторожно выбирается из раскидистых еловых лап, отпуская Плутона — тот найдёт чем заняться. “Только, чем вы собираетесь заняться, Кирилл Андреич? Ломиться в дом?” Осматривает кареты, находя императорские вензеля. Сердце ухает вниз от осознания: ведь Лиза может быть здесь! Ему и не нужно знать о том, что здесь развернулась очередная осенняя охота, а путевой дворец используется в качестве более комфортного места отдыха, чем охотничьи домишки. Решив дождаться утра, Кирилл задумывается, где бы самому скоротать холодную ночь, и остаться незамеченным, желательно. Василий Борисович церемониться не станет. Откуда только так просто и легко рассуждать о собственной кончине? Словно жизнь у ж е лишилась всякого смысла. Лишиться. Узнать бы, на какой день назначено венчание. Только Кирилл развернётся, чтобы скрыться, больно опасно стоять посреди двора, как тишину нарушает осторожный скрип дверей. Сердце снова трепыхается, ему бы рвануть в ближайшие, наполовину голые кусты — не бежит, стоит неподвижно, уставляясь на дверь. Шелестят оранжево-красные листья на ясенях и липах, только тронутые желтизной — на дубах. Ветер холодный и она, продуваемая этим ветром, появляется на крыльце в лунном свете. Тот же ветер так живописно теребит его плащ и так нещадно развевает волосы, даже в полумраке ночном отливающие медью. Он задумается, взаправду ли видит её или видение прекрасное, вызванное неуёмной тоской? В ночи показаться может что угодно. Лунное сияние вовсе мистическое. Тишина бездонная. Предатель! Разве можно было появляться перед ней, когда ему покидать столицу вовсе запрещено? Разве можно было рисковать? А ежели судьба дарит им последнюю встречу? Разве можно её упустить? Шумит рой противоречащих мыслей в голове, пока он смотрит снизу вверх на Лизу. Между ними целая лестница — целая пропасть, через которую ему, снова, боязно перепрыгивать. До чего жестоко позволить взглянуть на неё и отнять навсегда. Что же он скажет? Случайным ветром занесло? Вздор. Звучит глупо. Нелепо. Не случайно они встречаются на этой лестнице. Не случайно его занесло в далёкое Подмосковье, против императорской воли.
— Здравствуй, Лиза, — наконец изрекает он, поднимаясь на первую ступень. Пожалуй, это звучит ещё глупее чем “меня занесло ветром”. Никто из них не нуждается в формальностях. Каждый нуждается друг в друге и на этом они обречены. — Наверное, ты думаешь, как я здесь очутился. Ей богу, мне тоже любопытно, как я здесь очутился. Это всё... какой-то кошмарный сон, и я никак не могу проснуться, — ещё две ступеньки остаются позади, а он неотрывно смотрит в её глаза. Он ненавидит её отсутствие порою больше, нежели присутствие. Не в силах смириться с тем, что её постоянно отнимают и потому, поднимается по лестнице, отдалённо осознавая сколь губительны последствия. Сгорать от любви, — это ведь, про них? — Я не знал, что ты здесь. А если бы знал, никогда бы здесь не появился, потому что... не могу смириться с тем, что ты снова и снова в опасности из-за меня, — однако, продолжает подниматься, минуя очередную ступень быстрее и решительнее. Чем ближе о н а, тем сильнее неведомая сила притяжения. Вечно немногословный Волконский превращается в человека болтливого, не иначе. Отчаянье и безнадёжность людей делают неузнаваемыми. В тот злосчастный вечер он не мог подобрать слов, быть может и чувствовал некого рода облегчение, выпроваживаемый из дворца. Однако, они оба молчать долго не могут. Рано или поздно им нужно говорить. Лиза убеждала его, засыпая и сгорая от жара, в том, что он не виноват. Теперь его черёд о чём-то говорить. “Господи, спасибо за эту ночь.”
— Каждый раз я даю тебе обещания с уверенностью в том, что смогу их сдержать. И каждый раз, убеждаюсь в обратном. Это невыносимо. Лиза, я не смогу без тебя, — последние ступени перебегает быстро, оказываясь рядом и беря её руку в свою, прижимая ладонь к бьющемуся сердцу. Она настоящая. Не призрак, очерченный лунным сиянием. Не выдуманная, не нарисованная воображением. Дыхание касается лица. — Я могу сколько угодно считать себя недостойным твоей любви, но без тебя не смогу... не могу. Я люблю тебя и даже если буду мчаться не к тебе, всё равно окажусь возле тебя, — задыхается на каждом слове от близости, от любви, которая лишь распаляется с каждой разлукой. Правильнее было бы, потухни они постепенно; быть может, правильнее было бы, давно её отпустить. Любовь эгоистична, не отпускает и отпустить не позволяет. — Никто над этим не волен, — срывается последний шёпот с губ, прежде чем первая капля дождя упадёт на ресницы. Они сами бессильны, когда между лицами расстояния не остаётся.
Кирилл обнимает Лизу крепко и целует отчаянно. Крадёт поцелуй, может быть самый опасный, самый непозволительный из всех, какие случались прежде. На крыльце дворца, в котором мирно почивает человек, полагающий что победил. Дождь обрушивается на землю то ли гневно, то ли покровительственно, скрывая двоих за своей пеленой. Хлещет звонко по листве, по гранитной лестнице, по лицам. Поцелуй запомнится горьким дождевым вкусом, ощущением безнадёжности и твёрдым отрицанием правды, которое в душе полыхает. Ежели в последний раз, то отдаваться с безумием / отчаяньем / неистовостью? Капли падают с треуголки на её плечи, покрытые халатом. Одежда спешно промокает, холод сжимает в своих тисках, а им всё равно, плевать — скоро вовсе без одежды останутся, разгорячённые и неизменно любящие. Не научила судьба-злодейка прощаться как должно, чтобы больше не возвращаться друг к другу.
///
Перед смертью, говорят, не надышишься, — перед тем, как навсегда отпустить любимую в руки другого, тоже. Никакие жалкие часы перед наступлением рассвета не спасают изнывающую душу. Кажется, рассвет не наступит вовсе. О, если бы только не наступал! Невидимые в чёрном небе, наплывшие тяжёлые тучи, быть может, отсрочат неизбежное. Темнота продлится чуть дольше. Никому не захочется покидать тёплые постели, чтобы очутиться под непрекращающимся дождём. В запотевшем окне отражается размываемая дождевыми каплями фигура. Подле камина высыхает намокший плащ и атласный халат. Он наблюдает беспомощно за тем, как она кажется, собирается уходить. Ему бы благодарить судьбу за случайную, нежданную встречу, да только, как известно, перед смертью не надышишься. По оголённому телу бежит дрожь. Жар огня не согревает. Он не в силах поверить, что видит её стройную фигуру, ловко спрятавшуюся в белой сорочке, в последний раз; целовал губы, каждую родинку на теле и след любви на плече — тоже в последний раз; отдавался чувству приятному до безумия — в последний раз. Но куда невыносимее / страшнее представить, что кто-то другой получит на э т о вполне законное право. Бога нет или он слишком жесток, ежели позволит сему произойти. Ежели этот союз будет одобрен — веру потеряет, безвозвратно. А пока его будто весь мир норовит убедить в том, что нужно отпустить, нужно принять, нужно поверить — всё было действительно в последний раз. Она собирается уходить. Разумеется, ведь утро наступит и её хватятся. Разумеется, так надо. До чего же Кирилл устал делать то, что н а д о. Надо, надо, надо!
— Лиза! — хватает её за руку и тянет обратно в кровать, лишая всякой возможности вырваться из объятий. Не хочется, не может отпустить. Не может смотреть вслед зная, что за её уходом последует конец. Конец в самом буквальном, поглощающем понимании. — Давай убежим, — смотрит в зелёные глаза умоляюще, обхватывая лицо руками, уверенный теперь, что она сама захочет остаться, не выскользнет столь жестоко. — Что нам может помешать? Нас ничего не держит ни здесь, ни в этой забытой Богом стране, — и он впрямь верит своим словам, верит в их осуществимость. Забывается о цели визита вовсе, который заключался в таинственной неизвестности, тянущейся шлейфом вперемешку с французскими духами и говором. Он ведь, собирался страну спасать. А теперь отпустить её не может и на страну плевать. — Ты же этого не хочешь. Ну, станешь его женой и дальше что? Погубишь себя! — голос от сокрушения громче, сквозит мольбой, старанием уговорить / переубедить. Да разве можно, когда Лиза решила? Ежели решила любить, то под пули. Решила любить, то не отступится, лишь бы его голова на плечах осталась. Он всматривается пристально в её лицо, пытаясь отыскать какие-либо знаки, перемены, и тщетно. — И меня заодно... — добавляет совсем тихо, спешно теряя надежду.
Погубишь, погубишь!
Они-то и сбежать не могли, находящиеся под бдительным присмотром императора и его верных чертов. Россия пред ним точно на ладони. Подними шорох, шум, гамон в любой губернии, в любом городе, в любой деревне и тотчас же беглецов выдадут. Агенты, шпионы, доносчики — они повсюду. На окраинах пограничная стража с императорскими указом каждую мышь проверяет, прежде чем выпустить. Никто не пойдёт вспять, против, — все боятся. Россия сделалась крепостью, в которой дозволено разве что погибнуть. Бежать можно, если твоя возлюбленная не невеста императора. А ежели не свезло, то смирись или умри. Любой трезвомыслящий человек скажет, что первое — правильнее, ведь самое главное — жить. Любой влюблённый скажет, что лучше смерть. Кирилл себя прежнего не помнит, а ему бы вспомнить, когда любовь казалась чем-то далёким, непостижимым и глупым. Не вспомнит, от своей любви чуть ли не обезумивший. Лиза предпочтёт даровать ему жизнь.
— Останусь я живым, предположим. Что мне делать с этой жизнью? Зачем? — упрямо поджимает губы, желая слышать ответы настолько убедительно-вразумительные, что заставят её мигом отпустить в дьявольские объятья. А всё дело в том, что с ней и без неё будет плохо. “Будет плохо, Кирюша”. Чем дольше сопротивляешься, тем больнее. Чем дольше в глаза изумрудные смотришь, тем невыносимее. Душа его и так мелкими осколками рассыпается. — Хорошо, иди, — опускает взгляд и руки, покорно кивая головой. — Только я этого не оставлю. Клянусь тебе, Лиза, не бывать этому, — он едва сдерживает распаляющийся внутренний пожар, говоря решительно, не пытаясь даже окрасить голос в оттенки покорности и смирения. Грудь снова вздымается от тяжёлого, гневного дыхания. Отводит взгляд в сторону, не желая наблюдать за тем, как она уходит. Ежели станет смотреть, всё одно что примет свою несчастную участь. Пусть уходит, а потом он непременно её вернёт.
Так и останется один в остывающей постели, которую даже огонь в камине не согреет. Отблески огненные касаются досыхающей одежды (мундир надевать было неблагоразумно) на стуле, оседают где-то на дне потемневших до цвета дождливой ночи, глаз. Дождь постепенно стихает, подлый, норовя вовсе прекратиться к утру, дабы царская охота продолжилась. Он прижимается затылком к холодной стене, безразлично глядя на пляшущее пламя в очаге. А спалить бы дворец дотла и дело с концом. Несчастный случай. Невзначай упавшая свеча. Она хочет, чтобы он жил, да разве проживёшь долго с мыслями столь крамольными в голове? Может быть, и следовало попрощаться.
///
Кирилл потерял всякую бдительность ещё в тот момент, когда позволил себе задремать ненадолго. Темень за окнами постепенно расступается, торопясь сообщить что недолго вылилось в опасное д о л г о. Он просыпается с таким же равнодушием, с каким изволил заснуть. Огонь погас, погружая комнату в серость, сырость и холод окончательно. Солнца лучи издалека дотягиваются до флигеля, спрятанного глубоко в саду, полыхающем осенними красками. Лучик скользнёт игриво по плечу, коснётся губ, поднимется к глазам, заставляя их наконец-то открыться и засиять чистым алмазом. В саду стоит запах свежести после дождя. Щебечут птицы на мокрых ветках, не боящиеся наступающих холодов. Он оборачивается и находит за спиной холодящую п у с т о т у. Привыкай, милый, привыкай. Если уж решился геройствовать и против действующей власти идти, надобно хотя бы живым / незамеченным отсюда выбраться. Никакого гомона суеты да суматохи не слышится, а стало быть, не торопятся покидать натопленных покоев и тёплых постелей. Утро раннее да холодное. Выбраться из флигеля незамеченным ему удаётся, однако на этом удача покровительствовать прекращает. Мало тебе, негодник, нескольких часов в одной постели с любимой? Он замирает, успев порог переступить, а дверь за спиной сама собой со скрипом захлопывается. Он отчего-то замирает, а душа, всё тело, всё существо трепещут точно накинулась на него лихорадка. Готов броситься на колени перед ней, умолять снова и снова, пока не согласится. Однако, совершенно ничего не предпринимает, оставаясь стоять и наблюдать завороженно за тем, как она подходит. Хочется кричать на весь свет: не подходи! Если подойдёт, то прощанья не миновать. А дальше Бог знает, что будет. Лиза крик его души не слышит и расстояние между ними нещадно уничтожает. Щебечут птицы, тяжёлые капли падают с листьев на землю, осыпаются точно крохотные алмазы с веток, сверкают в лучах раннего солнца. Только как бы ни светило солнце утреннее, как бы ни полыхали сады осенние, серость объяла землю, небо светло-бурое, совершенно не желающие ясному дню уступать. Кирилл смотрит неотрывно на её лицо, проникаясь до самых дальних уголков души тоской и грустью.
“Пожалуйста, не надо, не надо.”
Быть может, Лиза и говорит что-то, — он не слышит, заколдованный глазами. Чувствует, как в последний раз переплетаются пальцы, отчаянно-жадно вглядываясь в её лицо. Чувствует, как холодит ладонь какая-то вещица. Что это? На память? Господи, какие глупости! Он не успеет её забыть, он никогда не забудет, даже если видит в последний раз. Он обязательно вернёт её обратно и будет называть с в о е й. Они ведь, не могут прямо сейчас прощаться в это безумное утро, в котором солнце соперничает с унылым мраком и тучами. Они ведь, не могут всерьёз прощаться, потому что после каждой разлуки наступали долгожданные, счастливые встречи. Беспомощно пытается что-то сказать, а слова поперёк горла. Слабо головой качает, пока внутри поднимается сильнейшая буря отрицания. Могла бы подарить подарок и без повода, а повод поистине глупый, дурацкий, выдуманный лишь бы причинить боль. Быть может, когда находит силы дабы произнести слово, опережает чей-то голос.
Кирилл не сразу узнаёт голос человека, которого давно не прочь пристрелить, а сегодня пылает этим желанием. Поднимает потерянный взгляд, не сразу понимая, что п о п а л с я. За нарушение царского приказа крепость без какого-либо разбирательства. Попался. Крепко сжимает что-то, что толком не успел рассмотреть, в кулаке. Василий Борисович нападает с тирадой гневной, угрожающей. Кирилл будто на дне реки, под её надёжной толщей, слышит один лишь неразборчивый ш у м. Не следует долго гадать, что было бы, не стань Лиза стеной между ними. Кирилл — снова в охапке гвардейцев и на допросе в Канцелярии. Василий Борисович — быть может, заколотый шпагой. Кирилл запоминает одно только чувство действительно неминуемого конца. На его глазах Лизу уводят силой, хватая под руку. А он точно оглушённый, онемевший, стоит неподвижно с брошью в руке.
///
Лиза спасает Кириллу жизнь не впервые и не в последний раз. Быть может, Василий Борисович и впрямь счастливый жених, ежели позволил удалиться с глаз долой нарушителю его п р и к а з о в. Разве что обещал отправить командиру полка указания, как следует Волконского наказать. Наконец очнувшись, а впрочем, не чувствуя собственного тела и окружающего мира с его свежестью и холодным ветром, отправляется Волконский искать своего коня. Взаправду, позабыл напрочь о французах, о завещании. Любовь дурманит. Ничего хорошего от любви не жди. Дворец окружён лесом и стало быть, Плутон отправился на его исследования иль на поиски съестной травы, — его конечно, накормить и напоить забыли. Кирилл вдруг ощущает укол совести и неловкую вину. Позабыл друга! Не откликается на его настойчивые насвистывания. Забредает глубже в лес, всматриваясь перед собой в очертания стройных сосновых да берёзовых стволов, выступающих из густой дымки. Хрустит под сапогом ветка и кажется, что почудилось, послышалось. Не может быть человеческого голоса здесь, разве что недовольно-обвиняющее ржание. За хрустом второй ветки раздаются вовсе стоны. Он бросается через кусты колючие, цепкие, хлещущие по лицу и оставляющие свежие царапины. Перед глазами картина ужасающая: люди у б и т ы е. Трое, вероятно, безоружных, а быть может, не успевших защититься. Кирилл падает обессилено на землю перед человеком, тянущим к нему руку. Лицо бледное, на котором смерть проступает постепенно, кажется знакомым. Речь чужая. Наклоняется к лицу, дабы разобрать невнятное бормотание умирающего.
— la volonté... alexandre petrovich... рус... русские... — срывается с губ бескровных последний выдох, и последние слова, мгновенно отрезвляющее.
Русские. Последняя воля Александра Петровича и убитые французы. Русские обожают играть с огнём. За спиной раздаётся обвинительное ржание Плутона, и Кирилл расценивает сие как знак свыше. В погоню!
Порою чтобы возродиться, нужно сгореть дотла. Кирилл мчится за экипажем, не иначе как на смерть верную, влекомый тем самым смертельным пламенем. Последняя воля истинного императора оказалась в грязных, окровавленных руках. Он не сомневается. Перед глазами лицо умирающего Саши, верного друга и единственного, кто был достоин принять трон и правление великой державой. Сердце колотится от непреклонности и смелости, какая вдруг овладела душой и телом. В голове бьётся одно: догнать, догнать, непременно догнать! А дальше будь что будет? А дальше покажется лишь на мгновенье лицо Лизы в окне кареты. Никто ведь, разбираться не станет. Волконскому следовало развернуться в сторону противоположную, а ежели Волконский ведает о бумаге столь важной, то следующий приказ должен прозвучать более решительно. “Стреляй! Стреляй, кому говорю!” То ли медлительность собственных людей, то ли охватившая рассудок ярость толкает его к настоящему убийству. Мечтал ведь спустить курок. Раздаётся выстрел. Снова. Выстрел. Одно решающее мгновенье. Кирилл теряет равновесие и выпадает из седла. Карета опасно качается точно на волнах в шторм, когда колёса погрязают в мокрой земле. Дороги, а уж тем более лесные, за дождливую ночь нещадно размыло. Кругом болота грязи. Кругом пелена серая. Кирилл лежит на все ещё зелёном ковре из травы, лицом к земле. Плутон заржёт над ухом громко и совершенно бесполезно. Похоже, и старания Лизы сберечь его б е с п о л е з н ы.
Похоже любимая, пули ловить — наша судьба. Ты меня прости. Не сдержался.
Поделиться162024-05-20 21:26:49
Резиденция посланника Франции в России
— Вы оказали неоценимую услуги родине, и родина вас никогда не забудет, Жан, — посланник вскидывает лукавый взгляд на своего подопечного. В его руках находится бумага, способная вершить судьбу столь могущественного государства как Россия; способная укротить русского медведя, который окончательно Франции опостылел, в особенности за время правления Александра Петровича.
— Как вам это удалось? — жестом предлагает сесть на стул с обратной стороны письменного стола. Над головой посланника гордо красуется портрет короля Людовика XV, глядящего на подданых с одобрением.
— Секрет весьма прост, mon Seigneur. Главное в этой стране — иметь союзников, которые обеспечат ушами и глазами. Завещание императора было писано в полевых условиях. Он умирал. Мой человек не выпускал из виду его личного секретаря. К сожалению, пришлось идти на жертвы, — делает недолгую паузу, позволяя Де Россе понять, что подразумевается и тот понимает, медленно кивая головой. — Это было обставлено, как несчастный случай. Потонул в озере. Также, при нём было найдено письмо. Полагаю, оно никакой ценности не имеет, и чтобы не вызывать подозрений, я предпочёл оставить письмо для адресата.
— Что же, теперь мы должны поразмыслить, как воспользоваться сим документом наилучшим способом для Франции, — откладывая бумагу, француз наполняет бокалы вином. — Канцлер Апраксин летает высоко. Пора бы его опустить ближе к земле. Да и покойный император хорош. Король по сей день помнит все низости, которые пришлось французам претерпеть. И вот, посмотрите, что в наших руках, — произносит с нескрываемым удовольствием и улыбкой, уводя руку с полным бокалом в сторону завещания.
***
Дворец Апраксина
Они ближе, чем кажется. Они повсюду. Один из них смотрит насмехающимся взглядом, словно теперь в его руках сосредоточена власть над всей вселенной. Быть может, так оно и случилось. Кирилл гордо вскидывает подбородок, не позволяя себе дрогнуть перед этим ничтожным человеком. Он неторопливо поднимается из-за письменного стола, обходит его и останавливается в нескольких шагах. Обстановка в кабинете под стать его жестокому существу: чучела убитых животных и засушенные, вымученные бабочки, — все они были ж и в ы м и, как и его друг. Все они могли прожить свою счастливую жизнь, пока один человек не решил, что имеет право этими жизнями распоряжаться. Кирилл не сомневается более, видя напротив себя у б и й ц у. В кабинете стоит запах вина. На маленьком круглом столике поднос с графином и бокалами, на стенках которых засохли красные капли, — должно быть, чествовали свои грязные дела. В кабинете каждый предмет взывает к отторжению и отвращению, к желанию сжечь и кабинет, и дворец целиком. Мерзко, мерзко смотреть в глаза злодея, но смотреть будет, потому что дикие звери чуют страх. Он не позволит получить подобного рода наслаждение. Никогда. Пусть ведут хоть на дыбу, хоть на плаху, но и тогда страха в глазах Волконского наблюдать не смогут.
— Для чего вы меня позвали? — не выдерживает Кирилл, нарочно пропуская должное по титулу обращение. Ничтожество во плоти такого недостойны. Пусть его нарекут предателем родины, однако же от родины ничего не осталось. Родина ушла вместе со своим императором. Правитель — это олицетворение родины. А ежели ради Отечества всерьёз на предательство пойти надобно, он пойдёт не задумываясь.
— Я знал, что вы нетерпеливы, поручик. Что же, мы все скорбим...
— Не смейте, — снова вырывается невольно, обрывая канцлера, — не смейте говорить о том, что вы скорбите. Должно быть, от скорби у вас поредели запасы винища. Или от долгожданной радости?
Борис Фёдорович спешно сокращает между ними расстояние, а лицо его вспыхивает алым цветом от злости. Едва удерживается от звонкой затрещины, какую Волконский определённо заслуживает. Удерживается лишь для того, чтобы не подпитывать его уверенность. Надобно оставаться бесстрастным, спокойным. Кирилл внимательно следит за его бегающими глазами и губы кривятся в усмешке.
— Однажды все узнают о том, что сделали вы, обещаю. Суда вам не избежать, а знаете почему? Бог всё видит, — последнее прошепчет, не сомневаясь в том, что слова долетят до слуха Бориса Фёдоровича. Больно близко друг к другу они стоят.
— Так значит? Забыл своё место. Распустил тебя император, упокой господь его душу. Ничего, твою прыть мы усмирим, — отходит обратно к столу, сдерживая кипящую ярость. Дерзить поручик умудряется даже в столь опасном положении, когда жизнь его оборваться может столь легко, как жизнь Александра Петровича. Под страхом смертной казни отныне многие. — Я хотел напомнить тебе о том, любезный, что расположение знатных людей уходит вместе с ними в могилу. Привык ты к жизни подле двора, так пора отвыкать. Не тебе тягаться с царственными особами. Смекаешь о ком говорю?
Кирилл понимает, понимает как никогда ясно, что речь идёт лишь об одной особе. Других не осталось. Вновь усмехается, храбрясь и продолжая держаться невозмутимым. Пусть сердце и встрепенулось, и задеть свежие раны канцлеру удалось.
— Чтоб более тебя не видел, уразумел? Сиди в своей гвардии и будь тем доволен. Иначе, ссылка в Сибирь тебе обеспечена. И это ещё не всё. Коли увижу подле цесаревны, и её щадить не стану. Отправлю куда подальше, — стреляет глазами, не иначе как звериными. Разумеется, запугивает. Запугивает, потому что подозревает в неравнодушии. В новом положении подле цесаревны небезопасно гвардейцев держать. От горя и чувств патриотических ненароком переворот учинят. А тут чувства иные примешиваются ко всему прочему. Кровь петрова гвардейские умы будоражит. Кого ежели не дочь на трон возвести?
— Пошёл вон, — спустя несколько минут молчания и тяжёлых взглядов, звучит повелительным тоном. Кирилл склоняет голову скорее насмешливо, нежели уважительно и удаляется весьма охотно. Однако же, сердце колотится. В столь трудное время и быть вдали от неё: возможно ли это?
***
Зимний дворец
На всю необъятную Российскую Империю объявлен траур. Александр Романов пробыл императором недолго, но след собственный оставил. Наиболее сильный траур охватил простой люд. Александр Петрович являлся для них светом солнечным, ангелом, посылаемым Господом. Он был добр, справедлив, милосерден. Каждый уезд, каждая губерния, каждое имение и селение, каждый дом были объяты глубокими скорбью и горем. Дамы и женщины всякого рода, всякого происхождения облачились в чёрные одежды, а мужчины повязали чёрные повязки. Звучали на улицах и во дворах безотрадные песни, а люди были безутешными в собственном горе. Казалось, даже Петра Великого не оплакивали столь чрезвычайно, как его сына-преемника. Ежели гвардия застыла в ожидании и волнении, когда объявили о кончине Петра Алексеевича, то теперь она погрузилась на дно отчаянья и печали. Проблеск надежды отняли у целого государства. Солнце ушло. Наступила темнота, и никто не знал точно, сколь долго она продлится. Провидец сказал бы что долго, слишком долго. Была объявлена дата погребения. Кирилл впервые не задумываясь снял гвардейскую форму и надел чёрную одежду, как было велено указом и собственным сердцем. Он хотел скорбеть, хотел быть частью этого траура, охватившего всю страну и не потому, что так положено; а потому, что все были убиты г о р е м.
Прощание было подготовлено в зале, носящей название «Печальная» в Зимнем дворце на Зимней канавке. Не менее «печальная комиссия» потрудилась дабы похороны государя сделались не только церковным обрядом, но и целым государственным событием, за которым будут наблюдать иностранные послы. А после, разумеется, подробно описывать скорбь русских в письмах к своим королям. Именитые, заграничные архитекторы и художники трудились над тем, дабы придать вид зале имперский и военный, достойный столь непоправимой потери. Наследника любили ещё до того, как корона была опущена на его голову; любили и возлагали надежды, ожидали пышного и цветущего рассвета империи. Лишь он был способен вторить великим делам своего отца и не совершать его ошибок, будучи более милостивым к живым существам. Повсюду фигуры, гербы, символы; стены залы обиты шпалерами с изображением «Чудес Христовых». По центру располагается возвышение, покрытое кармазинным ярко-алым бархатом и обложенное золотым галуном. На одр, закрытый богатым персидским златотканым ковром, установлен гроб в виде раки, оклеенный золоченой парчой, по углам обложенный серебряным галуном. На крышке сияет большой широкий узорчатый крест из серебряного галуна. Внутри гроб обит серебряной парчой. Над возвышением раскидывается богато вышитый, украшенный подзором с кистями балдахин из кармазинного бархата с нашитым вензелем императора, повторенным в декоре неоднократно, а также двуглавый орел. Кому-то роскошь кажется неуместной, а другие находят общее меж убранством залы и жизнью Александра Петровича, — такая же сияющая и богатая была у него жизнь, точно в обилии солнечного света. Он сам был солнцем и сейчас будто сияет в окружении золота. Лежит покойно в гробу, облачённый в торжественный мундир. Лежит и более не ведает, что происходит вокруг. Короны — Императорская, Астраханского, Казанского и Сибирского царств, в изголовье на бархатных подушках; скипетр и держава находятся по обе стороны гроба. Почётный караул расставлен вдоль стен. Чёрным сукном завешены все окна, а освещение залы составляют двенадцать бронзовых подсвечников, пять серебряных паникадил, украшенных белым и черным флером, со свечами «белого воску». На потолке, украшенном также белым флером, помещается большой крест Андрея Первозванного.
Каждый день являются посетители скорбящие, кто искренне, а кто надменно и показательно. Рядом с телом постоянно находятся сенаторы, не иначе как коршуны, генералы и прочие лица из первейших рангов. Священник без устали читает вполголоса, монотонно, Евангелие. У шести дверей гренадёры несут караул. А толпа продолжает вливаться в залу, порою с неуёмными плачами и воплями. Разглядывают бледное лицо и шепчут, причитают страстно: как мог император скончаться? Ведь он был так молод! Кто-то вовсе падает у гроба на колени. Кто-то не подходит близко, стоя в нескольких шагах и смотря будто с возвышения. Кому-то вовсе не жаль. Доигрался мальчик. Бедное дитя. Наконец появляется серди прощающихся царская семья. Кирилл высматривает вдовствующую императрицу и Бориса Фёдоровича, появление которого напрочь лишает возможности подойти к гробу. Ему более и не хочется. Невыносимо. Он видел то, чего не видели другие. Он попрощался в своё время. Вскоре находит и цесаревну в чёрном наряде, — чёрный придаёт ей особенно скорбный, траурный вид. Даже сквозь чёрную, траурную вуаль, спадающую от головного убора, заметна бледность лица. Кирилл замирает посреди толпы, забывая обо всём на миг; рвётся вперёд, к ней, и останавливает угрожающий голос, прозвучавший в голове. До чего же хочется приблизиться, взять за руку и постоять молча рядом, разделив горе на двоих. Они, только они двое, знали настоящего Сашу. Все остальные едва ли знают, кого оплакивают. Кирилл не успевает отвернуться и последовать к выходу, — она опережает, обернувшись. Взгляды пересекаются. Впервые после того, как Саша умер. Впервые они видят друг друга. Он застывает на месте. На его лице отражается всё: горесть, сожаление, мольба о прощении, беззаветная любовь. Саша был прав на смертном одре: Кирилл любит его сестру, и любит безумно. Глаза его выдают. Несколько долгих мгновений они смотрят друг на друга, а после Кирилл резко разворачивается и уходит. Знай своё место.
Здание Сената и Синода
Напыщенные сенаторы горделивыми индюками восседают за овальным столом посреди небольшого зала, в котором столь часто вершатся многие-многие судьбы. Отстояли они несколько дней подле императорского гроба и того достаточно. Не заслужил император их особой милости, как того заслуживал Петр Алексеевич, уважающий их власть и привилегии. Народ продолжает прощаться, точно дитя малое, оплакивающее столь полюбившуюся игрушку. Не сознаёт народ, сколь тяжко было управиться с ещё мальчишкой, не ведающим как вести великую страну. Им вовсе не до горя и рыданий. Теперь надобно определить, кто следующим престол займёт да не станет рушить устоявшуюся систему. Сенат должен существовать обособленно, не терпя вмешательств извне, а особенно столь грубых, как случалось при Александре Петровиче. Они не желают ничего более, чем размеренную жизнь и тихую службу во благо Отечество и во благо собственное, разумеется. Тишина длится уже определённое время. Снаружи завывает ветер, бьётся в витражные окна, а внутри натоплено до того, что их раздутые лица бесстыже раскраснелись. Один тихо пыхтит, другой постукивает пальцами по столу, третий задумчиво смотрит в одну точку, сложив руки на золотом набалдашнике трости. Один канцлер всея Руси выглядит невозмутимо. Расслабленно сидит в кресле во главе стола, едва-едва заметно приподняв уголки губ в улыбке. Невозмутимость плывёт в глазах. Мозги его давно всё просчитали, оставалось лишь держаться расчётов.
— Да, непростую задачку оставил решать нам Александр Петрович, — наконец раздаётся кряхтящий голос обер-секретаря Щукина. — Завещания-то не имеем. Откуда же он знал, что отойдёт в мир иной в столь молодом возрасте.
— Господа, полагаю, все согласятся с тем, что порою молодой государь ущемлял наши законные права. А посему, призываю каждого тщательно обдумывать любое выдвигаемое предложение, — выступает князь Голицын.
— Нынче на повестке лишь одна тема: кто править будет? Лишь по этому поводу прошу выдвигать предложения. Раз уж нет завещания, как и прямого наследника, нам предстоит решить сию непростую задачу, — вступает и третий, граф Мусин-Пушкин, притворно-почтительно, обводя каждого сидящего за столом взглядом. Ни для кого не тайна, помимо самих сенаторов разумеется, что они друг друга на дух не переносят. Однако же, умудряются вот уже несколько десятков лет сосуществовать.
— Как же, как же нет прямого наследника? Вы забываетесь, — искренне возражает генерал-кригсцальмейстер Самарин. — Елизавета Петровна — прямая наследница.
— Баба на троне сидеть не должна! — ударяет громко кулаком по столу граф. — Где это видано, чтобы баба Русью правила? Несёте вздор, генерал! Она совсем девчонка, да ещё вся в братца, хороша. Что она смыслит в управлении государством?
— В таком случае, наследников и впрямь нет, — невозмутимо соглашается боярин Стрешнев. — Ежели не баба, так не потомок Романовых. Что же лучше из этого?
— Ни одно, ни другое, — ответствует князь Голицын. — Давайте поразмыслим, ведь найдётся у Петра Алексеевича хотя бы один потомок мужицкого роду.
Борис Фёдорович тем временем улыбается старым лисом, чувствуя прилив жара от приближения к моменту поистине кульминационному. Господа сенаторы притихают, задумываясь. Они впрямь в положении затруднительном: не оставил Пётр Алексеевич более потомков мужского рода, одни дочери и те поразъехались по заграницам. Однако же, претит сама мысль о том, что девица может трон занять. Впрочем, позже свои убеждения господам доведётся пересмотреть. А пока они размышляют. Надобно определиться с наследником пока народ занят тем, что глупо оплакивает ушедшего императора. По их мнению, разумеется, глупо. Не велика потеря. Ничего совершенно полезного для Отечества не совершил Александр Петрович. По чём же здесь скорбеть?
— Господа, а ведь сын Бориса Фёдоровича так или иначе, потомок Петра. Подумайте, мать его родной сестрой приходится Петру Алексеевичу, — неторопливо начинает рассуждать Щукин, переводя взгляд на Апраксина. Пусть фамилия вовсе не Романов, однако же, имеет к ней отношение. — Это лучше, чем капризная девица на троне. Иначе, нам придётся посадить одну из них. Иль вовсе человека с улицы.
— Больно дерзкое решение, — основывать молодую династию. Полагаю, сие предложение стоит рассмотреть, — соглашается Голицын, всматриваясь в лицо Щукина и пытаясь понять, был ли сговор с Апраксиным аль не было. Ведь стоит только передать власть в руки канцлеру, и добрая половина сената окажется в застенках крепости али Тайной канцелярии.
— С позволения Бориса Фёдоровича, выносим на рассмотрение вопрос о наследовании престола Василием Фёдоровичем, — проговаривает важно Щукин, тем самым открывая так называемое заседание.
Только вопрос в том, стоил ли того мужской пол на троне? Быть может, сладить скорее получилось бы с девицей, а не жаждущим власти Борисом Фёдоровичем и его вздорным, юродивым сыном. Впрямь затруднительное положение для господ сенаторов.
***
Траурный маршрут в Петербурге
День погребения был объявлен герольдами народу повсеместно. Были разосланы брошюры с указанным временем, расписанием и всяческими церемониальными требованиями. Накануне и в назначенный день традиционно была запрещена продажа спиртных напитков: заперты на засовы и ключи все кабаки, таверны и прочие увеселительные заведения. Народ выплывает на улицы чёрными волнами. Непосредственные участники церемонии заблаговременно заняли места и дома вдоль маршрута, простирающегося от Зимнего дворца до Петропавловской крепости. Около семи часов утра раздаётся сигнал к сбору и построению: три оглушительных пушечных выстрела. Во дворце позволялось быть лишь царской семье и высшим должностям, служившим при покойном императоре. Все прочие, расписанные участники, словно бы готовилось театральное представление, ожидали на своих местах, дабы присоединиться к шествию. Над Петропавловской крепостью и Адмиралтейством подняты чёрные флаги.
На площади перед дворцом генерал-майор Семёновского полка, выбранный для командования дестью тысячами бравых солдат, отдаёт громким голосом приказы. Дабы не уменьшать значимости похорон, пусть правителя мимолётного, как говаривали некоторые, было построено несколько полков: Преображенский, Семёновский, Ингерманландский, три морских батальона, Петербургский, Новгородский и Владимирский гарнизоны. А также почётный караул. Кирилл чудом, а быть может, совершенно справедливо, очутился в числе тех, кто станет частью процессии. Он стоит в строю замерев, продуваемый зимним ветром, и глядит в пустоту перед собой. От показательности и церемониальности делается куда более тошно с каждым днём. Он не чувствует ровным счётом ни-че-го, словно бы душу его хорошенько выпотрошили. Несколько долгих часов ожидали вытянутые гвардейцы, когда всё начнётся. Часы пробили назначенное время. Раздаётся громыхающих пушечный залп, служащий сигналом к отправлению. Звонят гулко-переливчато колокола, — на колокольне Петропавловского собора играют «печальные стихи», а к процессии присоединяются литаврщики и трубачи. Кирилл бросает лишь мимолётный взгляд на гроб, который выносят на всеобщее обозрение, украшенный как подобает гробу императорскому. Натягивает поводья на себя, заставляя Плутона развернуться, дабы этого не видеть. Кирилл себе собственную выходку простит: Плутона искали, да только не столь усердно и тщательно; быть может, и хотели сделать из него особый предмет шествия, нарядив в расшитое золотом седло и плюмаж из перьев, а потом наверняка застрелили бы не глядя. Наутро никто и не узнал императорского коня, а ежели узнает, то Волконскому на то искренне плевать. Единственное, что от Саши осталось, ещё живое и дышащее, будет защищать любой ценой.
Процессия разбита на множество групп, не такое множество как во время похорон Петра Великого, однако же, потрудились пригласить самые разные сословия. Начинается она с меньших чинов и по возрастанию доходит до тела императора в гробу. А после по убывающей, от важных персон к менее важным. Кавалеристы как конные участники занимают своё особенное место, не столь далеко от гроба, чтобы вовсе ничего не видеть. А ему хочется не видеть. Зажмуриться и не видеть. Как в детстве. Открывают процессию унтер-офицеры, за ними — дворцовые курьеры, пажи со своим командиром, придворные кавалеры, тридцать иностранных купцов, депутаты от дворянства разных городов. В голове всё ещё не укладывается что в паре вёрст гроб, а в гробу тело друга. Кажется, словно все играют, играют свои роли и вовсе, он зритель в театре. Разве что спектакль до нельзя трагичен. Кажется, Саша живой, сидит в своём кабинете и ждёт, когда ворвётся Кирилл с пылким докладом после выполненного поручения. Кажется, он теряет рассудок.
Дорога надёжно посыпана речным песком и устлана еловым лапником. Освещают дорогу длинные процессии, выстроившиеся в шеренгу, факелами из белого воска. Пусть в полдень всё ещё светло. Облака на небе разбежались, словно само солнце благоволит к усопшему, прощается. Ветер морозный теребит плащи, перья, гербы и чёрные попоны, роскошный балдахин над гробом и кисти от покрова. Шестнадцать человек, представляющих армию, флот, гражданские чины, переменяясь, несут гроб. Впереди следуют кавалеры с четырьмя «государственными мечами» с позолоченными эфесами, украшенными драгоценными камнями, острием вниз, как символ окончания пути. Двадцать человек драбантов и их командиров с обнаженными шпагами предваряют колесницу; ее везут восемь лошадей, ведомых восемью полковниками. Вокруг гроба шествуют шестьдесят гвардейских бомбардиров с зажженными свечами чистого белого воска. Пахнет, впрочем, воском.
Вдовствующая императрица Анна Дмитриевна следует за гробом, а подле — самые близкие родственники. Они выстраиваются в соответствии со своим статусом и близостью к усопшему императору. Кирилл находит взглядом цесаревну, занимающую место после старших сестёр, очевидно выбравшихся из своих заграниц на похороны братца. После череды важных при дворе особ процессия строится по нисходящей линии: придворные дамы в чёрных платьях с длинными шлейфами, купцы в епанчах, и каждый несёт свою восковую свечу. Завершают процессию всё те же гвардейцы из низших чинов. А он смотрит неотрывно на Елизавету Петровну.
При приближении тела императора стоящие в оцеплении полки опускают знамена и протазаны к земле. Полки гвардии выстраиваются на крепостной стене. Весь город получил траурное убранство. На Адмиралтействе и Петропавловской крепости были вывешены траурные флаги.
Толпа чёрным потоком заплывает в Петропавловский собор, разумеется, лишь избранная; лишь высшие чины, те, кто достигли высоких рангов согласно табелю, знатные петербургские семьи. Гвардии место отведено вблизи от собора, как немаловажной составляющей правления любого императора. Гвардейцы, те самые, кому посчастливилось приблизиться к царственным особам. А ему в особенности, и за сие он судьбу проклинает, ненавидит. Позже уразумеет, что лучше было иметь и знать такого друга как Саша, чем не знать и оставаться в одиночестве. Позже. Пока наблюдает за тем, как Елизавета скрывается в соборе, внутри которого прохлада, полумрак и запах ладана. Во время службы трижды звучали выстрелы, глухо отдающиеся в сердце: по прибытии, к чтению Евангелия, при посыпании тела землей. Ему упрямо чудится, будто происходит сие действо в жестоком сне. Наблюдает за ним со стороны, не являясь участником непосредственным. А потом снова её глаза, открывшиеся миру из-под чёрной вуали. Сердце сжимается болезненно. Плутон будто самовольно норовит податься вперёд, учуяв родной запах, иль Кириллу снова чудится? Отдёргивает, натягивает на себя поводья, не позволяя двинуться с места. Церемония окончена оружейным салютом из фортеций, и присутствующие чинным порядком расходятся, разъезжаются по домам. Поданы экипажи. Он проводит взглядом её, направляющуюся к карете. Душа изнывает от желания оказаться рядом, за руку взять, быть может, заключить в утешительных объятьях; да только запугивания Бориса Фёдоровича как никогда свежи и действенны. Отныне судьба каждого столь неопределённа, что монастырь иль ссылка в далёкий медвежий угол может оказаться явью. За себя он думает не меньше лишь потому, что, отправившись в Сибирь, лишится жалкой возможности даже наблюдать. А толку от наблюдений? Беспомощность, — вот он, неодолимый враг. Как только взгляды пересекаются, Кирилл отводит глаза в сторону.
***
Петропавловский собор
Со дня панихиды в соборе был начат шестинедельный караул. Для «нощеденствия» были выбраны первейшие персоны и офицеры гвардии. Впрочем, первейшие персоны спешно утомились нести скорбное бремя: их ряды постепенно редели, оставался лишь гвардейский караул неизменным. Кирилл, испытывающий ненависть ко всему свету, особенно теперь ненавидит того, кто удумал внести его имя в списки караулящих. Прошло несколько недель с прощания и шествия, а впрочем, прощание продолжалось в соборе. Столица затаилась в ожидании придания земле, которое хотели было провести ближе к весне, — земля во время морозов больно не податливая. Он стоит напротив гроба, своевольно покинув место караула. За ними давно никто не присматривает, дело пустяковое; нынче куда важнее определить, кто помазан на царство будет, и кажется, определили. Слухи о воцарении Василия Борисовича Апраксина спешно разлетелись по Петербургу. Кириллу, впрочем, совершенно безразлично. До сих пор не оправился, не победил одолевшую хворь с одним-единственным симптомом — равнодушием. Ясно лишь одно: правителя более хорошего нежели Саша не будет. Ни один из претендентов на трон: ни отпрыск Апраксина, ни члены сената, которые призадумывались над регентством, вспомнив что Пётр Алексеевич имеет малолетних внуков. Впрочем, решение было принято. Зачем же отыскивать внуков где-то за границей, которые и русского языка не знают, ежели есть свой человек подле? Проверенный. Кириллу на слухи плевать. Он стоит напротив гроба и проникается той мыслью, что Саши больше н е т. В тишине вдруг раздаются чьи-то лёгкие шаги, заставляющие обернуться. Сердце срывается и ухает куда-то вниз, в пропасть бесконечную. Сколько же они не виделись? Тоска обуревает. Стоит лишь в глаза взглянуть и пропадает. Дни в храме теперь тихие, безлюдные, самое время попрощаться спокойно. Кирилл делает над собой усилие, дабы не сорваться ей навстречу, не наговорить лишнего, не сделать того, о чём жалеть будет до конца жизни. Лишь голову почтительно склоняет. Надо бы вернуться на место караула, да двинуться невозможно, выше его ничтожных сил. Он впрямь вымотался. Устал. Ни минуты покоя с того мига, когда Саша упал с Плутона. Впрочем, покой не обещает воротиться в скором времени. Ему бы хватило и ночи, проведённой в крепком сне, а не метаниях душевных и порою, физических. Не спится ему по ночам. Бродит по двору казарм, а иной раз, по ночному Петербургу. Они несколько недель не виделись, и он знает, что является тому причиной. Да только, ежели решил избегать, зачем же в глаза смотреть неотрывно? Зачем же сердца израненные бередить?
— Цесаревна, прошу, примите мои соболезнования. Эта потеря невосполнима для всех нас, — раздаётся его негромкий голос, расходящийся эхом под сводами собора. Невыносимо. Невыносимо находится подле неё, на расстоянии столь ничтожном, и не приблизиться; не взять за руку, не выразить сердечные соболезнования, какие бы походили случаю. Он ведь, друга потерял, а не императора и командующего армией. В первую очередь, он потерял друга. Сухость и сдержанность вовсе неуместны, однако же, иначе нельзя, нельзя. Его бросает в лёгкую дрожь то ли холода, то ли от переполняющих чувств. А быть может, простудился. Молчание собственное делается ещё более нестерпимым, неловким.
— Сенаторы разбежались, — снова зазвучит его осипший голос, сквозящий отчаяньем. Словно ей следует знать об этом прямо сейчас. — Полагаю, у них нынче другие заботы. Здесь осталась гвардия да стылый ветер.
Иногда захаживает рыжая кошка, любящая на коленях засыпать. Иногда появляются священнослужители и столь же таинственным образом исчезают. Иногда забегают детишки в тулупах не по размеру и валенках, укладывая на гроб букеты из засохших сорняков и веток, а после бегут на санях кататься. Дети мало что смыслят, разве что вынуждены подчиняться трауру, объявленному на полгода. Детям можно и позавидовать. Кирилл смотрит задумчиво в сторону, на миг набираясь смелости нарушить всяческие выстроенные преграды из правил и запретов; и смелость сия рассеивается прежде, чем успевает что-либо сделать иль сказать. Не может он рисковать.
— Не могли бы вы выполнить одну мою просьбу? Это, — вынимает из-под кафтана лист бумаги, — Александр Петрович оставил для Натальи Алексеевны. Боюсь, что встретиться лично с ней не смогу. Попасть во дворец теперь возможным не представляется. Передайте ей, прошу вас, — протягивает руку и поднимает взгляд на её лицо, взгляд, отражающий истинное состояние души. Хочется, чтоб она задержалась, не уходила, не растворялась в белоснежной метели прекрасным видением; хочется заверить в том, что ему тоже нестерпимо больно и горестно; хочется почувствовать нежность чужих рук. Вместо утешающих прикосновений ощутит разве что лёгкое касание холодных пальцев; вместо безмолвной скорби, разделённой на двоих, поторопится вовсе избавить её от собственной персоны.
— Берегите себя, Елизавета Петровна. Как бы тяжело ни было. Ежели понадоблюсь, я здесь... недалеко, только позовите, — взглядом коснётся её рук, однако же, свои не протянет, только голову ниже привычного наклоняет и торопится прочь уйти. Когда же врать научился? Разве недалеко? Далеко, как никогда прежде. Он далеко. Однако же, душой и сердцем неизменно с ней. Снова воцарится тишина и только ветер начнёт протяжно завывать снаружи.
***
Ночь выдалась ветренной и снежной. Утром столица очутилась под толстым снежным покрывалом. Ветер вовсе стих. А сверкающий в солнечных лучах снег облепил голые ветви деревьев, крыши домов и дворцов, шпили и купола соборов; сугробами округлыми обросли площади, дворы, дороги, какие лишь местами удалось подчистить. Подле Петропавловского собора мужики расчищают снег, однако же, захоронение становится совершенно невозможным. Последняя морозная ночь караула остаётся позади, как и долгий месяц. Отчего-то кажется, что непременно воротят обратно, объясняя сие тем, что не сподручно составлять новые списки караулящих. Кирилл потирает замёрзшие руки, выходя на крыльцо. Лишь краем глаза замечает экипаж на вычищенной дороге: быть может, господин сенатор какой соизволил проверить, всё ли в порядке. Дни, проведённые в одиночестве, прошли отчасти благотворно. Первое время Кирилл молча смотрел на гроб, а после прочёл оставленное письмо и какие только чувства не овладевали им; злился, бранился, плакал, расхаживал по собору и будто видел перед собой Сашу, с которым непременно надобно поспорить. А после наступили тихие зимние вечера, когда зажигают лампады и свечи, когда приносят тёплое молоко и всячески обхаживают несчастных гвардейцев, замерзающих в своих бесполезных караулах. Разве сделается что-то плохое с телом императора? Впрочем, в такие размаривающие вечера Кирилл бормотал себе под нос всякую всячину, снова ведя беседу с ожившим перед глазами, другом. Надо отметить, не прошли даром часы, проведённые не иначе как в сумасшествии. Под конец своей службы он отпустил Сашу и больше тот призраком не являлся. Принял суровую действительность, однако же, поклялся отыскать всех, кто был причастен к непростительному злодеянию. Сегодняшним утром отчего-то легко и свободно дышать. Морозный воздух удивительно суховат, что совсем непривычно для столицы на Неве, с её сыростью и влажностью. Оглядев перед собой вид, он спешно спускается по ступеням, и угождает прямиком в море снега, чуть ли не по колено. Надобно наведаться в казармы и получить дальнейшие распоряжения касательно несения службы. Правительственная система точно заглохла, все озабочены чем угодно, только не повседневными заботами. Все озабочены воцарением нового императора. Так бы они, караульщики, и превратились в ледяные статуи на своих постах. Оглядев ещё раз экипаж, он мысленно отмахивается и продолжает уверенный путь через горы снега, прикидывая сколько времени потратит на дорогу к Зимней канавке и сколь нелёгкой окажется сия дорога. Плутона, черти, увели в казармы, так как лошадей при соборе держать негде и некому. Он пробирается через ещё не растасканные сугробы и вдруг слышит голос, не иначе как доносящийся с небес. Чистый, звенящий, ангельский голос.
Кирилл! — в этом голосе словно звучит и просьба, и обида, и вопрошание. Надо сказать, он готов всё отдать за её звонко-певучие «Кирилл», безо всякой приставки отчества. Странно лишь то, что немало времени пройдёт, прежде чем станут по именам звать. Прежде чем, станут ближе. Кирилл точно зачарованный, невольно оборачивается. Она пробирается к нему через снежные холмы, путаясь в пышных юбках, что кажется особенно неудобным. Модные наряды сотворены уж точно не для покорения сугробов. Он точно в этот снег проваливается, не имея возможности двинуться с места. Сдвигается иль бросается только когда она теряет равновесие и падает на эту снежную перину; снег клочьями разлетается, а снежные крупицы парят в чистом, остром воздухе серебряной пыльцой. Он бежит к ней, придерживая треуголку на голове, наверное, как никогда не бежал прежде; словно её жизнь зависит от того, добежит ли как можно скорее иль нет.
— Елизавета Петровна! — срывается с уст, когда опускается рядом с ней и протягивает руки, дабы помочь подняться. Елизавета Петровна, впрочем, по невиданным причинам упирается. Отчего-то возникает умиление, когда она, совершенно обиженная, отказывается помощь принимать. Кирилл вдруг улыбается, впервые за множество недель, прошедших после трагичных событий. — Елизавета Петровна, прошу вас, простудитесь ведь, — не оставляет попыток её поднять с холодного снега. Она что-то говорит и должно быть, много говорит, а он вылавливает одну лишь фразу и более ничего не слышит. Он ведь и впрямь о б е щ а л. Обещал не оставлять никогда. Не отпускать. Звучит более чем отрезвляюще, точно ведро ледяной воды с утра пораньше, выплеснутое на голову. Кто же ему только сказал, что правила надобно строго выполнять? Особенно нелепые, созданные сугубо для запугиваний. Россия тем хороша, что в ней ничего нельзя, но всё можно, — излюбленная фраза многих бунтовщиков. Какой такой закон он нарушит, ежели будет держаться данного слова дворянина? Совершенно никакой. Никто не запрещал тайных встреч. Нынче век, в который без тайных встреч никто не обходится. Многое скрыто под покровами ночей, и многое утаено от глаз людских. Сердце его оглушительно колотится, умоляя сдаться, а быть может, и поддаться слабости. Глаза выдают предательски желание рядом быть. Кирилл берёт её за руку уверенно, решительно, заглядывая в глаза изумрудные, ясные как сегодняшний день.
— Елизавета Петровна, поверьте, я как никто иной и как никогда прежде, хочу рядом быть в это трудное время. Это случилось не по моей воле. Но... — крепче сжимает её руку в своей, — но я лишь сейчас осознал, что решение это было принято трусливым человеком, — не станет вдаваться в подробности, разумеется. Она быть может, и сама догадается о причинах удаления многих от двора. Причины красуются на поверхности. Ведь не было человека, который был противен Василию Фёдоровичу более, чем Волконский. За счастливые мгновения рано или поздно приходится платить. — Прошу вас, вставайте, — свободная рука перемещается на талию, спрятанную под плавными волнами шубки, а другой её руку удерживает и наконец помогает подняться со снега; оттряхивает и шубку, и юбки от прилипших снежных комков, находя лишь себя виноватым в том, что она вовсе свалилась в сугроб. А после опасливо оглядывается по сторонам; впрочем, поблизости не единой души. Непогода для прогулок.
— Давайте я проведу вас к карете, — кивает в сторону экипажа, теперь ясно кому принадлежащего, и подставляет руку, дабы не повторилось инцидента с падением. — Вы возвращаетесь во дворец? Тогда я позволю себе обнаглеть и напроситься к вам в попутчики, — улыбается, взглянув на неё, оказавшуюся столь близко. — Иначе боюсь, доберусь в казармы к завтрашнему утру.
Кирилл осторожно поглядывает в её сторону, постоянно уводя взгляд, стоит только быть пойманным. Непривычно находится внутри кареты, да ещё кареты императорской; ежели кто-то заприметит, сомнений нет, — отправиться на вечное поселение в Сибирь. Бархатная обивка, золотистые нити и золотые обрамления окон, — всё под стать тем, кто в сей карете разъезжает. Он снова поглядывает в сторону Елизаветы и когда понимает, что в том замечен, не скрывает какой-то игривой улыбки. Словно они затеяли игру: кто посмотрит на другого как можно незаметнее. А промедление на дорогах из-за обилия снега игру лишь растягивает на более долгое время. Взгляд невзначай опускается ниже и останавливается на её сложенных руках. Хотелось бы взять за руку, да только повода никакого и не находится. Тоскливо влюблённому сердцу, изнывающему от близости; однако, и такую близость следует почитать за высшее счастье. Впрочем, провидение решает подыграть, напомнить о том, что мысли и желания порою материальны. Карета опасно покачивается. Кирилла волной невидимой отбрасывает в угол, а следом и Елизавету Петровну: совершенно неумышленно ловит её своими руками, останавливая от дальнейшего падения. Снаружи доносится пёстрая брань кучера и незнакомые голоса, — должно быть, бесценное место на дорогах не поделили. Кирилл не слышит ни перебранки, ни цокота копыт, ни волнующейся Невы, только удары сердца в ушах. На несколько мгновений пропадает в её глазах, а после взгляд невзначай опускается на её манящие губы, — это вовсе не за руку подержать, надо признать. Качка, начавшаяся после того, как карета тронулась, мигом из головы выбивает всяческие глупости. Он помогает ей вернуться в прежнее положение и сам усаживается поближе к двери, образуя между ними должное расстояние.
— О, высадите меня перед поворотом на Миллионную улицу, так правильнее будет. Дальше увидеть могут, — торопится нарушить неловкое молчание, замечая чуть ли не родные виды за окном. На углу Миллионной улицы и Зимней канавки дислоцировался первый батальон Преображенского полка. Никогда Кирилл не задумывался, сколь близка гвардия ко дворцу, и сколь велика роль ей уготована в будущем. — Оказывается мы не так уж и далеко друг от друга, — улыбается своим мыслям-находкам. — Давайте встретимся завтра, Елизавета Петровна. Приходите на набережную Большой Невы, на Васильевском острове после полудня. Я буду вас ждать, — слова заверяет поцелуем руки, взяв смелость снять перчатку. А потом он выпрыгивает чуть ли не на ходу, торопясь скрыться за поворотом. Бог знает, чьи глаза внимательные притаились за окнами сурово глядящего Зимнего дворца.
***
Не иначе как свидание устроил, — думает Кирилл, разглядывая противоположный, застроенный домами, дворцами и зданием Адмиралтейства, берег Большой Невы. Вчерашний день словно находит продолжение в сегодняшнем, — безветренный, морозный и сухой. За спиной брошенная стройка, развернувшаяся на большом квадрате земли, — Саша планировал построить Академию наук, да не успел, как и многое другое. К пристани причаливают разномастные судна время от времени: от галеонов до шхун и совсем маленьких лодчонок. Набережная звучит морским жаргоном, редким треском льда на реке, громкими переговорами проходящих мимо петербуржцев из простонародья, и тихими, невнятными беседами дам и господ из высшего света. Не удивительно, ежели та пара, приближающаяся со стороны моста, устраивает такое же тайное свидание. Иначе они бы распивали чай в натопленных гостиных. Делать на скользкой набережной в зимний день, когда снег до сих пор не растаял, вовсе нечего. Она осторожно держит его под руку, смущённо улыбается и щёки её краснеют от морозца, а быть может, от внутреннего пыла любви; он накрывает ладонью её руку и смотрит с заметной нежностью. На нём форма солдатская, а она выглядит как истинная барышня из титулованной фамилии; следовательно, их отношения запретны, и желанны. Кирилл мельком усмехается своим мыслям. Счастливые люди. Взгляд привлекает всё та же, знакомая карета, выехавшая на Николаевский мост. Только увидев карету, понимает: ждал, ждал с нетерпением, гадая приедет иль нет. Он её ждал. Не просто стоял да рассматривал панорамные виды столицы и прохожих, а томился в ожидании, пытаясь занять себя, отвлечь. Теперь с готовностью бросается на встречу, подбегая к карете прежде, чем та останавливается. В числе её свиты разве что кучер, из соображений конфиденциальности, и он не замечает неохотные телодвижения мужика, который вероятно, чувствует надобность послужить и лакеем ко всему прочему. Обязанность эту Кирилл шустро берёт на себя, открывая дверь и протягивая Елизавете руку.
— Вы приехали, — констатирует очевидный факт зачарованно. — Возьмите меня под руку, мне так будет спокойнее, — и дело вовсе не в том, что все влюблённые обязаны ходить под руки; они вовсе не влюблённые, не похожи на пару, ушедшую вперёд. Они в состоянии томительного ожидания. Дело, разумеется, в том, что набережная затянулась тонкой коркой льда, сделавшись не иначе как площадкой для катания на коньках.
— Простите за это, право слово, мне неловко заставлять вас скрываться и прятаться, — прогулочным шагом направляются в сторону подпорной стены набережной из розового гранита. — Как вы знаете, я сразу оказался в немилости у нашего общего друга, и нахожусь в ней до сих пор, — или правильнее сказать, недруга? Вспоминается недобрый взгляд в тот вечер, когда посвящал мелодию в качестве подарка. А после череда недобрых взглядов, разнящихся разве что степенью отвращения и ненависти. Они пересекались не столь часто, однако же тех минут хватило. — Боюсь, ежели меня увидят с вами... — останавливается ненадолго, опуская взгляд на её красивое, румяное лицо, обрамлённое пружинистыми медными локонами. — Тогда я вас более не увижу, а что может быть страшнее? Как по мне, ничего, — последнее прозвучит задумчиво и тихо, после чего продолжит медленный шаг.
— Смерть Саши стала для меня, как и для вас, ударом. Потому я сразу не догадался, как правильнее поступить. Мне стыдно за свою отстранённость и холодность, но поверьте, душевные муки меня терзали постоянно и сильно.
Об этом говорить до сих пор трудно. Ком в горле образуется и душит, глаза щиплет. Вспоминать о том, что его на самом деле нет, ни во дворце, ни где бы то ни было, покамест больно. Однако, хотелось развеять представление о равнодушии, какое могло возникнуть. Рано или поздно они должны были поговорить об этом, как самые близкие Саши, не считая Наталью Алексеевну, разумеется. Треть версты вдоль гранитной стены проходят в молчании, покойном и уютном на удивление. Далеко не всегда оно смущает иль вынуждает болтать без умолку.
— Я пока что не знаю, как буду дальше без него, — устремляет взгляд задумчивый куда-то вдаль, на горизонт, сливающийся с рекой за мостом. — Поглядите, весь Петербург напоминает о нём. Сколько недостроенных зданий, незаконченных проектов. Готов поспорить, новому правительству не до этого. Ну что же, главное, чтобы народ не страдал, а проекты подождут, — улыбается горестно. Вспоминается последнее письмо, какое перечитывал не единожды и в самом разном расположении духа. Смотрит внимательно на профиль Елизаветы, раздумывая, говорить иль нет; решает на сей раз освободить её от новостей обременительных. Предатели, пропавшее завещание, ясно как день — не тот человек занимает престол. Череда нелёгких задач выстраивается, которые совесть не позволяет свалить на её плечи в столь трудный час. Предпринимать что-либо в любом случае, поздно.
Они останавливаются у стены, дышащей холодом, откуда вид раскидывается на Адмиралтейскую набережную и далёкий Зимний дворец, выбивающийся своим величием среди прочих строений. Подувший ветер нагоняет пушистые облака, обрамлённые словно перламутром; она кажется совсем хрупкой и одинокой, стоящая впереди и продуваемая этим морозным ветром, теребящим шубку и меховой воротник. Кирилл уступает порыву какой-то трепетности и нежности, подходя ближе и развернув к себе, заключает в объятья. За их спинами проносится свора детишек, разгорячённых от бега и беззаботного хохота; они точно неваляшки, покачиваются на льду, а после вовсе падают друг на друга. Откуда они только взялись здесь, неизвестно, однако же, картина умилительная. Игры на льду их увлекают. Кирилл невольно улыбается и всплывают в памяти строки из Сашиного письма. О детях. Впрочем, быстро от сих мыслей отмахивается.
— Вы будете рады знать, что Плутон теперь со мной. Его тронуть не посмеют, — улыбается ободряюще, отчаянно находя хотя бы одному добрую весть. — Я молю Бога только том, чтобы оставаться рядом с вами, в Петербурге. Быть может, он меня услышит, — прошепчет, крепче прижимая её к себе. Мольбы небес, по всей видимости, не достигли, иль стоило громче просить. Так они и простоят невесть сколько времени, на набережной, где никому дела до них нет. Он так и будет её обнимать, укрывая от ветра, пока не придёт пора прощаться.
***
— Кирилл Андреич, Кирилл Андреич, — прорывается чей-то нетерпеливый голос сквозь сон. — Волконский! В самом деле, просыпайся, — теребит за плечо Дмитрий Яковлевич. Кирилл неохотно открывает глаза, наблюдая перед собой обеспокоенного командира. За окнами темень, в его руке подсвечник с горящей свечой. Никакой тревоги али суматохи, слышится чужой храп — сослуживцы спят в своих постелях преспокойной. Уставляется непонимающе на Дмитрия Яковлевича, точно обиженный ребёнок, с которым поступили совершенно нечестно. — Поднимайся, приказ пришёл, надобно выполнять немедля. Отсылают тебя, родненький. Отсылают, — горестно причитает командир, питающий к Волконскому истинно отцовские чувства.
— Как? Как это отсылают? — ещё больше недоумения в глазах и сиплом голосе. Сердце заколотится быстро и тревожно. Говаривали, чуть ли не увещевали, мол гвардейцев оставят в столице, дабы охранять новоиспечённого государя. Впрочем, люди наивные, ведь гвардейцы первые, кто олицетворяют для новой власти опасность. Быть может, образумились и теперь станут переводить полки, разгонять по углам.
— Вот так, голубчик, вот так. Самым несправедливым образом. В указе говорится, что армию сейчас собирают в поход на Крым и ты в списках, будь они неладны. Никого из нашего полка кроме тебя не выбрали. Может, ошибка какая? — он подносит свечу к листу бумаги, в очередной раз перечитывая, шевеля одними губами. Кирилла вдруг осеняет. Один из всего полка. Один. Не иначе как желают подстроить убийство. Сложил голову на войне, — дело обычное, никто обвинять не станет. Настал час расплаты за объятья на набережной.
— Нет, не ошибка, — твёрдо произносит и через секунду горько усмехается. — Это не ошибка. Я этого ждал, — натягивает спешно сапоги и поднимается, заглядывая в глаза обеспокоенные. — Не волнуйтесь, в этом вашей вины нет. Только моя. Когда отправляться?
— Ах, Кирюша! Что же ты натворил? Так, снаружи тебя уже ожидают господа. Говорят, сопровождать будут, — растерянным выглядит командир, да взгляды рассеянные бросает в окна.
— Точно, как на плаху, — шепчет Кирилл, едва удерживаясь от горько-презрительного смеха. Большего унижения быть не могло. Сопровождение на войну, словно по пути он бы сбежал, не иначе как в покои цесаревны.
А впрочем, Волконские живучи. На войнах они предпочитают победу, а не верную смерть.
Кирилл успел захватить с собой одну только книгу, подгоняемый неожиданным конвоем. Они выдвинулись в дорогу глубокой ночью и любые расспросы о том, куда путь держат, завершались то молчанием, то чужими ухмылками, то издевательскими шутками. Порою ему казалось, что вовсе заведут в лес и горло перережут, так и не дотерпев до войны. Вероятно, Василий Борисович не столь смелым оказался. Никто горло резать не стал. Их было двое: офицеры Семёновского полка с мерзкими улыбками, словно ждали сей расплаты не один год. Чем только Кирилл заслужил? То ли близкими отношениями с императором, то ли принадлежностью к иному полку. Никакого превосходства над ним офицеры не должны испытывать, однако же, испытывали, словно их наделили особыми полномочиями. Вскоре Кириллу собственное положение стало безразличным, потому что озарило тёмной ум ярким лучом. Ужас явился во всей красе, пуская дрожь по телу. Не попрощался. Не попрощался, ведь! Она подумает, что снова бросил, снова слово своё не сдержал. В тот миг ничего ужаснее не могло представиться, даже собственная смерть в какой-то лесной канаве. На первом же постоялом дворе Кирилл бросился искать письменные принадлежности, хватая за грудки любого, кто попадался на глаза. Благо, потрёпанный лист бумаги и капля чернил нашлись у трактирщика. Ночевать на постоялом дворе они не собирались, только остановиться чтобы горло смочить, передохнуть дать коням да отправиться в дальнейший путь. Кирилл спиной чувствовал, сидя за столом, прожигающие зловещие взгляды, однако в большей степени был сосредоточен на письме. Он должен был его отправить любой ценой. Сочинял и писал в спешке, зная, что времени остаётся всё меньше. Почерк совсем поплыл, накренился, будто выводил буквы на ходу. Довелось отдать последние деньги несговорчивому трактирщику, который даром никакие письма отправлять не желал. Тогда господа офицеры силой Кирилла начали оттаскивать к выходу, и наконец, мужик согласился, разумеется, выхватив из руки мешочек с монетами. Однако, выдохнуть Кирилл не мог до того мига, как получил ответ.
Весна 1727
Апрель. Война с османцами была возобновлена хотя бы по той простой причине, что варвары продолжали терзать русские земли, невзирая на трагичные события внутри державы. Напротив, они извлекли исключительно пользу из смерти российского императора, так как располагали свободным временем продумывать военные стратегии (ежели бесчинство можно называть стратегией) и оснащать армию как оружием, так и продовольствием. Быть может, из какой-то боязни гнева Аллаха, не иначе, они прекратили набеги и посягательства, пока не поступили вести о том, что выбран новый монарх и столица преждевременно отходит от траура. Тогда султан Махмуд решил преподнести подарок на воцарение императора Василия Федоровича. Подарок сей вынудил Россию собирать армию заново, учитывая оплошности прошлого, неудавшегося похода. Холода отступили. Впереди южная весна, которая должна способствовать беспрепятственному продвижению армии по Днепру в сторону Крыма. Кирилла доставили в лагерь, где собиралось основное войско для похода, в ожидании генерала-фельдмаршала из Польши. Ожидали фельдмаршала, а прискакал посыльный из Петербурга с несколькими письмами. «Волконский!» — раздался визжащий голос молодого посыльного, и Волконский едва поверил в то, что услыхал свою фамилию.
Надо отметить, дух армейский прискорбно упал. Какой-то чужак станет управлять армией, благо что не француз, — ходят слухи, царская фамилия с ними сблизилась. Последний горький опыт похода неразрывно связан со смертью всеми любимого императора, и теперь солдаты попросту не ведают чего ждать от будущего. Длительное ожидание подле малороссийского села также не действовало благотворно. Ожидать чего? Каждый коротал дни как мог: кто похаживал в село да развлекался на сеновалах с украинками, кто сидел в лагере и палил костры; сочиняли стихи, играли в карты, спорили и даже дуэли учиняли. Кирилл томился в ожидании, гадая дошло иль нет его несчастное письмо. Быть может, трактирщик оказался подлым человеком: деньги взял, а обещанное не исполнил. Тогда он непременно найдёт этого трактирщика и своими руками придушит. И вот, слоняясь по лагерю в оранжевых закатных лучах, Кирилл слышит свою фамилию. Через секунду бежит к посыльному, выхватывает письмо и жадно впивается в строку, где указано имя адресанта. Сердце радостно колотится, на лице улыбка широкая и глупая, заставляющая сделать вывод что умом тронулся. Посыльный качает головой и от греха подальше уходит.
— Дошло... таки дошло, — шепчет Кирилл, задыхаясь от счастья. — Дошло! — прокричит громко, заставляя солдат лениво отвлечься от самых разных дел. Плевать ему хотелось на всех! Бежит в палатку полковника, намереваясь раздобыть бумагу и чернил. Благо полковник оказался сговорчивым и милостивым, дабы солдатский дух окончательно не угас, старается выполнять всяческие просьбы. Кирилл то ли пляшет, то ли бегает из стороны в сторону, — не разберёшь, однако таким образом доплясывает до деревянного стола и скамьи, за которым иногда обедали, а иногда рассматривали карты. Стол пожаловали селяне из Царичанки, добрые и задушевные люди, встретившие армию как своих защитников. Иначе быть не могло после страшных историй, леденящих кровь, о набегах османских конниц. Кирилл ещё письмо не прочёл, однако собственное готов сочинять. Конверт раскрывает торопливо и принимается читать с особой нежностью в глазах.
— Вот же чёрт, — шипит гневно, поджимает губы, упираясь в строки, описывающие кардинальные перемены в столице; а перемены в столице неизбежно повлекут за собой перемены во всей стране. Чертом называет императора, разумеется. Истинный чёрт. — Ах, Елизавета Петровна, что вы делаете с моим сердцем, — взгляд торопливо бежит вниз, по строкам, из желания узнать всё, что она пишет. Будь его воля, он бы никогда с ней не прощался. Он и сам прощания отныне на дух не переносит. — Что?... Что? Господи Боже, господи... — то и дело вырываются недоумённые, злостные комментарии. — Что же он творит?
— Кто? — неожиданно раздаётся чей-то голос. Подвыпивший солдат подсел на лавку с противоположной стороны стола, заприметив любопытную картину: сам с собой беседы ведёт поручик. Быть может, будет ему собутыльником.
— Не твоё дело! — огрызается Кирилл. — Иди отсюда, пока полковник не узнал о твоих похождениях. Водкой так и разит, — стреляет гневным взглядом, предупреждающим. Солдат пожимает плечами и бредёт куда глаза глядят. — Хорош император, нечего сказать, — откладывает письмо, впадая в глубокую задумчивость. А впрочем, есть ли толк от глубоких измышлений? Ему бы назад воротиться, что совершенно невозможно. Поразмыслив над тяжкой судьбой своей, наконец берётся за перо и выводит строку адресата на конверте. Часы идут, тянутся, а Волконский всё сидит за столом, отгоняет солдат точно мух, и пишет письмо. Дописывает под светом раздобытых свеч, желая письмо сие как можно скорее отправить. Явится фельдмаршал из Польши и закончится мирное время, когда под тёплым, уходящим солнцем можно водить пером над бумагой. Хрущи над головой гудят весьма поэтично. А на следующий день армия выдвинулась штурмовать Перекопскую крепость.
Май. Наступил тёплый весенний день, когда авангард русской армии приблизился к вратам Ор-Капу, иными словами вратам в ханскую орду. Подоспел и решающий миг: возьмут на сей раз крепость иль нет, после многочисленных бесплодных попыток. Все степи Причерноморья усеяны русскими костями. Откроют ли дорогу в Крымское ханство иль потерпят позорное поражение, вынужденные воротиться обратно с дурными вестями. Сердце болело за войско, изнеможённое под палящим солнцем. Юг оказался не столь приветливым, распахивая пред ними бесконечные выжженые степи, точно пустыни. Болело оно и за вымученных, загнанных коней, валящихся на сухую землю, — они вытягивали шеи и жалобно стонали, прося воды. А воды-то не доставало людям, чего уж говорить за скот, вынужденный тащить тяжёлое орудие, повозки и экипажи. Однако, сквозь вязкий, разгорячённый воздух, они дошли до Перекопа.
Реакция неприятеля оказалась незамедлительной. Немедленно была отправлена крымская конница навстречу русской армии. Встреча оказалась вовсе не тёплой, скорее горячей и пыльной, — бой начался в закатных лучах солнца и густых клубах дыма. Кирилл отчего-то не удивился, когда был отправлен одним из первых с небольшим отрядом солдат, отражать атаку. Наверняка кому-то нашептали Волконского не щадить и на передовую смело отправлять. Быть может, шептали не даром, так как атака была успешно отбита. Конница разгромлена. Несколько часов Кирилл бродил с факелом в руке меж телами татар, разбросанных по выжженому полю. Отражение атаки означало лишь то, что теперь авангард готовится к штурму крепости.
— Если мне суждено погибнуть, передай Елизавете, что я её любил, — опускает руку на плечо Володи, произнося слова со всей серьёзностью.
— Сам передашь, — недовольно бурчит Володя, стряхивая с плеча дружескую руку.
Ещё затемно полки начали строиться шеренгами, готовясь к нещадному наступлению. В мрачном молчании рядами уходили солдаты, неся над собой частоколы ружей. Обозы свезли в центр лагеря, там же оставили и лошадей, которых в бой брать всё равно что вести на смерть верную и бессмысленную. Штурм предполагался сугубо пеший из-за простиравшегося вала от Чёрного моря до озера Сиваш. Когда только забрезжил за холмами рассвет, меж строями появились священники, обрызгивая святой водой. А следовательно, до выступления оставались считанные часы, ежели не минуты. Просочился кровавый и нерадостный рассвет из-за моря, заливая светом войска, вышедшие на линию боя.
— Ну что, и теперь не передашь? — упрямствует Волконский, глядя сурово на фасы крепости вдалеке. — У этих чертей сто восемьдесят пять пушек и гарнизон крепкий. Одна стрела в сердце, и ты мёртв.
— Любишь же ты болтать, Волконский, — всё ещё ворчит Володя недовольный.
Так и не успеет ничего пообещать, зазвучит приказ: к бою!
Повсюду пылали костры, вздымающиеся к небесам, — янычары нещадно жгли на каланчах и бросали факела на сухостои, дабы предотвратить приближение русского войска. Однако, вовсе не костры являлись главной преградой, а ров, от глубины и крутости которого кружилась голова. Стоило солдатам кинуться в пропасть, как за ними летели стрелы горящие, рогатины и пики. Недооценивали варвары находчивый русский народ; оружие янычар обратилось против них же, когда с помощью него наспех мастерились штурмовые лестницы. Карабкались по стенам крепости что есть мочи. Многие были убиты, сброшены со стен, однако и многим удалось от стрел увернуться. Кирилл не получил стрелы в сердце. Больно живуч и везуч. Одним из первых взобрался и начал бойню перед дверьми, ведущими внутрь башни. А башен таковых надобно было отвоевать несколько. Вскоре подоспела подмога, иначе ему было не сдюжить. Рубили двери топорами, бились врукопашную, багинетами и ятаганами. Остатки гарнизона, какие вознамерились оказывать сопротивление, были разгромлены в течение одного часа. Ворота Ор-Капу медленно разверзлись, и в них, паля из мушкетов, хлынуло воинство российское. Кирилл долго отдышаться не мог, отплёвываясь от дыма, осевшего где-то глубоко в горле. Его мало интересовали дальнейшие события, когда турков взяли в плен, и самого пашу, который обещал прекратить войну с Россией, — глупое обещание. Где-то раздавались радостные вопли солдатские: нашлись украденные пушки и прочие скарбы; украденные ещё в первом походе, который вспоминать больно. Больно было и тогда, от дыма, заполнившего лёгкие, от усталости, ломящей кости. Кирилл просто сидел на крыше одной из сторожевых башен и наблюдал за тем, как мирно клонится солнце к земле, впитывающей кровь и пепел. Получила ли она письмо? Ответит ли? Большей награды за выигранный бой нежели посыльный с письмом, быть не могло. Но предстояло выиграть войну.
Крепит Отечества любовь сынов российских дух и руку.
Желает всяк пролить всю кровь, от грозного бодрится звуку.
Строки победной песни надоедливо звучат в голове на фоне звука гобоя. Кирилл бредёт по городу, измученный двумя боями кряду, ранним летним зноем и жаром кострищ. Русские солдаты растекались по узким канавам улиц Перекопа, удивляясь свинству, царящему в янычарской цитадели. Всюду грязь, кучи пороха, пушки с московскими гербами от былых походов. Русский солдат тащит по сухой земле, которая в общем-то не земля, а глина, брыкающегося мальчишку лет пяти. Бог знает куда тащит; от опьянения победой солдаты порешали, что могут совершать разного рода бесчинства. Жители Перекопа таращатся на русских широко распахнутыми, испуганными глазами. Поубивают ли их теперь? Иль погонят стадом в далёкую и холодную страну? Кирилл отчаянно качает головой и становится на пути у солдата.
— Что ты творишь, бестолочь? Он же дитя ещё, ты посмотри, — кивает на мальчишку, щёки которого влажные от слёз и грязные от влаги. — Уйди с глаз моих, умоляю, — обращается к солдату и тот отчего-то слушается, отпускает мальчика и отплевавшись, уходит в сторону веселящихся вояк. Таковых Кирилл на дух не переносит. Война не окончена, а они распивают крымское винище. Одно радует: не вся русская армия прогнила. Подле него много достойных людей, которых видеть в столице не желают, вот и отправили на гибель. А чёрная овца в каждом стаде найдётся. Кирилл подхватывает на руки ребёнка, утирая слёзы с грязных щёк.
— Ну не плачь, не надо. Мужчинам плакать не пристало, — будто мальчик понимает русский язык, в самом деле. — Я бы тоже сейчас расплакался и посмотрел бы, как тебе сие понравится. Такие вещи на любом языке нужно понимать, — удаётся разве что привлечь внимание; и вот, большие, чёрные глаза, точно спелые черешни, разглядывают его испачканное в пепле и саже лицо. — Покажешь мне свой город, а? — улыбается ребёнку из последних сил и случается чудо — тот улыбается в ответ. Оказавшись на земле, охотно хватает маленькой ручонкой руку Кирилла и уводит куда-то вглубь города. Доброта порою, али всегда, окупается.
Во дворике каменном был колодец, сосредоточивший в себе весь смысл жизни на какое-то время. Женщина, расправляющая выстиранное бельё на верёвках, глядит с недоверием. Иначе быть не могло, ежели твоё дитя привело в дом недруга, врага, варвара из заснеженных земель. Впрочем, русские мирное население не тронули значительно, сосредоточившись на военных и паше, которого предстояло обменять на пленных русских купцов. На вопросы Кирилла она промолчала и скрылась в каменном доме, вероятно тем самым, позволяя воспользоваться колодцем. Понять не трудно, что этим русским нынче вода нужна как воздух. Смыв с тела и лица осадок битвы, Кирилл падает обессиленно подле колодца, спиной прижимаясь к его прохладной стенке и закрывает глаза. Несколько минут погодя ручонка трогает за плечо, заставляя выплыть из полудрёмы. Протягивает письмо. Он не сразу замечает императорскую печать, а когда замечает, улыбается устало, но широко. В стороне замечает удаляющуюся фигуру Володи. На глазах у мальчишки распечатывает и принимается сразу читать, не имея сил ждать.
— Пишет, что корабли хотят распродать, — улыбка постепенно затухает, а пробивается сиплый от дыма и усталости голос. — Во флоте не видят смысла... черти, — зло шепчет, вызывая только больше любопытства у смуглого мальчонки. Он осторожно заглядывает в раскрытое письмо, находя в нём всего лишь красивые, изящные волны, завитки, причудливые линии — почерк русского человек загадочен и непостижим. — И звезду продали французам... лукавит Елизавета Петровна. Это очень важно, — нахмуриваются брови сами по себе по мере того, как дочитывает письмо. Отрывает взгляд от дорогих сердцу строк и тот вспархивает в янтарные небеса; солнце, уходящее точно расплавленный шар золота. Сердце от боли сжимается. — Я так сильно тоскую по ней, — произносит горько. Она пишет, что чувство её тоски не описать. Она многое пишет, а ему хочется нестерпимо очутиться рядом. Через несколько мгновений происходит точно чудо: детские цепкие ручонки обхватывают за шею и притягивают в доверчивые объятья. — А ты сообразительный, признавайся, не шпион случаем? — снова улыбается, потому что иначе нельзя, когда тебя утешает ребёнок.
Ответ будет писан следующим утром в разбитом армейском лагере.
Поделиться172024-05-20 21:27:16
Лето 1727
Июль-Август. Взбешённый крымский хан Каплан Герай не стал отпускать пленных, а вместо того бросил навстречу близящемуся русскому войску несколько конных отрядов. Их задачей являлось не столько разгромить полки неприятелей, сколько обеспечить невозможное существование в пустынном, степном краю. Агония перед смертью, — в чём был убеждён фельдмаршал, приказывая армии идти вперёд не останавливаясь. Жара стояла невыносимая. Воздух был раскалён точно в кузнице. Дышать было нечем. Каждая замаячившая деревня вдали была надеждой на спасение, однако, чем ближе они подходили, тем яснее ощущали запах гари. Дымились сгоревшие дома, повсюду были разбросаны обломки, всяческий тлеющий мусор. Колодцы засыпаны то глиняным грунтом, то разнообразным хламом. Некоторые из них стояли с отравленной водой, что выяснилось после жуткой смерти нескольких солдат. Стало ясно лишь то, что воды им не видать до ханской столицы. Жалкие остатки растягивали как могли. Не радостнее было с продовольствием и фуражом: всё уничтожено, выжжено. Не единожды они набредали на разбитые отряды фуражиров: всюду трупы, порою обгорелые. Жестокость татар будила в фельдмаршале дикого зверя, приказы которого становились всё более яростными с каждым днём. Существовать за счёт разграбленных мирных поселений татар не позволил сам Бог. Отчасти тому Кирилл радовался, потому что мирные были уведены и тем самым избежали расправ со стороны русских. Едва верилось в то, что моральные устои окажутся сильнее диких инстинктов.
9 июля
Звёзды сияют на тёмно-синем полотне высоко и остро. На пустынную землю снизошла ночная прохлада, остужающая разгорячённые тела. Кирилл осторожно ступает по рассыпчатому скальному грунту, какой стоит только дунуть ветру, и поднимется в воздухе удушающими облаками. Раздаётся хруст переломленной сапогом ветки — он резко оборачивается, стреляя уничтожающим взглядом в нерасторопного солдата. Звание офицера ему вовсе не в радость, тем только охотно пользуются вышестоящие; офицер, так будь добр, снаряжай отряд и вперёд. Впрочем, генерал самолично отрядил несколько, как ему казалось, смышлёных и поставил во главе Кирилла. Перекрестил и отправил в разведку. Один из пятёрки Кириллу наиболее по душе не приходится. Сеет в рядах воюющих дурные настроения. Поговаривают, Елисеев побывал в татарском плену и был чудом обменян. О том, как коротал дни в неприятельском заточении, упрямо умалчивал. Взгляд недобрый, — вот и всё, что может сообщить Кирилл, однако предчувствие нехорошее мерзко копошится в душе. Выждав несколько минут наступления тишины, он взмахивает рукой, давая сигнал к дальнейшему передвижению. Разведка в степном краю порою совершенно бессмысленна: ни единого куста иль дерева, за которыми можно притаиться. Постепенно они передвигаются к обрыву, чудом поросшему колючим можжевельником, ракитником и каким-то выжженным солнцем бурьяном. Кирилл сперва смахивает на разыгравшееся воображение мелькнувшее пламя вдали, но вскоре сквозь ночные звуки крымских скалистых местностей, пробиваются далёкие людские голоса. Раздвигает руками колючие, цепкие кусты, давно не желая порядком изодранного и потрёпанного мундира. Картина раскрывается поистине ужасающая. В ущелье не иначе как лагерь татарской конницы, совсем близкий к лагерю русскому. Стоят шатры, горят костры, пасутся на сухой траве смолистой масти боевые кони. Слышится звонкий лязг начищаемого оружия. Кирилл требовательно протягивает руку, в которую вкладывают подзорную трубу.
— Что же господа, не окажись мы здесь сегодня, оказались бы завтра мертвецами, — делает заключение тихим голосом. — Не иначе как собирались наш лагерь разгромить, но мы должны быть быстрее.
— Так чего ждать? Ежели прямо сейчас... — возникает Елисеев, норовя из кустов в обрыв выпрыгнуть. Кирилл рукой останавливает. Быть может, тот прыгать и не собирался, но порыв несколько насторожил. Отчего только столь горячее желание оказаться в неравном бою?
— Не сметь. Солнце в голову тебе напекло? Немедля возвращаемся обратно. И чтоб тихо, все уразумели? Выполнять, живо, — процедит сквозь стиснутые зубы.
По возвращению в лагерь Кирилл сообщил о том, что, по его мнению, следует выступать немедленно. «Татары готовятся напасть на наш лагерь, так нам надобно идти на опережение», — доказывал он генералу в присутствии Елисеева и других разведчиков. Генерал какое-то время упрямствовал и был вынужден сдаться. Впрочем, была ли разница, чей лагерь громить? Быть может, и была. Остатки продовольствия в целости останутся, как и лошади. Нынче подвернулась возможность хорошенько янычар напугать. Русские не столь слепы, как те полагают, разбив лагерь в десятке вёрст.
Кирилл выходит из генеральской палатки с тревожным чувством. Все разбредаются дабы готовиться к битве, благо что ночью во время прохлады. Что-то мелькнёт в темноте, кусты зашевелятся. Не иначе как человек провалился в темноту. Недолго раздумывая, Кирилл проваливается в ту же темноту; раздаётся лошадиное ржание и стук копыт о сухую землю. Не задаваясь вопросами и действуя сугубо инстинктивно, он взбирается на первую попавшуюся лошадь и мчит следом за человеком, решившим совершить ночной вояж. Степь заливает лунный свет. Спустя недолгую погоню преследуемый останавливает своего коня, заставляет развернуться и лицо его хорошо просматривается в свете луны. Кирилл не удивляется. Елисеев. Оба спрыгивают на землю, осознающие то, что от предстоящего боя зависит дальнейший ход войны.
Кирилл переворачивает ещё не бездыханное тело на спину и обшаривает судорожно карманы мундира солдатского, убеждённый в том, что они таят в себе ответы на многие вопросы. Видно, за год в янычарском заточении Елисеев времени не терял и подучил язык вражеский, чтобы в последствии депеши сочинять и получать. Лицо избитое пылает, раны саднят, а над головой полная луна затмевает звёзды. Он поднимает взгляд к небу уставший и безразличный.
И тело, и найденные письма Волконский воротил в лагерь, бросив на генеральский суд. Дела ему не было более до этого продажного человека. Шпионами находились люди разные, генералы и офицеры, да только иностранные; впервые он наблюдает, чтоб русский человек продался крымскому хану, докладывая о каждом шаге русской армии. Впрочем, в ту ночь янычары лишились как своего агента, так и конницы. Лагерь был разгромлён и преград на пути к столице крымской более не возникало.
~~~
Русским войском захвачен порт Кезлев обманным путём, без боя. Раздобыв немало запасов продовольствия и прочих полезных припасов, солдаты город сожгли. Позади стояло громадное серое облако, объявшее некогда мирное поселение. Пахло снова гарью и разливался нестерпимый жар, вынудивший мундир скинуть до белой рубахи. Затем пред ними предстал во всей красе Бахчисарай, окружённый горами-защитницами; да только защитницы из них никудышние, потому что через несколько часов русское негодование обрушилось выжигающей лавой вулкана, стекающей по склонам в сердце города. Бой длился долго и тяжело. Кириллу казалось, что в этом бою и поляжет. Более не было сил отражать удары таких же разгневанных янычар. Столицу с её дворцом взяли под вечер. Несколько дней он находился в оцепенении. А потом вспыхнула внезапно эпидемия, подбиравшаяся столь незаметно и тихо, что произвела эффект взорвавшейся мины.
— Поручик Преображенского полка, Волконский? — раздаётся чей-то осторожный голос за спиной, словно боящийся потревожить. Кирилл оборачивается и встречается с лицом незнакомым, однако чистым, светлым, не тронутым ни южным солнцем, ни постоянным задымлением. — Вам письмо и посылка из Петербурга, — улыбается посыльный, будто пытаясь подбодрить изнеможденного солдата. Кирилл чуть ли не со слезами на глазах принимает пакет и кивает головой, не в силах даже слова произнести.
Находится в городе не представляется возможным хотя бы потому, что ошалевший фельдмаршал велел сжечь его дотла. Некоторые нашли удовольствие в том, чтоб развлекаться на пепле и костях, посреди трупов и ручьёв кровавых. Волконский же предпочёл разбитый в нескольких вёрстах лагерь, где остались ещё трезво мыслящие, не ослеплённые яростью солдаты. Неподалёку шумели морские волны, одаривающие свежестью, прохладой и запахом, напоминающим запах д о м а. Он падает обессиленно под первой попавшейся маслиной, бросающей тень. Раскрывает на ладони бережно платок и находит в нём живую розу, нежную и трепетную как сама его любовь. Аромат её сладкий уносит в те мгновенья, когда никто помыслить не мог, какие испытания пошлёт судьба. Кирилл слабо улыбается и подносит розу к губам, вдыхая глубоко аромат. Позже примется читать письмо.
Она пишет о победе, а достойна ли такая победа радости? Она пишет о дурном окружении государя, что вовсе не удивляет, потому что сам государь дурной. У него не остаётся сил даже злиться, негодовать, хотя события описываются в письме достойные праведного гнева. Однако, ничто иное как упоминания о приглашениях и требованиях в опочивальню, всерьёз его раззадоривает. На фоне этих строк меркнет всё остальное, — к чёрту дурное влияние, пьянство и отсутствие справедливого суда. Она — единственное, что терзает сердце нещадно. Всматривается в зачёркнутые строки до боли в глазах и сердце. Всматривается отчаянно, пытаясь разгадать что за тайну она не доверила даже ему. Смысл остаётся скрытым, быть может, на его же благо. Иначе послал бы к чёрту и войну с турками. Прикладывает письмо к сердцу и поднимает глаза к безмятежному небу. Зло берёт, отчего оно столь безмятежно, когда страдают людские души?
Ранним утром отправились на дотлевающее поле боя. Повсюду мертвецы. Повсюду убитые. Густой пар вздымается от земли. В голове звучит её голос: успокаивает, усмиряет злобу и ненависть, остужает разгорячённую душу. Множество лиц знакомых застыли безжизненными масками. Не повод ли броситься в пламя ярости? Он прикидывает, сколько писем разослать доведётся с соболезнованиями, которые будут пустым звуком; сколько скорбных вестей разнесётся по России. Тела надобно опознать, собрать, привезти в лагерь. Он то помогает лекарям, то собирает различные вещицы, которые следует вместе с письмами отослать: часы, вышитые платки, треуголки, крохотные портреты в медальонах, даже табакерки. Каждый нёс под сердцем в бой предмет, напоминающий о доме. А после уходит к берегу моря и сидя на камнях, берётся письмо сочинять. Всё, что было, исчезает из памяти на счастливые часы.
Осень 1727
Изнурение войска в следствии эпидемии вынудило покинуть ханскую столицу. Грабежи встречных селений продолжались, так как армию следовало содержать. Письмо его нашло ещё на выезде из Бахчисарая, когда узнал лицо посыльного в одном из придорожных трактиров. Иначе бы оно ушло и ушло бы безвозвратно. Однако, не успев начать писать ответ, Кирилл вдруг получил известие о своём переводе. Его полк воротился в Перекоп, а самому предстояло добрую половину месяца мчать в сторону Азова. Снова почудился шёпот, переданный через письмо с императорской печатью. Словно бы вести о том, что Волконский жив до сих пор, расстроили императора. Стало ясно: никаких боёв в ближайшее время не планируется подле крымской земли. Сие невозможно было по многим причинам, потому войска затаились в ожидании развязки. Однако, активные действия предвещались под Азовом, который надобно было осадить. Пятнадцать дней вдали от ужасов войны несколько восстановили утерянное душевное равновесие и спокойствие. А потом началась долгая осада азовской крепости. Кирилл был ранен в ночь штурма. Храбрился и дрался до последнего, пока не лишился чувств.
Зима 1727–28
— Знаете, она особенная, — произносит сквозь мечтательную улыбку, глядя на качающиеся голые ветки за окном. — Так странно, ей всё хочется звать меня на «ты», отчего же? — переводит взволнованный взгляд на Прасковью Богдановну, то ли засыпающую, то ли не проснувшуюся до сих пор. Монахини и диаконисы мужественно несут свою службу, разбредаясь по лазаретам и госпиталям, в стремлении милосердном заботиться о раненных защитниках. Порою заботою не иначе как пользуются. Кириллу вовсе не стыдно, у него туман в голове и ветки качаются гипнотизирующе. Ветер завыл и спугнул сон ранним утром и надо же было очутиться монахине поблизости, да расспросить на едва понятном языке, надобна ли ему помощь. Иначе невозможно, когда глядишь на него. Лицо бледное, исхудавшее, испещрённое царапинами и ссадинами, губы бескровные потрескались, а под глазами впадины тёмные, пугающие. На мертвеца похож, только мертвецы не болтливы. А этот болтлив, да только она понимает через слово, непривыкшая к чистой русской речи.
— Она мои письма хранит под подушкой, вы понимаете? Всё спрашивает... где я... когда вернусь... а мне кажется, будто уже не вернусь... — голос глохнет, он впивается в окно взглядом почти диким, будто готовый через это окно сбежать. Она только на стуле поёрзает, складывая руки на коленях, поверх чёрного наряда. — Мне кажется... мне кажется, — хрипы рвутся из груди, и он заходится в кашле, — что-то недоброе происходит. А вы порчу наводить не умеете? — переводит пытливый взгляд на её невозмутимое лицо. Она мигом перекрестится и поплюется в сторону чтобы наверняка. — Прискорбно... тогда у Бога попросите, чтобы... чтобы сделал что-нибудь, — опирается спиной о поднятые подушки и голову откидывает, закрывая глаза. — Ежели я здесь умру... что с ней будет? Этот чёрт её изведёт... мне нельзя умирать, нельзя, — словно умоляет кого-то невидимого слёзно, быть может Бога, о том, чтоб не умирать. Мотает головой, зажмуриваясь. Прасковья Богдановна обеспокоенно глядит: только бы не помер взаправду. У него то ли бред, то ли агония. Озирается в поисках лекаря. Остальные раненные постояльцы мирно спят в своих постелях. — Она про осень пишет... и где же осень? Уже зима... зима? Про него пишет... а его нет... давно нет. За что нам это всё, Прасковья Богдановна? — дыхание нещадно сбивается.
— Ви бредите любий мій хлопчику, — заговаривает с ним, вспоминая одно русское слово, которое наверняка будет понятым; а голос тихий, мирный, льётся и успокаивает точно ребёнка захворавшего. Бережно опускает подушки и укладывает в постели, как мать любящая. Накрывает тёплым одеялом.
— Я не брежу, я влюблён, — тихо ответствует Кирилл, укладываясь на подушке и улыбаясь снова мечтательно. Веки тяжелеют и невольно опускаются. Становится темно и горячо. Она прикладывает ладонь ко лбу и обжигается — он весь горит.
— Лекарь, худо ему! Де же вы запропастились? Лекарь! — взволнованно-требовательно вскрикивает монахиня, более не боясь потревожить спящих солдат в общей зале.
Лекарь явится и сообщит, что бессилен. Уповать разве что на волю Господа. Впрочем, Волконские Господу симпатичны, посему и живучи. Он поправится и снова будет писать письмо в своей постели, отгоняя любопытных вояк как назойливых мух. Любопытно им, кому же со столь глупой и влюблённой улыбкой поручик Волконский письма сочиняет.
***
— А я говорю нет! Али командирское слово для тебя ничего не значит более? — ударяет кулаком по столу господин генерал-лейтенант Левашов. Его округлое полноватое лицо наливается багрянцем, что нисколько не взывает к стыду Волконского, вытянувшегося во весь высокий рост. Довести Левашова до бешенства не удавалось порою даже османцам. Волконский отличился и тем среди сослуживцев прославился. — Нет бумаги, нет! И чернил... — он потрясёт чернильницей над столом, — тоже нет! Чего ещё тебе надобно от меня? Душу мою хоть не изводи, раз бумагу всю извёл! — орёт генерал-лейтенант на весь кабинет уже безо всякого зазрения совести. Ежели его завести — не остановится. Терпи пока не остынет. До тех пор побег из кабинета возможным не представляется. Не надо было лезть. Тревожить Левашова нынче всё одно что тревожить спящего медведя. Да только, разве можно удержаться? Разве можно стерпеть, когда руки трясутся, а сердце неистово колотится? И причина тому вовсе не рана постепенно заживающая.
— Господин генерал-лейтенант, не верю. Быть такого не может, что ни единого листа не осталось. Дайте любой, хоть исписанный, хоть обрывок, но дайте! — упорствует Волконский, держась высокого, требовательного тона, лишь раззадоривающего куда более Левашова. Тот резко вскакивает со своего шатающегося стула и перекидывается через стол, опираясь ладонями о столешницу. Смотрит в глаза взглядом, готовым испепелить и тысячу, и десять тысяч неприятелей, а быть может, самого Волконского.
— Каков наглец, — шипит он, — депеши государю прикажешь на листах кленовых сочинять? А? — гаркает, ударяя ладонями по столу и от бессилия падает обратно на стул.
— Помилуйте, какие депеши? Война закончилась, пора всех по домам распускать! Отчего нас держат в этой дыре? — в сердцах и размахивая руками, зачинает Волконский второй акт представления. Лицо Левашова вспыхивает алым цветом с новой силой. Глаза его чёрные буквально впиваются в лицо, выражающее требование и откровенное непонимание. Кирилл взаправду не уразумеет, по каким причинам отвоевавших удерживают в самых разных углах юга. А впрочем, далеко не каждая война завершается немедленным празднованием победы со всеми, кто к тому причастен. Тем временем, генерал-лейтенант вскипает.
— Ты мне тут не указывай! Ишь ты, война у него закончилась! И без тебя знаю, что закончилась! Может, ещё страной управлять государя нашего научишь? Ишь разошёлся! В солдаты списать да отослать с глаз долой и не посмотрю, что герой! — расходится Левашов с новой силой, заставляя каждого, кто за дверью в коридоре притаился, и даже тех, кто в общих залах находится, вздрагивать да гадать, чем же столь сильный гнев вызван. Сдаётся Кириллу, дело вовсе не в его просьбе, которая медленно перетекла в упрямое требование. Левашов тоже домой хочет, письма от жены получает, а не пущают, изверги. Жена угрожает, мол к другому уйдёт. Кириллу задержка с ответом письменным тоже равна смерти. Он убеждён что умрёт, ежели не напишет ответ. А бумаги нет, хоть стреляйся. Точно умрёт. — Пошёл вон! — наконец-то генерал-лейтенант ставит точку в бесполезном пререкании, не оставляя Волконскому выбора. Он склоняет почтительно голову и молча выходит, натыкаясь на перепуганное лицо и вытаращенные глаза Краснощёкова. Щёки его точно красные, от сильного страху.
— Желаю удачи, мой друг, — произносит с небывалой мрачностью, опуская тяжёлую руку на худое плечо Краснощёкова. — А хотя, если ты за бумагой, лучше не стоит.
Среди остальных раненых, впрочем, не нашлось бумаги тоже. Разумеется, есть ли дело до бумаги человеку, который без руки иль ноги остался? Другой с простреленной головой, третий с дырой в животе, — не до бумаги и писем. Те, кто лёгкими ранениями отделался, подавно исписал всё, что можно было. Все тоскуют по дому. Всем есть кому писать, а ему особенно. Произошёл сей случай в богадельне близ крепости святой Анны, куда отошли войска, спешно перестроенной под лечебницу. Держать некоторых раненных в палатках в столь дурную погоду являлось смертоносной затеей. А посему, поместили их в тёплое помещение под крышу, где нашлись также кровати и предметы первой необходимости. Нищих довелось переселить и Бог знает куда. Порою они захаживают на обеды иль остаются ночевать на деревяных лавках. Мирный договор на самых невыгодных для Российской империи условиях был подписан. Однако же, дозимовать отвоевавшим доводится в белых стенах, дышащих холодом. Медленно истекает февраль, — дни его особенно тяжелы. Никаких новостей из внешнего мира, будто раненные переменились на заключённых. Ни шагу ступить за территорию лазарета не позволено. Меняется лишь выражение лица монахини, которая взялась за Кириллом присматривать. Рана вдоль рёбер заживает, затягивается. В отличие от некоторых он спешно поправляется и непременно вернётся домой. Монахиня, отрешённая от мирских сует, однажды подметила что кому-то воротиться вовсе не суждено. «А вы счастливый, и невеста ваша счастливая», — добавила она своим мягким, несколько отрешённым, успокаивающим голосом, делая перевязку. И то правда, один Бог ведает как она поняла. Быть может, прочла в его бегающих беспокойно глазах, в нетерпеливых жестах. Он всем своим существом стремиться вырваться, точно дикий зверь, к заточению не привыкший. Начинается март, и Кирилл бьётся головой то об стену, то об окно, жалобно глядя на неспешно пробуждающийся мир. Первое, что примечает — подснежники показались из-под островков снежных. А после произошло чудо, на какое никто из них не смел надеяться.
— Да вот же они, вот. Герои! — раздаётся голос Левашова. В зале, заставленном низкими кроватями, появляется сам генерал-лейтенант и собственной персоной, фельдмаршал. Ощущение, словно месяц длился один-единственный акт на сцене жизни, а тут вдруг наступил следующий, пробуждая небывалый интерес. Кирилл отвлекается от книги, которые слава Богу, не перевелись. Стоило нацарапать послание на книжных страницах иль полях, — не додумался. Левашов, сделавшийся франтом, широким жестом обводит зал, указывая на ряд кроватей под стенами и солдат. Кому-то повезло сидеть, подперев спину подушкой, а кому-то не повезло лежать. В иной раз Волконский ощутил бы толику значимости момента, проникся бы патриотическим духом, да только не теперь. Не теперь. Теперь он фельдмаршала и прочих сильных мира сего ненавидит полной душою.
— Что же, молодцы, молодцы, ребятушки, — фельдмаршал заводит руки за спину, горделиво оглядывая ещё совсем молодые лица. — Не сломались, выдержали. Война выдалась тяжёлой, — не торопится подходить к сути, а Волконский так и прожигает взглядом, готовый заявить, что сломался и не выдержал. Его довести до ненависти сумеет не каждый, однако же, высшим чинам сие удалось. Фельдмаршал снова обводит покровительственным взглядом уставившихся на него солдат. — Все, кто находится в этой зале, немедленно воротятся домой. Таков указ, ребятки. А также, некоторые из Вас будут награждены за проявленную доблесть. А именно, — он принимает из рук Левашова б у м а г у, — именным указом, наградить орденом святого Георгия Волконского Кирилла Андреевича... — далее следует черёд имён, а Кирилл застывает в ошеломлении, неверии и, пожалуй, ему хочется разве что лист чистый попросить как награду за проявленную доблесть. Он, разумеется, не ведает, как и другие помимо самого фельдмаршала, что из дворца поступила просьба на собственное усмотрение отметить, кто награды достоин и немедленного возвращения в столицу. Указ таков был вызван всяческими недовольствами, мол власть нынешняя служащих людей позабыла. И далее бесконечно можно продолжать перечень недовольств, как высших военных чинов, так и народа, который неизменно на стороне молодых солдат, за родину погибающих. — А также, повысить в звании до капитана, — заключает торжественно фельдмаршал, опуская взгляд на Волконского и не наблюдая каких-либо признаков должной радости. — Извольте, господин Волконский, этих жалований вам недостаточно?
Кирилл тяжело вздыхает, откладывает книгу. Больно внезапной оказалась церемония, а впрочем, торжественная часть лишь предстояла в столице. Не обрадуется Василий Борисович, когда узнает кого фельдмаршал вздумал отметить вниманием и почестями. Вытягивается во весь рост, становясь выше самого фельдмаршала.
— Никак нет, Ваше Высокопревосходительство. Служу отечеству, — произносит без особого энтузиазма, будто получает тысячное награждение орденом и успел от сего устать. — Мне бы и вызволения из этого заточения хватило, да листа бумаги, — переводит выразительный взгляд на Левашова. Фельдмаршал глухо хохочет, хлопая Кирилла по плечу и приговаривая «будет тебе, будет».
***
через мили и века вот тебе моя рука
ты зовешь меня
{ Григорий Лепс // Полетели }
На следующее утро Кирилл немедленно покинул «заточение», мчась верхом на Плутоне во весь опор. Путь предстоял дальний и долгий: от одного берега к другому. Он существовал лишь одной мыслью: она любит, любит, любит! Иногда казалось, точно задохнется от нетерпения её увидеть, от быстрой езды, от волнений. А ежели молчание сочтёт за грубость? За его отказ? Каждый день и каждую ночь он изводил себя тревогами, мыслями, догадками. Долгий, нескончаемый, мучительный март он возвращался в Петербург, едва живой.
— Боязно мне за тебя, — тихо проговаривает Володя, окидывая взглядом высокое ограждение. — А ежели поймают? Вот так и становятся герои мертвецами.
— Помолчи, прошу. Плутона в казармы верни, да проследи чтоб Федька о нём позаботился. Понял? На меня смотри, — встряхивает друга за плечи, глядя в глаза как никогда решительно. — Я сделаю это. Не обсуждается. Пусть на плаху пойду, но буду знать, что она меня любит. Остальное не важно. Ну-ка, подсоби, — произносит требовательным тоном, ухватываясь за металлические прутья. Не без помощи Володи перелезает через забор, удивительно удачно приземляясь. Володя качает головой, не верящий в такой же удачливый исход предприятия. Кирилл слишком долго ждал и терпел, чтобы с ним пререкаться, а посему махает рукой и скрывается в глубине темноты. Вдали светится пара окошек Зимнего дворца. Некоторые поразительные явления можно с лёгкостью смахнуть на затуманенный рассудок влюблённого: ему всерьёз послышался г о л о с, доносящийся с балкона на втором этаже. Ясное осознание того, что иного пути к ней не существует, подталкивает к отчаянным мерам. Встречи не назначишь, а ежели удастся — слишком долго ждать. Переступить порог никто не позволит. Черкнуть записку — снова ждать. А он ждать более не может. Слишком долго ждал, чтобы медлить, чтобы бежать обратно. Остаётся только карабкаться по стене, хватаясь за выступающие элементы фасада. Ему удаётся, как и любому отчаянному влюблённому, дотянуться до балкона. Дальше совсем легко: перелезть через парапет и путь открыт.
я тебя искал долго // падал столько раз больно
[тысячи дорог] только видит Бог
я у твоих ног сейчас
Кирилл осторожно раздвигает шторы, дабы убедиться в том, что слух не обманывает. Лишь судьба милостивая могла указать верный путь и нашептать сердцу, какое из окон-балконов выбрать. Теперь он точно оказывается в собственном сне, который не единожды видел. Прекрасный сон. Боязно спугнуть. Сердце бешено стучит. Задохнуться можно от любви переполняющей. Она в нескольких шагах. Она. Заплетает медные волосы тонкими, нежными пальцами перед зеркалом. Льётся нежная, ласковая песня, зачаровывающая мигом. Услышав голос, он понимает, что погибнет, ежели лишится её любви. Жить или погибать, — теперь решать только ей. Влекомый песней, переступает порог, потому что никак иначе нельзя. Глупо бежать от счастья, которое в двух шагах. Он и не смог бы. Подходит ближе осторожно, и фигура его появляется в отражении. Взгляды пересекаются на мгновенье. Он и не подумал, что подобное легко принять за видение. Прежде чем она вспорхнёт с кресла, Кирилл бросается перед к ней, опускаясь на колено, и её руки берёт в свои.
— Елизавета Петровна, прошу вас... — поднимает молящий взгляд. Молящий обо всём на свете. Слова разбегаются пугливо, однако же, говорить надобно. Прямо сейчас. Он и сам не верит глазам, не верит рукам, чувствующим тепло и нежность. Не верит, аж сердце болит. Вглядывается в её лицо, освещённое мягким, янтарным светом свечей. — Я знаю, что вломился к Вам самым неподобающим образом, но сейчас мне совершенно безразлично на все правила приличия. Я.. не верю в то, что говорю с вами и вижу вас, — признаётся, а взгляд продолжает бегать по её лицу, высматривать каждую черту, переменившуюся за целую вечность. — Не иначе как вечность мы с вами не виделись... — фразы бессвязные, слова едва подбираются в голове. Крепче сжимает её руки в своих. Более года, — это вечность, не иначе. — Выслушайте меня. Я должен это сказать, должен, иначе лучше было принять смерть верную в бою, — быть может, первая встреча влюблённых после долгой разлуки должна быть иной, однако у Кирилла привычно перевёрнутый мир. Броситься в объятья, не объяснившись ему честь не позволяет. А ежели она в обиде? Ежели видеть его не желает? Он всё ещё сходит с ума от роящихся вопросов; от отсутствия ответов.
— Два месяца... два бесконечных месяца я не находил себе места. Знали бы вы только, сколь мучительно было получить ваше письмо и не иметь возможности на него ответить. Мой поступок всё равно что поступок бесчестного человека, которого вы не заслуживаете, — качает головой, словно подтверждая тем самым, что не заслуживает. Голос выдаёт полноту тревоги, однако искренней, идущей от сердца. Иначе он не умеет. — Скажите, умоляю, ежели не можете меня видеть и мне следует уйти. Или простите. Я буду самым счастливым на свете человеком, получив ваше прощение, потому что... вы знаете, как я вас люблю? — пытливо всматривается в её глаза. — Я сам не знаю, право слово. Немыслимо описать это чувство. За сей год не было дня, чтобы я не любил вас, не думал о вас. Вы лишаете меня разума и заполняете все мысли, Елизавета Петровна. Я люблю вас безумно, и даже этого мало, чтобы описать чувства к вам, — голос стихает и превращается в молящий, горячий шёпот; целует тыльную сторону её ладони, задерживаясь на несколько секунд и глаза прикрывая. Её руки нежны и пахнут сладко. Руки, по которым истосковался до крайности.
— Вы бы знали, каким счастливым я стал в тот миг, когда его прочёл. Вы писали об огненной пропасти, и прямо сейчас я сам стою на её краю. Что может быть страшнее опоздания? — встречается взглядом с её красивыми, полными изумруда, перемешанного с медью, глазами. — Но вы не могли опоздать. Я и помыслить не могу о том, что однажды перестану любить вас. Это немыслимо, невозможно. Каждый день я думал над тем, что ответил бы. Однажды понял... бумага здесь бессильна. Моё сердце принадлежит вам навеки, как и я сам. Простите меня, — опускает покорно голову на её колени, раскаиваясь. Быть может, он и лукавит, лжёт, потому что едва ли сможет у й т и. Не сможет. Не теперь, когда разлука столь долгая осталась позади. Не теперь, когда вновь почувствовал нежность рук, услышал чарующий голос и растворился в зелёных глазах. Не теперь. Он вернулся чтобы забрать свою любовь; чтобы сделать душу её счастливой, которая ему отдана. Когда поднимает голову и вновь заглядывает в глаза любимые, осознаёт ясно что не уйдёт. Она не отпустит. Невольно тянется к её лицу, — притяжение взаимное; тянется к губам, — целует с осторожностью, мягко, бережно, словно боясь поторопиться. Руки перемещаются на талию и ладони чувствуют тепло, исходящее от тела сквозь тонкую ткань белоснежной сорочки. Недолгие, нежные поцелуи, следующие друг за другом беспрерывно, успокаивают сердце. Он улыбается легонько сквозь, поглядывая на неё. Ещё и ещё один мягкий поцелуй, — размаривает, погружает в состояние тихого, ласкового счастья.
— Лиза... — отрываясь от её губ, вновь шепчет нежно, — я не верю своему счастью, — улыбается, глядя на неё самыми преданными и влюблёнными глазами. Л и з а. Непривычно, отчего-то кажется неправильным. Лиза, Лиза, Лиза, — мысленно повторяет, привыкая. Новое обращение становится чем-то исключительно личным; то, что принадлежит ему и только. Лиза принадлежит ему и никому более. Никому не отдаст, ни с кем не станет делиться. Отныне и навеки его Лиза. Несколько минут тому она была Елизаветой Петровной, но теперь становится Лизой. Словно за несколько мгновений перешагнул немалое расстояние, последнее, что удерживало от полноты и выразительности испытываемых чувств. — Я не услышал начала песни, — чуть отстраняясь, прижимает её пальцы к своим губам, — спой ещё, — звучит почти умоляюще.
Нет музыки слаще, чем любимого голоса. Кирилл перемещается на другое кресло, делаясь зачарованным слушателем. Перед глазами стоит целый год разлуки, столь нелёгкий, что преследует до сих пор и будет преследовать в кошмарных сновидениях. Только голос чистый гонит прочь воспоминания. Дыхание само собой учащается от захватывающего осознания: свиделись, встретились, снова рядом, всё позади. А ведь не верилось, казалось, не будет конца душевным терзаниям. Он бы заслушивался её голосом без конца, вечно, с ещё большим упоением чем когда слушаешь пение птицы. Поддаваясь звучащей мелодии в голове, поднимается и увлекает её в танец, понятный лишь им двоим. Быть может, в этом танце перепутаны всевозможные фигуры, а быть может фигур в нём вовсе нет, только выдуманные, нашёптанные любовью на ходу плавные движения.
В его глазах вспыхивают лукавые искры вдруг, когда зарождается одно желание. Легко подхватывает её на руки и начинает кружить; смеётся негромко, счастливо. Настроение делается не иначе как игривым, озорным. Кружит по всей спальне, ловко обходя всяческую мебель, попадающуюся на пути. Кружит и умудряется пританцовывать в такт напеваемой музыке, которая, впрочем, вскоре сводится к незамысловатому «пам-пам-пам». Кружить на руках хочется от переполняющего счастья, от любви, которая точно солнечный свет в летнюю пору, — заливает теплом. Останавливается он неспешно, заглядываясь на её лицо и снова, снова отчаянно, безнадёжно пропадая в глазах. Смех, за ним и голос стихают. Наступает тишина. Сквозь струится потрескивание брёвен в камине, шелест листвы из распахнутых дверей на балкон, крик ночной птицы, шумно вспорхнувшей с ветки. Мир то кружился, вращался, а теперь замирает и сосредотачивается в её глазах, отражающих пламя. Он бы вечно ею любовался, держа в своих руках, которые никогда не устанут.
крепко обниму молча // связаны с тобой прочно
я лично за тебя жизнь свою готов отдать
— Пришло время доверить тебе свою жизнь, — произносит с нотами театральной эпичности в голосе, протягивая бритву. — Я уверен, ты справишься, — для пущей убедительности чуть брови нахмуривает. Момент романтичный и долгожданный, от которого сводило дыхание, был прерван любопытным образом. Он рассудил, что не может оставаться подле неё в неприглядном виде. Всё дело в том, что мчался Волконский безо всяких длительных остановок в Петербург. Промедление было и пыткой, и чем-то равным смерти. В голове билось, пульсировало только одно «надо»: вернуться к ней. Не успел ни мундир сменить (этот местами залатанный, зашитый заботливыми монахинями), ни отмыться от пороха тщательно, ни бороду проклятую сбрить. Лицо, загоревшее на южном солнце в достаточной мере, не успело побледнеть, и укрыть шрамы. Вовсе не тот Волконский явился к ней через окно. Отбывал из столицы он другим. Благо во дворце была вода, мыло и бритва, — стальной, чуть изогнутый станок с закреплённым на деревянной основе лезвием. Занятие впрямь животрепещущие и весьма неудобное чтобы справиться самому; в казармах они как-то приловчились друг друга брить, а после и самих себя в самых крайних случаях. Крем, используемый во время бритья, рецепт которого пришёл из Европы, пахнет древесиной дуба, грецким орехом и немного — французским белым вином. Примешивается запах воска и душистого мыла.
— Хуже, чем есть, точно не сделается. Только если не сбреете мне брови, ненароком, Елизавета Петровна, — лукаво улыбается, возвращаясь к прежнему официозному обращению скорее шутливо-игриво. Позволяет взобраться к себе на колени и руки опускает на талию, уверенно удерживая. Доверие выказанное символично, ведь любовь — это всегда передача в любимые руки сердца и всего существования. Вскидывает подбородок, настраиваясь на самое приятное времяпровождение, нисколько не боясь. Она не способна причинить ему какой-либо вред — в этом не сомневается. Не иначе как романтичное испытание чувств. Лезвие холодит кожу, чувствует его остроту, но вскоре отвлекается на её сосредоточенное лицо. Невыносимо близко — дыхания горячие сплетаются воедино. Момент делается сокровенным. Взгляд любовно изучает глаза, обрамлённые длинными, изящно выгнутыми ресницами, и губы пухлые, оттенка нежно-розового; родинки, особо милые сердцу, расположение которых заучивает наизусть. Влюбляется в каждую черточку её красивого, точно кукольного лица всё больше с каждой секундой. Господь Бог особенно потрудился, создавая само совершенство.
Кожа отзывается мелкой трепетной дрожью на прикосновения рук и хлопковой ткани. Его переполняет нежность. Нежность смешивается с зарождающимся огнём внутри. Бережно притягивает Лизу к себе и целует в губы на сей смелее. Поцелуи делаются долгими, говорящими, просящими. Кирилл ловит её взгляд своим, потемневшим, проникновенным. Слов вовсе не требуются. Безмолвно они желают одного и того же. Безмолвно, однако, громко, — и подобное бывает. Взгляды красноречивее любых речей. Чувства в них плещутся. Спустя длительную разлуку, спустя томительное ожидание признаний, осознаний. Ежели отдаваться, то полностью: и душа, и тело, и вся жизнь — всё отдаёт без остатка в её нежные, не дрогнувшие руки. Всё его существо трепещет от лёгкости, хрупкости и нежности, заключённых в собственных руках. От любви, которая распаляется лишь сильнее. От её красоты, пленяющей и лишающей рассудка. Пути обратного н е т. Вовсе не внезапным оказался сей миг долгожданный.
Ты моя целая Вселенная
самая бесконечная гордая и верная
ты моя
Он так легко поднимается со стула с ней на руках, и незаметно передвигается к кровати с балдахином, точно танцующи. Губы трогает совершенно особенная улыбка, быть может, благодарная за доверие в столь значительный для обоих миг. Бережно опускает Лизу на мягкие подушки, помогая выскользнуть из бархатного халата, расшитого золотистыми нитями. Им торопиться словно и некуда. Движения размеренные, осторожные, точно боятся спугнуть мгновенье, в которое быть может, и не верят до конца. Слишком многие и долгие дни провели порознь, чтобы торопиться. Ночь длинная. Ночь не должна была вовсе кончаться. Под волнами тонкой ткани изгибы её тела волнуют его, пробуждая желание ещё большее. Между поцелуями, становящимися лишь горячее, поддаётся её рукам, высвобождаясь из белой рубахи, — кожей чувствует тепло, дотягивающееся из камина. Ночи ранней весны холодные, да только тепло ещё немного и начнёт опалять. Тепло от близости. Где-то подле кровати и белоснежная сорочка тихо опускается, плавными волнами. После он едва ли станет звать по имени и отчеству. После. Словно сей момент необходим, чтобы окончательно уразуметь — она стала для него Л и з о й. Она становится для него всем, чем только можно дышать и существовать. Нежность в своей неспешности перетекает в страсть вспыхивающую точно пламя, нашедшее ещё нетронутое, сухое полено. Ярко, горячо, не остудит даже прорывающийся в комнату ветер. Взгляды порою пересекаются и его глаза неизменно полнятся лаской, осведомляются, не стоит ли ему остановиться. Получая безмолвные ответы-позволения, вновь касается нежно губами гладкой, холёной кожи. А после переплетаются тела разгорячённые. Ветер, словно подыгрывая, раззадоривается, — буянит, качая ветки деревьев и тяжёлые шторы; задувает свечи, одна, вторая, третья, — со скоростью нарастающей, вскоре погружая комнату в полутьму. Раз, два, три, — бьются ветки об окно в такт сердечному ритму, стремительному и извилистому. Сердце его стучит подле сердца её в унисон. Ветер бушует лишь сильнее, завывает, насвистывает неповторимые мелодии. Бьющиеся сердца — как музыкальный инструмент, дополняющий неистовую композицию. Как весенний ветер неумолим, неугомонный и неустанный, так и они в своей пылкой любви, оставленные и предоставленные друг другу в сближающей, покровительствующей темноте.
Первое что он слышит, пробуждаясь от блаженного забвения, — ритмичный бой часов. Стрелка указывает на глубокую ночь иль совсем раннее утро. Запевает звучно соловей. Поленья догорают в очаге — слабый янтарный свет дотекает до кровати, едва-едва освещая лица. Ветер притих, лишь легонько покачивает золотистые кисти стяжек спадающих до пола штор. Весь взмокший и счастливый устраивается на широкой подушке и заглядывается нежно на Лизу под боком.
— Моя цесаревна, — тихим голосом произносит удовлетворённо и лукаво улыбается. — Елизавета Петровна, — губы шире растягиваются, выдавая его плутоватый настрой, — Ли-и-за, — наконец растягивает с особым удовольствием, наклоняется к её лицу и оставляет на горячих, чуть припухших губах нежный поцелуй. — Я могу признать это своим ответом на твоё письмо? — явно намекая на всё то, что произошло с ними и от чего сердце до сих пор колотится, а по виску сбегает маленькая капелька пота. От хорошего расположения духа у него проявляется склонность играть, точно мальчишка. В конце концов поняв, что тусклого освещения от остатков пламени в очаге ему недостаточно, выпускает Лизу из объятий и разворачивается к прикроватной тумбе. На её лакированной поверхности стоит фарфоровый графин и пара свечей в медных подсвечниках. Зажигает свечи и поворачивается к ней, ещё более довольный.
— Так лучше видно твоё лицо, — улыбается всё ещё счастливо, теперь в более ярком свете разглядывая черты её естественно-румяного, сияющего личика. Поднимает спадающие на лицо волны непокорных медных волос и вдруг улыбка гаснет, уступая мрачной серьёзности. Замечает на лице странного рода пятна, красноватые и посиневшие — разные. Отчего только раньше не заметил, видимо слишком увлечённый иными видами. — Что это, Лиза? — сколько легко теперь произносить её имя. — Что это? — повторяет более настойчиво, невесомо касаясь с л е д о в чьих-то похабных, непростительных действий. Догадывается, впрочем, кто мог на сие осмелиться. — Он где-то здесь? — приподнимается весьма решительно, мрачнея пуще темени за окнами. В миг овладевает гнев, который терзал каждый раз, когда вычитывал строки писем, пытался распознать что именно она утаивает. Кто же мог подумать, что увлечённость выльется в одержимость. На мгновенье ему действительно наплевать, что будет ежели эту морду сыщет и хорошенько расквасит.
— Я не могу относиться к этому как к пустяковому делу, как бы старательно ты ни зачёркивала слова, — оправдывая свой порыв, возвращается в прежнее положение, а грудь так и вздымается от гнева и тяжёлого дыхания. — Я помню каждое твоё письмо. Каждую строчку. Как же мне хотелось вернуться и.. — сжимает плотно губы, оставляя невысказанными крамольные желания, подстрекаемые негодованием и злобой. У него появился первый заклятый враг; янычары — и те не вызывали бурю свирепости внутри. — Он может потешаться над нашей несчастной страной, над своими шутами, над кем угодно, только не над тобой. Я не отдам тебя ему. Никогда, — шепчет страстно, припадая губами к шее и ключицам. И сколь же быстро зарождается чувство собственности, ежели не зародилось оно ранее, когда читал письмо, полное признаний. Я твоя, — писала она. Иначе воспринять эту строчку он и не мог. Если его, то без остатка.
Некоторое время погодя Кирилл снова размаривается в тепле и нежности объятий, прикосновений; снова его губы трогает улыбка и взгляд переменяется с разгневанного на любящий и ласковый. Снова без устали целует её губы — поцелуи длятся долго, упоительно. Они засыпают счастливые уже после того, как догорели свечи, отпел ночную песню соловей, отбили часы пять, а за окнами чернота начала расступаться, пропуская сквозь себя первые солнца лучи. Словом, поздно (или рано) засыпают, ведь не до сна им было, — последствия года разлуки и ещё более долгого ожидания друг друга.
чувствую тебя кожей
вместе мы с тобой сможем всё перенести господи прости
дай нам один день уйти
Солнце поднялось достаточно высоко, чтобы горничная цесаревны беспокойно завозилась за дверью. Не послышалось ли, что не одна была Елизавета Петровна прошедшей ночью? Ходит из стороны в сторону суетливо, раздумывая стоит ли врываться иль подождать. Приоткрывает дверь, и та скрипит проклятая, заставляя мигом отпрянуть. Глаза-то успели увериться в том, что не одна. Кирилл просыпается от скрипа. Впрочем, спал он настороженно, готовый подскочить с кровати в любое время. Не потому, что им скрываться и прятаться всё ещё надобно, скорее из привычки — год на войне бесследно не прошёл. Любой шорох, любой скрип, любой звук может статься звуком неприятельским. Где-то вдалеке до сих пор глухо гремят пушки, батареи; взрываются мины, свистят зловеще картечи и гранаты. Рана вдруг ноет, напоминая о себе. Однако, подорвавшись он видит перед собой всего лишь комнату, слышит всего лишь тишину и чувствует тепло, исходящее от тела, за ночь изученного. Осторожно возвращается обратно на подушку, улыбаясь умиротворяющей картине: она спит сладко, невозмутимо и может быть, крепко. Ничего прекраснее в мире нет, чем спящая Лиза. Ресницы подрагивают, уголки губ поддёрнуты, щёки не остыли — розовые; и брови в своём естественном положении, придавая лицу то самое мирное выражение. Загляденье и ведь, не отпускает, не позволяет оторваться от подушки и начать собирать свои вещи. Бросает взгляд на часы — пора бы, ежели расставаться так быстро и надолго не хочется.
— Мне нужно идти, — сообщает, однако, сонно, когда Лиза открывает глаза. Улыбается невольно, ведь иначе невозможно, когда наблюдаешь за ней. — Нужно, милая. Пока не понадобилось твою горничную в Яузу бросать, — шутит с самого утра, совершенно не подготовленный к сопротивлению. Склоняется над ней, крепко удерживаемый. — В полку будут искать, — продолжает выискивать аргументы, впрочем, бесполезные, целуя её губы. — Правда ведь будут, — нахмуривает брови, отстраняясь, — Володя отвёл Плутона в казармы, теперь все знают, что я вернулся. Надо было не торопиться, — сверкает лукавая усмешка и снова мягкий, утренний поцелуй, слаще свежеиспечённых на завтрак коричных булочек. — Надо идти, — повторяет, будто уговаривает и ежели уговаривает, то самого себя. Уходить не хочется, когда доподлинно не ведаешь, случится ли новая встреча скоро. Ожидание может продлиться долго, а долго — это даже один день.
Кирилл делает над собой немалое усилие, вырывается из объятий и нащупывает одежду где-то в изножье кровати. Обнаруживает на ковре её сорочку, улыбается озорно качая головой. Должно быть, шутит над самим собой. Надо же было так голову потерять, удивительно что сорочка не очутилась в очаге камина. Где-то находится и камзол, и кафтан, и шейный платок, — что удалось аккуратно сложить, прежде чем отправиться смывать с себя порох жутко пахнущий, оседающий кисло-горьким вкусом на языке. Только закончив с пуговицами на камзоле, протягивает Лизе сорочку, весьма довольный собой.
— Без неё тебе всё же лучше, — и взгляд, и улыбка лукавые, восхищённые, влюблённые. Никакого стеснения Кирилл не испытывал с самого начала; приятнее говорить как оно есть, не скрывая. Напоследок подходит, чтобы поцеловать и задерживается у лица. — Встретимся сегодня на берегу? Я хоть новый мундир надену, право слово. И кстати говоря, — вскидывает подбородок и брови с какой-то игривой гордостью, — капитанский. Теперь я ближе к тебе на один шаг. Так глядишь и перед тобой генерал. Никто, ничего сказать не посмеет, — подсмеивается над своими же мечтами, которые, впрочем, достижимы. Он с малых лет рассчитывал завоевать всевозможные звания. — Приходи, буду ждать, — прошепчет, поцелует и надев потрёпанную треуголку на голову, развернётся в сторону балкона. Уходить приходится так же, как и пришёл, а точнее спускаться со второго этажа. Ему карабкаться по стенам после Перекопской крепости не привыкать, впрочем. А до чего же не хотелось уходить; до чего же недостаточно одной ночи, кажущейся неполной, наспех украденной. Ему бы тысячи и одной ночи было мало.
~~~
Послеполуденное солнце светит ярко и тепло, ласкает лучами плещущееся море. Шум морских волн сливается с ударами сердца в ушах, — чем ближе, тем громче. Кирилл торопливо спрыгивает с Плутона, опаздывающий на своё долгожданное свидание. Отпускает поводья, уверенный в том, что друг его верный далеко не забредёт, и бежит в её сторону. Бежит так, словно минул ещё один долгий год, а на самом деле позади всего лишь несколько часов. За эти несколько часов он успел предстать перед Дмитрием Яковлевичем, получить чистый и целый мундир, и даже ограбить чей-то сад. Словом, был занят повседневными заботами, пока в мыслях вертелось только одно ожидание встречи. Сапоги утопают в вязком, влажном песке, а он всё равно умудряется бежать быстро; и когда подбегает, сразу же отрывает Лизу от земли и поднимая высоко, кружит заливаясь негромким смехом. Букет оказывается порядком потрёпанным после быстрой езды и устроенными каруселями. Удерживая Лизу подле себя одной рукой, дугой вручает цветы и пожимает плечами с мелькнувшим, виноватым выражением, — оно быстро прячется за мальчишеской, счастливой улыбкой. В букете преобладают голубые пролески, впитавшие в себя безоблачное небо, выбивается насыщенным перламутром медуница и синие мускари, — всё, что можно было собрать в раннюю весеннюю пору. Запах сладостно-мускатный пьянит, заражает весельем, и глаза изумрудные, и родное дыхание, щекочущее кожу; он крепко прижимает Лизу к себе, увлекая в поцелуй, — и плевать на цветы, которые зажатые между ними, безбожно мнутся. Для счастья многого не надо, всё самое нужное, самое ценное здесь.
// не перегорит я обещаю
сердце в 1000 свечей