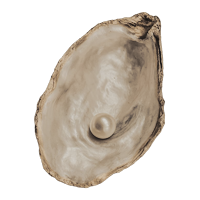на небесах всё давно решено
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться22024-05-20 20:34:54
Она умирала.
Неясные тени маячат перед глазами, снуют размытыми силуэтами за пологом кровати, но уже и не разобрать кто это – люди или может «дама в белом», коею тень по рассказам испуганных служанок и заикавшихся часовых видели в нескольких иностранных государствах сразу. «Дама в белом» — с м е р т ь поцеловала ночью австрийского короля и неслышной тенью бродила по темным залам великолепного Версальского дворца и что разумелось для дамы ее положения не отражалась в сотнях зеркал. Так, по крайней мере говорили. А по утру объявили о смерти еще такой молодой французской принцессы.
Прошел какой-то месяц с небольшим, как волна удушающего траура пронеслась по европейским державам; какой-то месяц как отгремели последние памятные пушечные выстрелы и были спущены флаги и штандарты с величественных шпилей каменных соборов и дворцов, всего лишь месяц и несколько солнечных весенних дней, как пролились слезы горя и радости [тут уж для кого что]. Какой-то месяц и белый бестелесный призрак пробрался в небесно-голубой дворец этой огромной страны, прекрасной и жестокой страны, которую возможно и любить и ненавидеть, предавать и преданно служить, но уж точно никогда нельзя будет забыть. И которую в последний момент будет отчаянно не хотеться покидать.
Смерть уже давно стояла на пороге спальни, погруженной в полумрак и фимиам удушающе пряных курений, которые как считалось должны принести вместе с собой приятные сновидения и спокойствие.
Но она смерти конечно же не видела. Может потому, что человеку, будь он хоть трижды Императором Всероссийским или же простым крестьянином ее увидеть все равно не дано. А может потому, что смерти она никогда не боялась, бродила с ней под руку и теперь, на закате целой эпохи, названной ее именем, готова была встретить ту, как старую знакомую.
С трудом приходится поднять веки, с видимым усилием повернуть голову – тени не становятся четче, голоса тихие до безобразия что-то шепчут испуганно, священник читает молитву и к дурману трав примешивается запах церковных благовоний: пахнет ладаном. Запах до боли знакомый – так всегда пахло в домовой церкви, где так чисто певчие выводили звуки херувимской. Также пахло и в маленькой церквушке с покосившимся деревянным крестом на одном единственном куполе, где в таинственной полутьме, через которую прорывалось разве что пара свечных огоньков, над ней держали венец венчальный. Фимиамом пахло и в огромном соборе, украшенном свежими цветами, соборе с позолоченными куполами и торжественным хором, где впервые, наконец, ощутила всю тяжесть венца императорского.
И вот теперь, в этой спальне с расписанным известным итальянским художником потолком, в спальне с шелковыми покрывалами, изысканными гобеленами, тоже пахло ладаном. Только вместо торжественных гимнов разбито слышались молитвы на исход души или же «Канон молебный ко Господу нашему Иисусу Христу и Пречистой Богородице при разлучении души от тела всякаго правовернаго». Перед Богом, как и перед «дамой в белом», все равны и молитвы над всеми читают совершенно одинаковые: что перед императрицею, что перед крестьянкой.
Сквозь тяжелые и плотные шторы прорывается узкая полоса дневного света, но в спальне все одно полумрак – погасили даже свечи в подсвечниках, погрузив комнату, а за ней на самом деле и весь дворец в мрачный и загадочный покой, за которым последуют месяцы траура, тишины и, наверное воспоминаний. А после – снова будет жизнь, после все забудут, а кто-то может и проклянет за все что сделала и чего не сделала. В конце концов всем не угодишь. А она… А она устала.
Грудь под тяжестью одеял едва-едва поднимается и дыхание становится все тише с каждой новой попыткой тела удержаться на земле, тогда как душа уже давно готова протянуть руку призрачной даме, чтобы та отвела ее туда, куда сочтет нужным. Она прожила долгую жизнь – иные умирают в младенчестве. И может и можно было бы бояться за этого такого большого, такого капризного, такого бесконечно красивого ребенка, которого теперь она оставляла на попечение других, но когда-нибудь его пришлось бы отпустить, передав с рук на руки. Да и все они для этого ребенка то родители порою строгие, а порой любящие, но под конец жизни отчаянно осознаешь, что всегда был часовым на посту, который скоро надобно передать с должным усердием.
Полоска света становится чуть шире. А там, за шторами, ламбрекенами, стеклами, жизнь продолжалась. Летали на небе ласточки, предвещая своим низким полетом скорую грозу, расцветали пышными бутонами в великолепных дворцовых садах розы; пели где-то на берегу спокойной речушки крестьяне, разгоряченные солнцем и сенокосом; пролетали нарядные экипажи, запряженные тройкой белоснежных коней, а у девушек развиваются шлейфы; устраивают дуэли на шпагах и по новой моде с т р е л я ю т с я разумеется от сильной влюбленности или же сильного оскорбления; в салонах читают поэмы, а юные девицы прячут под подушками французские романы разумеется о любви и пьянящих разум страстях. Корабли стоят на верфях, а ветер путается в белоснежных парусах, скрипят палубы, а волны Невы разбиваются о деревянные борта в бессловесных поцелуях. Солнце играется на куполах соборов и храмов, ставятся свечки, люди молятся и просят самых разных вещей – кто здоровья близким, а кто денег на новую обувь детям наивно полагая, что все так легко исполнить.
Ее главный ребенок, ее Р о с с и я продолжала жить и жить покамест счастливо. Ну, или же по крайней мере покойно.
Она приоткроет сухие, чуть потрескавшиеся губы и это дается не без усилий. Кто-то сразу мягко смачивает сухие губы тряпицей, смоченной в воде, от чего на несколько секунд приходит облегчение, но дыхание все тише. Силится сказать, силится объяснить, но голос, который когда-то был громким, голос, коим заслушивались многие, теперь стал почти неслышен и находящимся здесь приходится, пожалуй, прислушиваться, что она хочет сказать. Кто-то перекрестится.
Волосы по подушке разметанные, некогда являвшиеся предметом зависти многих красавиц теперь кажется поблекли, но сохранили свою невероятную густоту, вокруг рта и в уголках глаз пролегли глубокие скорбные морщины – все это результат бессонных ночей и плата самая маленькая за венец, который однажды надели на ее голову, тяжесть которого до сих пор не давал в з л е т е т ь.
Одним неимоверным усилием ей все же удается произнести:
— Откройте.
И кажется, на это единственное слово уходят все оставшиеся жалкие силы. Падает на подушку и заканчивает:
— Соловьи…пожалуй, поют.
Для других оно не понятно кажется, но находится один-единственный человек, который понимает сразу же и через секунду-другую в комнату, в которой смерть поселилась основательно и уже не уйдет, врывается солнечный свет наступившей весны. А за ним и ветерок – шальной, безумный, молодой. Касается лица, целует губы, пробегает по волосам, играется с одеждой собравшихся в комнате.
Она с трудом поворачивает голову к этому золотому свету, льющемуся сквозь и кажется вопреки всей этой темноте и скорби и неожиданно четко видит облака, деревья, небесную лазурь весеннего неба, видит крышу дворца, словно сама пролетает над ним наконец свободной птицей, на которую больше не давит венец, который пришло время передать кому-то другому.
На подоконник присядет белый голубь.
И она взлетает все дальше и дальше, все выше и выше, все свободнее и свободнее. И все громче и громче слышится ей, как с этих просторов, полей, лесов, над которыми она теперь пролетает, несется к ней:
«Лиза!»
«Елизавета!»
«Елизавета Петровна!»
Несется откуда-то издалека, из времен давно прошедших казалось, нагоняет и оглушает. И ты рвешься туда, на этот зов разноголосый и такой родной, только бы успеть. Рвешься к голосам, которые по большей части принадлежат тем, кого уже давно нет. Только бы вернуться.
«Лиза!», «Лиза!»
Лиза


//В ме́сте зла́чне, в ме́сте поко́йне, иде́же ли́цы святы́х веселя́тся, ду́шу раба́ Твоего́ преста́вленнаго поко́й, Христе́, Еди́не Ми́лостиве.
(В месте отрадном, в месте покоя, где сонмы святых веселятся, душу раба Твоего преставишегося упокой, Христе, один милостивый).
Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.//
«Елизавета Петровна! Ваше Высочество! Лиза! Лиза, просыпайся, ей богу!»
Кто-то настойчиво теребит за рукав платья, выдергивая из цепких объятий Морфея, голос в ушах становится все громче и все раздраженнее [пусть его обладательница и собирая видно последние силы пыталась сохранять спокойствие], заставляя таки проснуться если не окончательно, то по крайней мере почти. Лиза щурится от неожиданно яркого солнечного света, пробивающегося сквозь маленькое оконце и щели в деревяшках голубятни. Солнечный свет падает на янтарно-рыжие волосы и золотит макушку. Солнечные зайчики, скачущие по стенам и полу цепляются за ресницы и отражаются в зеленых глазах, в которых кроме мерцающей весенней зелени в такие моменты всегда примешивался едва заметный медовый оттенок, напоминающий капли сосновой смолы. Им с сестрам нянюшки и сиделки, а также разумеется матушка, от которой ей и довелось унаследовать рыжий оттенок волос, строго-настрого запрещали по долгу сидеть на солнце и подставлять его коварно-ласковым лучам лицо. И потому, что иначе «будете лицом темны аки крестьянки с сенокоса», а также потому, что на их хорошеньких личиках непременно появлялись веснушки, что почиталось уже едва ли не за уродство и тщательно скрывалось. Что же, остается надеяться, что веснушки на ее лице до очередной ассамблеи не появятся. Да и говоря честно, куда большее недовольство всего дворцового окружения вызвало бы вовсе не почивание под солнцем, а тот факт, что младшая дочь великого императора Петра Алексеевича словно мальчишка залезла на голубятню, где и изволила уснуть, разморенная полуденным теплом. Хотя в этакой оказии виновато было не столько и не только майское солнце, сколько очередная книга, которую она читала до самого рассвета, не взирая на недовольство придворного лекаря месье Флери о том, что чтение при лунном свете в отсутствие свечей пагубно для зрения.
Лиза потягивается, все еще находясь где-то на грани между сном и бодрствованием, неприкрыто зевая во всю ширь рта, лишь под конец совсем уж не элегантно пытаясь прикрыть это невежество кулаком, с наслаждением разминая затекшие конечности и шею, которая грозила не повернуться от столь неудобного положения, в котором она умудрилась заснуть. И, когда наконец морок сна отходит, оставляя после себя лишь медлительность движений и некоторую заторможенность сознания, она встречается взглядом с хмурыми глазами Наташи, которая очевидно несколько минут к ряду трясла ее за плечи и пыталась разбудить.
— О, Наташенька… А я книгу дочитала… — Лиза блаженно улыбается и словно в доказательство сказанному книга в обложке из свиной кожи валится на пол с глухим стуком, вспугивая нескольких белоснежных голубей на нижних жердях.
Наташа ее восторг не разделяла [наверное просто потому, что сама эту книгу не читала]. Ее хмурый вид можно было бы сослать на то, что Наталья Алексеевна Арсентьева в принципе не была склонна к излишней радости. Кто-то при дворе мог назвать ее через чур холодной. Кто-то мог сравнить ее с античной скульптурой какой-нибудь богини [может Дианы или Афродиты]: такая же молчаливо-прекрасная, такой хочется поклоняться, но ты отчаянно понимаешь, что никогда кажется не добьешься от изящества мраморного тела взаимности, а в худшем случае дождешься от суровых богинь какой-нибудь небесной кары. Богини, они как известно мстительны. При дворе ходило много шуток о том [в основном травили их изрядно обиженные кавалеры], что может Пигмаллиону и удалось вдохнуть душу в свою невероятную скульптуру благодаря силе любви, но уж точно будь на месте статуи Наталья Алексевна, никакой богине это бы уже не удалось. Камень есть камень.
Но так говорили конечно же те, кто видел ее лишь на ассамблеях, устраиваемых у разных семей, на маскарадах во дворце или в обществе других молодых людей и девушек, на фоне которых — смешливых, громких, всегда веселых (что безусловно было свойственно этому времени и их возрасту) она необычной стройная, с мраморно-бледной кожей, благодаря которой синие глаза казались еще ярче и сияли на красивом лице двумя синими звездами, выглядела скорбно-печально. Те же, кто знал Наташу чуть лучше и чуть ближе и к кому относилась и Лиза знали, что это вовсе не холодность, а серьезность и необычайно спокойный нрав, а также обстоятельство жизни, с которыми она столкнулась еще в очень юном возрасте сделали ее рассудительней многих взрослых дам. Она редко смеялась громко, скорее ее лицо трогала легкая улыбка, но за эту улыбку можно было бы и умереть, а уж если она становилась шире, значит шутка действительно удалась. Ей лучше прочих удавалось все, за что она бралась – вышивание, языки, в конце концов этикет. Можно было бы позавидовать, если не знать, что за всем этим стоял не природный талант, а скорее невероятное усердие, с которым она приступала к любому делу и от чего и добивалась успехов.
Лиза такой усидчивости подруги детства конечно завидовала. Подумать только – сидеть склонившись над пяльцами несколько часов! Какой ужас!
Так вот, сейчас хмурость и очевидное беспокойство, тени которого пролегли на лице Наташи, нельзя было объяснить ее характером. Скорее, она правда была недовольна. Возможно тем, что ей пришлось забираться по шаткой деревянной лестнице на эту голубятню в своем пышном платье с множеством юбок [такой фасон сейчас особенно был моден при дворе, так что тот, кто одевался иначе мог почитаться за дикаря и при дворе не появляться]. Возможно тем, что в очередной пришлось отправляться на поиски «птичьего дитя» [меткое прозвище, данное за постоянные попытки выпорхнуть из надежных дворцовых стен Зимнего дворца или Большого Петергофского] опережая разгневанных учителей или не дай боже родителей.
Голуби воркуют где-то над самым ухом, вокруг разносится их громкое «гуль-гуль», а в волосах застряли белые голубиные перья. Вид, что уж говорить что надо.
— Лиза, ну что же ты за дитя, порой? — в красивых глазах Наташи застывает обеспокоенное выражение, пока она пытается избавить волосы от следов пребывания в столь неблагоприятном месте. — Все обыскались, ты пропустила урок арифметики, так что Дмитрий Палыч, отправился прямиком к Его Императорскому Величеству и не ровен час, душа моя, придут сюда вдвоем, — Наташа с неудовольствием смотрит на взлохмаченные рыжие волосы Лизы, которые с сегодняшнего утра разумеется не знали гребня и шпилек, а теперь и вовсе представляли собой зрелище крайне недостойное и лохматое.
Волосы свои Лиза считала особенной гордостью на ряду с длинными ногами или выразительным лицом – густые и тяжелые, требующие огромного количества шпилек и заколок, чтобы удерживать вес причесок. Сейчас же без подручных средств вычесать из них кусочки соломы и пушистые перья императорских голубей было уж явно невозможно, какими бы умелыми и быстрыми не были руки Наташи, поэтому они так и оставались в свободном беспорядке по плечам янтарном волной. И, последняя, кажется осознавая всю бесполезность данного предприятия качает головой. Другая бы на ее месте в сердцах высказала бы что-нибудь, но Наташа держала себя в руках практически всегда.
— Скажи мне на милость, зачем же ты на голубятню не свет ни заря отправилась? Да еще и в таком виде!
Лиза отбросит с лица тяжелый локон и беспечно [а беспечность это то, что в ее счастливые семнадцать лет скорее украшает] пожимает плечами, словно близость прихода отца и уж тем более учителя ее не пугает совсем. В этом ей бы позавидовали многие царедворцы и просто подданные – не было человека в Российской Империи, который бы не опасался гнева Императора. А уж о тех, кто видел Петра Алексеевича в минуты гнева и говорить не приходится. Да только кто же из них знал, что гнев ее отца на дочерей распространялся крайне редко, если вообще распространялся. В те мгновения, когда он злился, чтобы не сорваться на Лизе или ее старших сестрах, он уходил стрелять из мушкета по тарелкам или же отправлялся разглядывать чертежи строящихся кораблей и распекать тех, кто по его мнению затягивает со строительством – да в общем делал что угодно, чтобы дети не попадались ему на глаза [или же, чтобы он им на глаза не попадался]. Поэтому, как только провинившуюся «птичку» доставляли к отцу, ожидая внушения или же наказания, он с высоты своего огромного роста усмехался, спрашивал: «Ну что, Светлячок, каяться будешь?» и тогда она со смехом бежала к нему, усаживаясь на колени и ухватываясь за могучие отцовские плечи. Так все обычно и заканчивалось. Иной раз куда страшнее оказывался гнев материнский, за которым непременно следовали ограничения, внушения и прочее. «Распустил ты их, Петруша…» - так матушка обычно сетовала наблюдая очередную не случившуюся сцену наказания и качая головой. Тут уж только мать могла делать ему замечания. Остальные, как полагается при общении с государем – тряслись и ртов не открывали. В такие моменты отец лишь пожимал плечами: «Так а я что, Аннушка? Воспитывать я Сашку буду, а это ж девчонки, как я их ругать стану?». На том все и заканчивалось.
Хотя, если уж по честности, то особенного отношения заслужила именно Лиза. То ли потому что к своим семнадцати годам вышла прехорошенькой, то ли от того, что была самой младшей, этакий последыш в семье, а может потому, что наиболее из всех детей походила нравом на отца. Ее старшие сестры, теперь уже важные замужние дамы, проживающие где-то далеко за границей, не уставали жаловаться, что «Лизке значит можно на коне скакать по-мужски и географию учить, а нам нельзя!». Слышались от них и прочие жалобы, которые, впрочем, звонкий смех младшей Петровой дочери заглушал. За этот же смех прощалось ей то, за что других непременно бы выпороли.
— Ах, Наташа, какой пустяк этот твой вид! И между прочим, — в пронзительно прозрачных глазах, переливающихся дождливой мятной зеленью затанцуют лукавые искры. — Иван Дмитриевич однажды обмолвился, что чем женщина естественнее выглядит, тем лучше!
На лице Наташи на секунду-другую появится неуловимое выражение, которое трудно поймать и с которым она быстро справится. Только в синих глазах поселится обеспокоенность и губы сомкнутся в упрямую нить. Лиза надувается, разрешая Наташе выдергивать из волос-паутинок солому.
— И что это за лицо такое?
— Самое обыкновенное, Ваше Высочество, — ответствует та, бесстрастно дергая очередную соринку, кажется вместе с волосами. Лиза ойкает, хмурится, выворачиваясь из-под руки Наташи и вглядываясь в это «обыкновенное лицо». На всегда идеально-спокойном лице Натальи Алексеевны промелькнет секунда неудовольствия, с которой она, впрочем, справится.
— Нет не, обыкновенное. Вон, «Высочеством» обзываешься. Он тебе не нравится, я знаю.
— Главное, что тебе Лиза нравится, — она вздыхает, одергивает пышную юбку и почти скорбно оглядывает Лизину фигуру в персидском халате, наброшенном на узкие молочно-белые плечики, скрывающиеся под сорочкой. — И если скажу, что Иван Дмитриевич мне доверия не внушает, ты слушать не станешь. Так что ты тут делала в такую рань?
— Нет, я хочу, чтобы тебе он нравился. Если тебе нравится, значит человек достойный… Ах, Наташенька, знала бы ты, какой мне сон снился! — словно забывая о том, что старшая подруга пришла сюда, чтобы предотвратить пренеприятнейшую сцену в которой и Император и учитель и возможно еще кто-нибудь, вновь застанет цесаревну в месте далеком от царского величия, да еще в таком виде, что можно подумать что-нибудь не то.
И, несмотря на все предупреждения и недовольства со стороны Наташи – всегда правильной, серьезной и степенной, Лиза подхватывает ее за руку, хохочет тем самым переливчатым смехом за который может ее и прозвал отец Светлячок. Этот смех, вкупе с улыбкой после которой непременно появлялись ямочки на щеках и волосами цвета расплавленного рассвета делал ее такой солнечной, что хотелось прикрыть глаза. Лиза смеется, не давая Наташе ретироваться и пойти на попятную танцует в маленьком пространстве голубятни, едва ли не стукаясь головой об низкие балки нависающие над ними. Голуби хлопают крыльями, солнце продолжает заливать окружающее пространство.
— Лиза, не ровен час они ведь и правда найдут тебя! — Наташа протестует, но противиться заразительному обаянию цесаревны не может никто. А если уж у Натальи Алексеевны не хватает выдержки, то тут не хватит уже ни у кого. — Снова накажут!
— Да ты послушай! — Лиза кружится, из-за чего волосы медной россыпью вьются следом за ее движениями. — Мне снилось, что на корабле где-то далеко-далеко, а вокруг море синее-синее! Синее, прямо как твои глаза, Наташа, ты можешь вообразить? — Лиза восторженно пересказывает свой сон, продолжая выделывать сложные танцевальные фигуры на таком маленьком пространстве. — А после этот корабль пристал к берегам какого-то острова. Новая Земля, наверняка это она была. И я была капитаном этого корабля! Ты можешь вообразить!
Наташа позволяет себе улыбнуться, не выдерживая такой напасти, позволяя себе заметить, качая головой:
— Нет, Лиза, не могу. Ведь вся команда наверняка в тебя бы влюбилась и все бы убили друга за право стоять с тобой рядом. А значит некому было бы корабль вести.
Лиза останавливается, притопнет ногой закатывая глаза – яркая, живая и такая непосредственная, что казалось такой цветок на суровой и холодной почве двора просто не мог вырасти. При дворе проще быть или как Наташа с ее спокойной рассудительностью, которая позволяла не совершать фатальных ошибок под бдительным взором придворных, или же как княжна Лопухина, знающая все особенности светской жизни. Елизавете же Петровне, кажется, просто везло, балансировать в этом свете где-то на грани и, так как во всей ней находилось это очарование, ей все прощалось, а иной раз за ней и тянулось, что позволяло не менять ни привычек, ни характера.
— Да и к тому же, полагаю, виновник твоих сновидений вот в этой книжице. «Путешествие Гулливера». Свифт Джонатан, — Наташа, улучив момент, поднимает забытую книжку с пола, пролистывая пару страниц. В такие моменты у нее Наташа становится до раздражения взрослой, хотя старше Лизы всего на три года, напоминая скорее старшую сестру, нежели подругу. — Эх, Лиза, вот в этом вся ты ведь. Любой девушке бы суженый снился или какое не то неприличное романтическое приключение. А тебе снится как ты кораблями правишь!
Лиза снова беспечно передернет плечами, поправляя беспомощно упавший халат, чтобы не оказаться окончательно в одной сорочке, позволяя нескольким голубям сесть себе на руку. Голуби, как, впрочем, и лошади всегда к ней шли сами и она находила с ними общий язык также запросто, как находила его с важными придворными, молодыми кавалерами и гвардейцами-преображенцами. Ради особой тяги младшей царевны к птицам (и благодаря исполнению ее «маленьких» капризов) и построили эту голубятню, привезли с далекой Голландии редкие породы голубей, от чего теперь здесь можно было увидеть их самых разных цветов и вида: и скромные но изящные «пермяки» с плотным белым оперением, которые самыми незаменимыми были раньше, когда послания следовало отправлять; и воронежские белозобые с чубчиками и блестящим серо-голубым оперением; и разумеется великолепные павлиньи голуби особенно ею любимые за свое белоснежное оперение и широкие хвосты.
Птицы к ней летели сами, без страха сидели на плечах, а иной раз и на голове, клевали с нежной ладони зерна, воркуя где-то над ухом и, едва завидев ее с высоты голубятни или же колокольни дворцовой церкви слетали вниз, кружась пестрой стаей над ее прелестной головкой.
Понять такую любовь цесаревны к простым голубям было сложно. При дворе было модно держать канареек или заморских попугаев – один такой сидел в кабинете у ее отца и презабавно передразнивал приходивших к нему с докладом канцлера и прочих важных личностей. Отец приговаривал, что такой попугай полезнее всех шутов при семье. На худой конец в клетку могли поймать и соловья, который печально чах за решеткой, глядя на расположенный в манящей близости сад.
Лиза птиц в клетках не держала, потому что ей всегда казалось, что это через чур жестоко. У птиц ведь крылья есть и им предназначено летать, а не сидеть в маленькой тюрьме, наблюдая как проходит твоя жизнь.
«И что тебе эти голуби покоя не дают?» - вопрошал однажды отец, находясь в добром расположении духа.
«Они могут лететь куда хотят, но никогда не теряются. А еще, всегда возвращаются домой. И пара у них один раз и на всю жизнь. Поэтому я их и люблю», — она всегда отвечала просто и понятно, что Императору нравилось и что он в людях ценил. Кто же любит, когда перед ним юлят [а делало это большинство дворян].
Голуби воркуют, тычутся клювами в губы. Она знает их имена наизусть, легко определяя кого на месте нет или же кто сейчас сидит на ее плечах, легко отличая одного белого голубя от другого. Поцелует на прощание своего любимого – Персея, прежде чем легким взмахом руки не отпустить в свободный полет куда-то в отчаянно-голубое небо.
— А я и не любая, Наташа, — царственно вздергивая подбородок замечает Лиза, в такие моменты даже несмотря на всю нелепость внешнего вида как нельзя больше походившая на царственную особу. Впрочем, в тот же миг серьезность улетучивается и в этом, кажется тоже была вся она. — И зря ты так – капитаном я была бы хорошим. Я и пошла сюда, чтобы за звездами понаблюдать. Меня ведь Саша навигации учил. А его сам Николай Яковлевич, а он адмирал!
На Наташином лице снова что-то проскользнет, но уже куда более незаметнее и непонятнее, словно набежит облачко, а в глубине озерной синевы глаз поселится непонятная печаль. Мимолетная.
— Его Императорское Высочество, полагаю сегодня отбывает… — ее голос становится на удивление задумчивым, словно на секунду она оказалась где-то не здесь, Лиза готовится уже это заметить и в очередной раз лукаво поймав всегда неприступную Наташу на том, что неприступность заканчивается там, где в романах, столь популярных при дворе [в основном о пастушках да пастухах от французских писателей] начинается любовь. Но берет она себя в руки гораздо быстрее и в очередной раз заставляя сомневаться в том, в чем в случае единственного брата сомневаться не приходилось. Да и к тому же, Наташа напомнила Лизе, которая грезила несколько минут назад о кораблях, дальних странах и возможно красивых офицерах, о самом главном событии сегодняшнего дня. — Пойду постараюсь время потянуть, чтобы тебя в порядок привели.
Лиза хлопает в ладоши звонко, заставляя вздрогнуть Наташу восклицая в сердцах:
— Уезжает! Сегодня ведь! Проспала! Нужно немедленно…
Голуби испуганно взметнутся повыше, под самую крышу, а иные вылетят наружу, а оттуда, из ухоженных дворцовых парков и садов послышится громкое и ничего хорошего не означающее: «Лизетка! Доберусь ведь до тебя!». Лиза замирает на месте, почти испуганно прижимая к себе злосчастную книгу, словно она могла защитить от надвигающейся грозы и выговора. Очередного выговора! Наташа замирает рядом и на бледном лице проступают легкие красные пятна – в отличие от Лизы, гнева императора и еще больше императрицы Наташа, как и многие боялись. И в этом и был парадокс.
Наташа, ее умная и идеальная Наташа, которая занималась в несколько раз усерднее Лизы или же ее сестер [что не говорило о том, что и успехов у нее было больше, просто Лизе все давалось словно бы по волшебству и без усилий], по своей воли не нарушившая никаких правил, постоянно защищала и прикрывала ее – сущее наказание всего дворца и всей семьи в частности. С самого детства она оказывалась вместе с Лизой запертой в тесной комнате, где наверняка «всякие страхи» жили, успокаивая ее своим не по-детски рассудительным тоном и убеждая, что все хорошо [даже несмотря на то, что это вовсе не она жабу в супницу изволила положить]. Именно она лишалась сладкого на долгие месяцы, даже тогда, когда Лизе уже сделали послабление [хотя совсем не она назвала жену князя Гончарова «коровой»]. Ее словно наказывали вместо Лизы, что не останавливало тихую Наталью Алексеевну от этой, приносящей в общем-то неудобства дружбы. Вместе они смотрелись словно солнце – яркое, золотое, пылающее, горячее и луна – серебристая, загадочная и тихая. И несмотря на то, что ничего приятного в таких наказаниях не было, Наташа оставалась рядом и продолжала прикрывать, что называется спину, вместе с попавшими под не меньшее гипнотическое воздействие цесаревны пажами.
Вот и сейчас, пока Лиза едва-едва выглядывает из маленького оконца наружу, Наташа поспешно спускается вниз, спешит куда-то вглубь грандиозного парка из которого доносятся грозные окрики, которые ни с чем не спутаешь, но слова разобрать трудно. Чьи-то шаги все ближе, хрустит под подошвой сапог галька и песок, коими посыпаны дворцовые дорожки. Ближе и ближе, громче и громче, она различает как минимум нескольких человек и отчаянно понимает, что это вовсе не Наташа, не ее пажи, ну или по крайней мере не только они. А после сердце, отчаянно трепыхавшееся в груди и отчасти надеявшееся, что буря пройдет стороной, проваливается в желудок:
— Ну что, Лизавета Петровна? Спускайся, краса моя! Али думаешь поверю, что ты не с птицами своими прогуливаешься? Спускайся, покамест всем твоим голубям головы не открутил!
Отец всегда чем-то грозился. Иногда угрозы звучали всегда до нельзя правдиво, но никогда не исполнялись. Иногда обещал сослать в монастырь, как бывало во времена до него, когда ни одна из царевен за муж не выходила, а томилась в тереме. Иногда и того хуже – выдать замуж, как сестер и отослать прочь куда подальше. Ну, и разумеется, выпороть. Но ни первое, ни второе, ни третье в жизнь не воплощал и окружающие справедливо подозревали в этом тайное нежелание Императора расставаться с младшей дочерью, отправка которой так далеко из страны казалась немыслимой.
Лиза выдыхает, высовываясь из окна полностью и наблюдая в другой раз забавную картину: под голубятней столпилась довольно большая процессия, словно пришедшая на челобитную или же, что еще вероятнее, спасать царевну от какого-нибудь змея. Отец в своем неизменном мундире, опирающийся на трость [в последнее время суставы ломило все сильнее и ходил он все медленнее], позади него кажется пытающийся съежиться и в этой толпе раствориться Дмитрий Павлович – человек по-своему глубоко несчастный. Несчастный хотя бы потому, что имел неудачу обучать царских детей, а в особенности младшую дочь, которая по своевольству могла бы тягаться и с цесаревичем, до того, как того отправили вместе с другими детьми дворян обучаться в созданные Императором школы. Трогательный человек в очках, который попросту не мог повышать голоса и страдающий от того, что ученики его слушать отказывались. По правую руку от государь-императора улыбался Борис Федорович Апраксин, все еще сжимающий в руках какую-то папку и она запоздало понимает, что отец скорее всего оказался сорван с утреннего доклада.
Частенько, во время какого-то совета или доклада отец мог сорваться куда-то и все вынуждены были идти за ним, так что очевидно, что на этот раз эта доля выпала именно Борис Федоровичу – человеку, не последней величины в государстве, если не одному из первых. А для их семьи и вовсе почти родного – до того отец высоко его ценил, что в свое время отдал в жену собственную сестру. Собираясь вместе они непременно и очень по-простому начинали обсуждать былые деньки, то как «грязь сапогами вместе месили», вспоминая многочисленные военные походы. В такие мгновения отец преображался и кажется становился моложе и здоровее, вновь напоминая себя таким, каким был при ее детстве, когда многочисленные болезни еще не оставили на теле печатей. У Апраксиных Лиза выросла как и ее сестры и разумеется старший брат, пока отец вместе с матерью был то на стройках, то на войнах, то в море. Борис Федорович – крестный ее брата, наследника, ближайший сподручный и самый близкий к семье из всех царедворцев. Они росли вместе с его детьми, жили в его дворце на набережной Невы, с ним и ходили на охоту. И пусть годы не пожалели его ничуть не меньше, нежели императора, в серо-голубых глазах все еще сохранялось умное, пронзительно-внимательное выражение, которое помнилось ей с детства. Апраксина не все любили, но как говорил отец: «Когда правишь – кто ж тебя любить будет? Только лгуны и подхалимы. Всем угождать станешь – страну потеряешь». Поэтому Борис Федорович не угождал никому, кроме, как казалось своего государя, за время службы обзаведясь приличным состоянием, несколькими дворцами в Петербурге и за его пределами и недоброжелателями. Но Лиза, как впрочем и все остальные «дядюшку» очень любила.
Взгляд цепляется и за другое знакомое лицо, заставляя высунуться из окна еще больше. Очевидно, неудачная попытка задержать всю эту разгневанную, неловкую и по-своему нелепую колонну, была не только у Наташи, которой впрочем видно не было, но и у ее, как говорил Саша: «судьбы нечаянно обреченных» пажей. Можно было догадаться, что сейчас Семену надобно было оказаться где угодно, но не здесь, не в окружении всех этих лиц и уж точно не под рукой у государя, которая любила хватать провинившихся за уши [одно ухо у него и правда отчаянно краснело] Паша с Матвеем наверняка наблюдали за этим в кустах и она готова была поспорить, что одолевали их крайне противоположные чувства: радость от того, что за уши железная рука императора оттаскала не их и зависть, потому что геройствовать перед своей «дамой сердца» должны были все трое.
— Полюбуйся, один из твоих…рыцарей, прости Господи. Решили, что дочь родную не знаю. Спускайся, пока Семку твоего не выпорол и сие на твоей совести будет! Я зачем вас при ней поставил? — отец щурится, задирая голову и сверкая глазами в ее сторону, обращаясь при этом то ли к Семену, то ли к выжидающим в кустах остаткам их квартета. — Чтобы безобразия ей позволять учинять, а меня за нос пытаться водить?! Спускайся, кому говорю!
Пожалуй, не исполнять приказов императора может в этом государстве только один человек. И человек этот с растрепанными волосами сейчас упирался вовсю.
— Не спущусь! Вы браниться станете, батюшка, еще пуще! А вам лекарь запретил! А Семена не трогайте! Борис Федорович, скажите батюшке, чтобы не трогал! — ее голова вновь скрывается в темном оконце голубятни, заставляя всех вздрогнуть: кого от смеха, а кого от ужаса. В конце концов перечить государю и правда никто не смел.
За то свою младшую дочь он, верно, и любил.
Его лицо стало еще суровей, хотя за всей этой мрачной суровостью и грозным тоном, кажется он пытался сокрыть усмешку. Не девица выросла, а беда!
— И стану, краса моя, ты за Бориса Федорыча не прячься! Ты что же это думаешь, у меня дел иных нет, кроме как жалобы о твоем Высочестве выслушивать и о том, как ты учиться не желаешь? Ко мне Дмитрий Павлович приходит жалуется, грозится уволиться, трясется весь, словно лист осиновый, — при этих словах учитель действительно затрясся и поправил очки, очевидно такой реакции на свои и без того бесконечные жалобы не ожидая. — говорит мне: «Цесаревна учиться не желает изволить!». А не ты ли заявилась ко мне в прошлом месяце и заявила, что не справедливо, что брата твоего математическим наукам обучали, а тебя нет! Всю душу из меня вынула, я Дмитрия Павловича поставил, а ты учиться теперь не желаешь? Дурой вырастил! По голубятням лазаешь!...
Из его груди послышится хриплый кашель, заставляя ее высунуться обратно, тревожно на этот раз вглядываясь в его посеревшее лицо. В последнее время здоровый цвет лица уже не возвращался, а кожа стала того же цвета, что небо над Петербургом по осени. Заставлять батюшку волноваться уж точно последнее, чего хотелось бы.
— Это вы зря, батюшка. Не моя вина в том, что арифметика наука такая скучная – все цифры и цифры! География или история – куда интереснее, да даже ботаника лучше! И Дмитрий Павлович зря вас побеспокоил. Я за движениями звезд наблюдала. Ориентироваться по ним училась. Разве же не полезно сие? Вы мне сами говорили, что в море первый друг это ветер да звезды! — цесаревна мгновенно переходит на свой любимый французский, удававшийся ей лучше остальных языков, которым она обучалась. Переходит нарочно, разумеется, отчасти чтобы покрасоваться, отчасти чтобы доказать всем, что никакой дурой никто ее не выращивал.
— На французский перешла, — отец цокнет языком, неожиданно устало смахнет рукой выступившие на лбу капли пота. В последнее время приступы острой боли участились и того и гляди вновь могли начаться. — Спускайся, бог с тобой. Полдень уже, если брата застать хочешь в порядок бы себя привела.
— И ничего моим пажам не сделаете?
— Не сделаю, пташка несносная, не сделаю.
— И голубям?
— Спускайся покамест не передумал! — голос снова повышается, Лиза хохочет и с неожиданным ловким проворством моряка, который прыгает по бесконечным корабельным канатам, спускается по лестнице и, не обращая внимания на то, что в таком виде ни одна приличная девушка из спальни своей не выйдет, звонко чмокает отца во впалую щеку, обещая, что больше разумеется никогда-никогда не станет его огорчать и выучит арифметику также хорошо, как астрономию или же французский. Отец отмахивается, разумеется обещает сослать ее куда-нибудь, но буря миновала и только Елизавета Петровна и сейчас и до конца его дней может так быстро его унять просто улыбнувшись.
***

Она сидела на изящном кованом стуле в одном из своих многочисленных великолепных платьев, ткани к которым ей доставляли всегда первой, как императрице. Не повезет той даме, которая пришла бы ко двору с заколкой или же в платье, которое могло затмить платье ее, Анны Дмитриевны наряд – вряд ли красавицу еще хоть раз ко дворцу допустят. Случались случаи, когда она самолично отрезала забывшимся кокеткам слишком яркие цветы с платьев – излишнее проявление красоты и самоуправства она почитала за бунтарство, а оно для самодержавия, пожалуй опасно. Обманчивая мягкость ее движений, линий тела и лица и даже голоса, всегда спокойного, могла направить не на ту дорогу – императрица, в отличие от своего супруга, который в дерзости [в некоторых ее пределах] видел смелость, дерзости не терпела. Не терпела она и пустой, впрочем, болтовни, людей охочих до сплетен и льстецов, которых при ней было великое множество. Но, как не удивительно, то что они при ней были, пытаясь через «матушку-императрицу» достучаться до императора не значило, что она им верила – скорее ее забавляло то, что же они могут ей сказать в душе над ними потешаясь. Кажется, Анна Дмитриевна, Императрица, жена великого и первого императора, была куда подозрительней мужа. И, очевидно, Наташу терпела только потому, что ее отца когда-то очень ценил Петр Алексеевич.
Мягкие, полные руки медленно поглаживают белоснежную персидскую кошку – создание на самом деле крайне несносное, являющееся причиной того, что бранили и наказывали девок, что за ней присматривали, недоверчивое не менее, чем его хозяйка, но ею нежно любимое. И медлительность эта обманчивая – когда решение надо принять, никогда императрица не сомневалась. Сказывалось здесь прошлое, проведенное в военных походах с мужем, когда оставаясь одна, а иной раз и на сносях приходилось командовать и спасать таким образом свою жизнь. Первенец появился и вовсе в разгар восстания, поднятого недовольными слишком резкими переменами в жизни страны. Восстание, как в России полагается, вылилось в кровавую и весьма далекую от справедливости бойню, дошедшую до стен московского дворца, где они тогда жили с государем. С тех пор, столица из Москвы перекочевала в славный город на Неве, а по ночам ей до сих пор снились кошмары, как обезумевшая толпа грозится поджечь деревянный терем и кричит о том, чтобы ее вместе с другими выдали на вилы этой гнилозубой, смердящей толпе. Может быть с тех пор она с легким недоверием и нелюбовью относилась к простым людям, сидящим на паперти, помня, как эти же простые люди превратились из овец в ловчих. И может поэтому единственный оставшихся в живых из всех рожденных сыновей, первенец, был ею столь особенно любим.
Нет, к достоинству государыни стоило отнести то, что всех своих детей любила она совершенно искренне, как любит любая мать и заботилась о них, пусть и по-своему и не всегда забота эта оказывалась нежной и такой, какой бы хотелось ее видеть самим детям. Но своего «Сашеньку», светловолосого, с ясными голубыми глазами, очевидно доставшимися от нее, улыбчивого, высокого – словом, настоящего принца [художники, выписанные из Италии и Франции не уставали восхищаться его такой классической красотой, пока писали парадные портреты], она любила по особенному.
И Наташа полагала, что именно поэтому ее фигура при дворе, во дворце, да еще и в таком близости от семьи доверие Анне Дмитриевне не внушала, да и вообще скорее нервировала.
Рука изящно остановится над шелковистой кошачьей шерстью, светлые глаза пристально оглядывают Наташину фигуру, пытаясь очевидно найти малейший изъян и не обнаруживая его становятся еще более холодными, нежели обычно. И так каждый раз. Каждый раз, такие пристальные, въедливые проверки ее поведения, внешнего вида, слов научили Наташу всегда и все делать если не идеально, то близко к тому.
Когда императрица высказывала недовольство по поводу ее танцевальных навыков, она училась танцевать по ночам до поздней ночи, стирая в кровь ноги в неудобной обуви.
Когда императрице не нравилась ее походка, Наташа научилась ходить так плавно, что любая дама при дворе позавидует.
Когда императрице не нравился ее акцент в речи на французском, она буквально заставила Лизу научить ее как правильно – Лизе ведь все давалось в мгновение ока. Лиза танцевала прекрасно словно от рождения, а когда пела заслушивались все, а кто-то замечал слезы на глазах императора Петра. Наташа не замечала, но лишь потому, что ее собственные глаза в моменты пения были в слезах.
Но сколько бы идеальной она не казалась окружающим, для Анны Дмитриевны этого достаточно не было, скорее наоборот – как только поводов для придирок и холодного тона больше не стало, Наташа еще сильнее начала раздражать Ее Величество.
Раздражать скорее всего тем, что ее сын несмотря на огромное внимание особ женского пола, с которыми он разумеется, как любой уважающий себя мужчина флиртовал, неизменно танцевал с нею, даже когда она упорно игнорировала любые его попытки заговорить, пригласить на катания на санях или безобидное катание на реке [соглашалась Наташа только тогда, когда с ними плыла и вся их большая компания].
Что бы Анна Дмитриевна не мыслила – место свое Наталья Алексеевна Арсентьева знала прекрасно. Не учла императрица только того, что ее сын упрямством и волей пошел в них. И на любой отказ реагировал с улыбкой, которая значила лишь то, что он попытается снова и снова, смущая сердце раз за разом.
Наташа стоит перед ней, а она даже сидя излучает свою величественность и властность. Другой жены у Петра Алексеевича и быть не могла – другая бы сбежала при первой возможности. Наташа не дрогнет под этим взглядом, делая глубокий реверанс и понимая, что сейчас в голове Ее Величества проносится лишь то – насколько он глубокий и правильный.
Наташа знает, почему она здесь.
Придворные дамы шушукаются в сторонке – они окружают Анну Дмитриевну денно и нощно, а Лиза дает им уморительные прозвища, о которых если бы все эти дамы узнали, наверняка бы позеленели от злости.
— Что же вы, Наталья Алексеевна… — императрица растягивает слова, делая многозначительную паузу, за которую успевает оглядеть ее еще раз. — Я надеялась, что для моей дочери вы будете примером. А не той, кто ее шалостям потворствует. Я думала, воспитали мы вас именно так. Дурного влияния здесь не надобно.
Она всегда отчитывала ее прилюдно. При своем сыне, при Лизе, а может и при всем дворе. Наташа всегда молчала, понимая, что любой ответ кроме: «Прошу простите меня», будет совсем непозволителен. Возможно, именно этого от нее всегда и ждали, но никогда она не отвечала, не давая поводов к более решительным действиям.
— Простите, если разочаровала Вас, Ваше Величество.
Ее позвали еще до того, как Наташа успела хоть как-то помешать процессии найти Лизу в столь неприглядном положении. Иногда Наташа искренне завидовала Лизе, которой удавалось нарушать правила все возможные, а после счастливо улыбаться. Не бояться плыть против течения. Наташа воды все еще боялась, тогда как цесаревна плавать научилась от брата не хуже любого мальчишки. Но любила она непосредственную, яркую цесаревну куда больше, вот и охраняла этого мотылька от того огня, в который непременно пыталась цесаревна угодить. За это, ей впрочем, попадало т о ж е.
— Ваш покойный батюшка был человеком в высшей степени преданным. От того мы и взяли воспитывать вас наравне с нашими детьми. Но я всегда полагала, что вы разумная девица. А вы с Лизой по голубятням лазаете.
Всегда напоминать о том, о чем Наташа помнила и без того – что кроме фамилии отца, бывшего генерала, честного вояки, маленького поместья и бесконечных векселей с долгами. Отец под конец жизни без войны, с расшатанным ревматизмом здоровьем, из-за которого в прочих конфликтах участие принимать он не мог, пристрастился к бутылке, а за ней и к азартным играм, а после просто умер, оставив долги своим детям. Так Наташа и оказалась в огромном красивом дворце, в ее случае больше напоминающем клетку, где ее милостиво воспитывали вместе с наследниками в память о ее бесславно ушедшем батюшке. Где-то под Москвой осталось старое имени – все что было от былого величия пожалованных прежде за добрую службу имений. Остался, правда и титул графини, да только кому же такая графиня нужна – титул имеет значение лишь тогда, когда за ним следует весомое приданое.
— Не хорошо это, Наталья Алексеевна. Не разумно.
Наверное, только потому, что найти ей жениха оказалось не так просто даже несмотря на протекцию императорской семьи, она до сих пор жила при них и с ними, вынужденная сталкиваться с цесаревичем денно и нощно до тех самых пор, пока он не отбыл в казармы, а оттуда уже и на военные действия.
— Лиза свое получит, но и вы, вынуждена сказать меня расстроили.
И Наташа твердит свое: «Сожалею», крепче стискивая в руках вышитый платок, который ругая себя всеми словами вышивала для человека, рядом с которым никогда не должна была даже стоять.
***
Отчего-то с ее рождением связано было до нельзя много легенд. Столько слухов, пожалуй, не ходило ни в день Рождения Саши – день памяти Александра Невского [один юродивый на площади, как сказывают, пророчил ему счастливую жизнь, аки у звезды на небе], ни в дни рождения ее сестер — Кати и Аннушки, ни в дни рождения всех тех ее братьев, которые не дожили до двух лет. В тот год в России вообще было много странных знамений, которые простые люди сразу окрещивали то ли святыми, то ли дьявольскими. Впрочем, отец ее и вовсе у них почитался за Антихриста каждый раз, как только заставлял сбривать очередную бороду. В августе невиданные звездопад пронесся над землей и если теперь Лиза, блистающая на уроках астрономии знала, что это явление обычное и научно объяснимое, то прочие люди почитали это за дурной знак [понять бы почему – для нее падающие звезды были скорее чем-то божественным]. Осенью случилось наводнение, а зимой вдруг распустились вербы, так что родиться в «дурной» год видно означало с самого рождения оказаться в плену самых подчас невероятных легенд.
Говорили, что родилась она на палубе трехмачтового линейного корабля первого ранга имевшего при себе говорящее название «Архангел Михаил» и более 100 пушек на борту. Архангел Михаил – предводитель небесного воинства, изображаемый с мечом и одноименный корабль действительно соответствовал своему имени и являлся едва ли не жемчужиной всего отцовского флота, построенный, как говорят по его личным чертежам. Как говаривал отец: «Как только этот корабль показывался шведы хвосты поджимали». И она бы действительно могла бы на нем родиться, учитывая тот простой факт, что отец имел обыкновение брать матушку с собой почти везде (в особенности в такие места, куда женщин брать не следовало, но Лизаветин отец вообще делал такие вещи, которые до него, пожалуй, почитались богохульными, так что это была самая малость). И, пожалуй, она бы даже мечтала родиться где-нибудь в море, соответствуя легенде о том, что такое место рождения непременно будет нести в себе отпечаток на всей ее судьбе.
Люди, разумеется праведно перекрещиваясь, говорили, что морской бог позволил ей появиться на свет, а после ставили свечки в храме о здравии царя-батюшки.
Иностранные послы мигом разносили по своим странам вести о том, что пожалуй из всех детей императорской четы она «создание в высшей степени прелестное», мигом описывая тот факт, что милее новорожденной не случалось им наблюдать. Поговаривали даже, что не обошлось без колдовства – ведь как иначе мог появиться на свет такой совершенный ребенок [тут все сказочники разумеется забывали о том, что и ее любимый старший брат и сестры не отличались какими-то уродствами]?
Но было все куда проще и, как ей кажется, совсем не романтично. Вместо палубы корабля — порядком скромный подмосковный царский дворец в Коломенском [не в Петербурге только потому, что в то время свирепствовала там холера, а иначе в столь нелюбимую родителями Москву никто бы и не поехал], вместо морского бога – Прасковья Алексеевна с трехлетним сыном Васей, первыми услышавшими ее крик в тот день и около десятка лекарей, да повивальных бабок. Но день был необычным для суровой зимы, солнечным и даже теплым – слышалась капель с крыши. Тем временем армия победным маршем, одержав победу над непобедимой шведской армией вступала в Москву. Извиваясь бесконечной змеей, по улицам Москвы двигались полки, под триумфальными арками проходили усатые победители непобедимого ранее короля-викинга, несли трофейные знамена, носилки Карла XII, вели знатных пленных — генералов, придворных короля, тысячи и тысячи солдат и офицеров. А мой отец, получив известие о том, что его жена благополучно разрешилась, увы, дочерью, вместо празднования победы три дня праздновал рождение дочери.
Так и вышло, что первые ее дни прошли под грохот пушек, радостные крики гвардии и ржание лошадей. Еще одна девочка в саду императорских дочерей, вроде бы и неудача, но радовались все на славу, а о дочерях царь Петр не привык жалеть. Перед ее колыбелью проносились дорогие подарки, сновали иностранцы и ближняя знать, пока она, укрытая кружевами, тюлью и муслином, лежала в своей колыбели и не помышляла не о чем, как о хорошем сне и теплом молоке. Все отмечали, впрочем, что ребенок невероятно улыбчивый – она имела обыкновение перед сном всегда улыбаться.
А после отец огорошил всю страну именем для дочери, которое непривычно резало слух – Елизавета, как звали мать Иоанна Крестителя, как звали знаменитую английскую королеву и как не звали ни одну девочку знатной фамилии до этого. Разумеется, после рождения Лизы, так своих рожденных девочек стали называть многие, вторя всемогущему Императору, но какое-то совсем небольшое время, Лиза была такой одной и кажется именно этого Петр и добивался.
Может морской бог ребенка и не хранил, но ангел-хранитель у нее действительно кажется был. Тогда как все страдали от оспы, которая и ее не обошла стороной, выздоровела она невероятно быстро и что главное – не стала рябой, как беспокоилась матушка, ведь «испортится такое красивое личико». Возможно, будь ее кожа изъедена рубцами этой страшной напасти, мало бы кто при дворе обращал на нее внимание, а возможно и сама Лиза не спешила бы сиять при дворе на каждой ассамблее и бойко отвергать приглашения самых известных красавцем Петербурга. Ее старшая сестра, которую болезнь пощадила в меньшей степени часто плакала из-за такой несправедливости. Лиза же, не понимая всей жестокости ситуации, показывала сестре язык, отбрасывая рыжие кудряшки с лица, а после убегая по длинным коридорам дворца от нянек и каждый раз убегая, Лиза натыкалась на один и тот же гобелен во всю стену – ей приходилось задирать головку и, покачиваясь с носка на пятки разглядывать его и фамильное древо, вышитое на нем. Огромное и ветвистое, тянулось оно к самому солнцу, увенчанному фамильным гербом. разумеется, на гербе были исключительно мужчины – продолжатели фамилии, продолжатели рода. Читать она тогда не умела, так что оставалось просто разглядывать это дерево, а после, будучи пойманной отцом и посаженной ему на плечи, тыкать в имена пальцами и узнавать кто это и почему.
Царских дочерей начали обучать грамоте довольно рано, ровно как и Сашу. Отец даже писал Елизавете и Анне маленькие письмеца, впрочем, без особой надежды на ответ в письменной форме, а не в виде заковырек и каких-то нелепых рисунков. За обучение их сначала всегда брался сам Борис Федорович, если только не был с отцом в военных походах, где была и ее мать. Он обучал Сашу, а девочкам находил учителей и тем самым, по желанию их отца «дабы не были глупы, как ослицы, ибо негоже царским дочерям неграмотными быть» учились писать, читать, а также изучали латынь и учились молиться [что было желанием скорее матушки, чем отца, который сам с большой неохотой ступал на порог храмов]. Лиза стремилась научиться писать быстрее старших сестер, а еще за тем поскорее, чтобы написать ответное письмо батюшке, рассказать про пятнистую собачку Ватрушку, про щипливого гуся и про Сашу, который дернул ее за волосы. К тому же, отец обещал за доброе учение привести гостинцы [что на самом деле могло быть чем угодно и даже совсем не детским], так что старалась она с двойной силой. Отец обещание исполнил и после первого письма, прислал с нарочным самое настоящие ожерелье с изумрудами и хризолитами «под цвет дочкиных очей». Лиза тогда разумеется плохо разбиравшаяся в ценности предметов и ожидающая, что отец «из-за моря привезет слона», которого видела в книжке Саши, расстроилась ужасно.
И снова она стояла перед гобеленом, умеющая читать, писать, говорить на французском и знающая лытань, умеющая выполнять простые танцевальные движения и обладавшая превосходным слухом. любопытная остроносенькая девочка неизменно интересовалась, почему на этом огромном гобелене присутствуют только одни иваны, владимиры и андреи и нет, скажем, ни одной кати или такой же как и она – лизы. учителя качали головой, пока заставляли ее учить историю собственного рода и в первое время просто умалчивали тот простой факт, что женщина никогда гордостью рода быть не может хотя бы потому, что сменит фамилию. так зачем же ее тогда изображать? Ничего выдающегося не совершить – выдающиеся дела женщины заканчивались там, где начинался ее муж. Но забивать этим юную прелестную головку цесаревны в то время этим никто не собирался. Подрастет – сама поймет. А как выдадут ее замуж, то уж наверное разберется.
Но замуж ее никто выдавать не спешил, а тайну с гобеленом она все же поняла, как только увидела собственных сестер непозволительно округлившихся и слишком уж важных, при этом безотрывно смотрящих на мужей и очевидно боящихся сделать что-нибудь не так. И никакой тебе царской величественности.
О достоинствах своей внешности Лиза знала хорошо – способствовали тому и увещевания придворных и особый интерес со стороны мужеского полу, который со временем превратился в бесконечные посвящения сонетов, стихов, обещания «голову за Ваше Высочество положить», бесконечных признаний и никому не нужных героических поступков (вроде нечаянного обрывания дворцовых цветов). За очередью отчаянных кавалеров, рыцарей, выстраивалась очередь царских особ и бесконечных герцогов, принцев и малолетних королей, невестой которых она могла бы стать. «Принцесса Елизавета такая красавица, каких я редко видел. У нее удивительный цвет лица, прекрасные глаза, превосходная шея и несравненный стан. Она высокого роста, чрезвычайно жива, хорошо танцует и ездит верхом без малейшего страха. Она не лишена ума, грациозна и очень кокетлива», — так писали английские послы при дворе.
Отвергая всех и вся, а точнее откровенно говоря не желая превратиться в своих сестер беззаветно любила Лиза только одного мужчину. И мужчина этот, как свойственно многим мужчинам, уходил на войну. И в желании непременно «положить живот свой за отечество», биться на дуэлях, да и в общем-то искать любой способ как побыстрее умереть все мужчины были одинаковы – словно это может покорить хоть одно женское сердце. Их праведная кончина.
Впрочем, ее любимый мужчина уходил скорее потому, что иначе нельзя. Не может наследник отсиживаться словно девушка за стенами столицы. Так отец сказал Александру, ее брату, получившему по выпуску из школы и проведения в армии первый офицерский чин, а теперь безвозвратно уезжающему.
И по крайней мере она обязана была проститься.
***
— Ну ты определенно точно хочешь несколько сердец разбить, раз сама сюда приехала, а сестрица?
Саша с привычной для себя широкой и открытой улыбкой [словно он собирается не на войну, а на охоту] раскрывает объятия, уютные и крепкие, прижимая к своей груди Лизу, которая быстрым небесно-голубым вихрем пронеслась по внутреннему двору казарм, кажется не мало не смущаясь самому факту своего здесь нахождения. Смущалась не она и глазела на себя разумеется тоже – а вот часовые на посту, кажется шею все же свернули. Девушка здесь, тем более знатного происхождения и уж тем более из императорской фамилии дело невиданное отчасти. Отчасти же ее в этом пышном кринолиновом платье цвета весеннего неба, считали и за свою – полки были личным детищем ее отца, ее брат получил должность будучи офицером здесь же, так что иного от дочери великого императора, наверное и не ожидалось, и все же появление Елизаветы Петровны, кажется, имело свое действо, наподобие эффекта от маленького фейерверка.
Сашу она застала уже полностью готовым – в новом мундире и с нетерпеливо переступающему с ноги на ногу Плутону – великолепному вороному жеребцу, с таким крутым нравом, что конюшии частенько опасались близко к нему подходить. За глаза звали «зверюгой» - конь на голову был выше своих же собратьев, а еще раза в два быстрее и норовистее. Коварный Плутон, названный в честь бога смерти и загробного мира, словно осознавая свою кличку не упускал возможности укусить или же ущипнуть хотя бы немного зазевавшегося простака, который повелся на его небывалую красоту, опрокидывал ведра с водой, приносившиеся ему в конюшни, лягался и в общем-то вел себя так, что несмотря на выдающуюся стать его грозились и вовсе застрелить. А потом появился Саша, который уговорами, невероятным терпением, своим собственным характером и невиданным упорством [а иногда и упрямством, но тут они с конем оказались похожи] коня покорил и тот стал его верным другом. Таковым он и остался, стоящий теперь здесь и ожидающий отправления прочь в неизвестные края на встречу с призрачным неприятелем. Они оба вели себя столь беззаботно, что хотелось возмутиться и напомнить, что идут они на войну, где между прочим умирают. Будь ее воля – войны бы она запретила, но ее воли на это не было. Вот и стояли великолепный конь и не менее великолепный всадник, выделяясь невольно на фоне сгрудившихся вокруг солдат.
Лиза отпускать его не хочет. Она с трудом в свое время, еще в детстве, переживала его отъезд в школу, из которой возвращался он домой только по праздникам, да на лето – неизменно вытянувшийся как минимум на пару сантиметров. После – он служил, меняя мундир за мундиром, но все же никогда не было такого серьезного и отчаянного чувства потери, какое одолевало ее сейчас и о котором ровно до того момента, пока не увидела его полностью собранным во дворе казармы, она и не помышляла. Он сейчас, впрочем, тоже казался ужасно высоким, хотя Лиза всегда была на голову выше всех остальных барышень их ближайшего своего окружения, по сравнению с Сашей или отцом всегда ощущала себя несоизмеримо маленькой и какой-то хрупкой.
Саша, ее милый Саша, который несмотря на то, что форма всегда ему шла, всегда безупречный, блистающий на балах и маскарадах, теперь должен был отправиться туда, где как и здесь пахло порохом и лошадиным потом, переругивались солдаты, а еще умирали. Саша и смерть в голове совершенно не укладывались. Она отчасти ненавидит себя за такое позорное проявление чувств, да тем более на людях – батюшка бы не одобрил, но предательски шмыгает куда-то в жестковатую ткань мундира. Отпускать его насовсем оказалось куда сложнее, чем когда-либо еще.
— Ну, выдала трагедию, — он мягко отстраняется, поднимает за подбородок, вытирая рукой в перчатке слезы, скопившиеся в уголках глаз. — разве так провожают будущего героя войны? — он по-мальчишечьи усмехнется, словно само слово «война» это так, пустяк.
У Саши всегда так было и во всем – казалось, серьезности в нем не было совсем. Он одинаково легко рассуждал обо всем на свете, словно никогда и не думал о том, что может произойти что-то плохое или по крайней мере прекрасно делал вид, что уверен в хорошем исходе. Его уверенность в этом обескураживала и привлекала. Они с Лизой что два солнца и от того, пожалуй, столь близкие друг к другу несмотря на разницу в возрасте, пусть и не столь существенную. Оба светлоглазые, светловолосые, влюбляющие в себя вольно и невольно. Если от Лизиного обаяния жертвами падали мужчины, то от Сашиных взглядов и фраз были сражены в самое сердце уже дамы. Он заговаривал со всеми с неподкупной простотой, доставшейся от отца, при этом бессовестно флиртуя [порой даже с дамами замужними, но кто же что скажет наследнику престола и будущему государю?] и располагая к себе с одного взгляда и полуслова. В своих невинных ухаживаниях ничего плохого он не видел, как возможно и не видел ничего плохого в коротких романах, коротких свиданиях и пустяковых поцелуях. Да и даже если дама вознамерилась возненавидеть несносного возлюбленного, так уж выходило, что не могла – слишком он был мил для этого.
Никто не может ненавидеть солнце, потому что никто не сможет долго без солнца прожить.
И оскорбленной барышне в итоге хотелось хотя бы его просто в и д е т ь, купаясь в этом вечном золотом солнце.
Наташа иногда говорила ему, что у него вечно все несерьезно и нельзя так с чувствами играть, будучи пожалуй единственным человеком, кто мог честно ему все и сказать. И в такие моменты Лиза замечала, как всегда смеющиеся голубые глаза становятся будто темнее, а он сам словно становится старше. Впрочем, такое преображение длится совсем недолго, а после Саша снова становится собой – веселым, вечно играющим с судьбой цесаревичем, имевшим небесным покровителем Александра Невского, но названным в честь Александра Македонского.
— Я думала не успею, мы так торопились, даже кареты не дождались!
— Стало быть неслись на лошадях по Петербургу, внушая ужас всем матерям, которые воспитывают благонравных дочерей, — весело подмигивает Саша, Плутон фыркнет громко, обдавая теплым дыханием, мотнет головой, Саша похлопает того по морде, успокаивая. Определенно выдвинуться вороному уже не терпелось, как казалось и самому цесаревичу – у них у обоих в глазах горел почти азартный огонь. Лиза стремления мужчин повоевать друг с другом не понимала, но мужественно эту особенность их терпела. — Господа, подите-ка сюда! — Саша махнет рукой, по-простому подзывая к себе неожиданно вытянувшихся по стойке смирно Семена, Матвея и Пашу. — Уговор наш помните? — придирчиво одергивает их плащи, посматривает почти лукаво, но лукавство это замечает только Лиза, для остальных Саша остается серьезным и почти грозным.
Об этом «уговоре» слышит она давно, но добиться что же это, так и не смогла. Пажи сохраняли мужественное молчание даже от нее, а уж от нее у них не могло быть никаких тайн, но очевидно тайна с Сашей оказалась сильнее.
— Не извольте беспокоиться, Ваше Императорское Высочество! – бодро отвечает за всех Матвей, Саша похлопает его по плечу, привычно по-свойски, словно младшего брата и снова возьмет Лизу за руки.
Поделиться32024-05-20 20:35:36
Дворцовая зала была по истине огромной. Тем более огромной она была для еще совсем мальчишек, которые уже несколько минут [а для мальчишек их возраста простоять смирно минуту уже можно было считать за настоящий подвиг] стояли в ней в слегка нелепо выглядящих на юношеских плечах камзолах и с приоткрытыми ртами разглядывали убранство потолка, затейливые узоры на канделябрах и от нечего делать строили друг другу рожи в огромных дворцовых зеркалах, после чего дружно покатывались со смеху. Знакомы мальчишки толком не были – их семьи откомандировали их сюда по первому капризу императора почитая подобное действо за честь. Честью оно и было, что каждому втолковали по-своему. Император подбирал пажей для младшей дочери исходя из того простого факта, что приглашать к ней молодых людей из состоятельных и влиятельных семей идея плохая – во-первых, когда у одной семьи слишком много власти [борис предлагал своего сына, но тут всегда ласковый на просьбы соратника государь отказал, сославшись на то, что лучше будет, чтобы с цесаревной был кто-то попроще] выливается это в бунты, а во-вторых, не приведи господь решат, что с его дочерью на одной ступени стоят. Так что выбор пал на детей мелкопоместных дворян, которые получили титул за добрую службу, но толком не успели разбогатеть, а то и вовсе не дворян, а добрых слуг императора.
Мальчишкам, которых сорвали из семейных гнезд в общем-то было все равно от чего выбрали их – каждый считал, что исключительно из-за того, что личность он крайне выдающаяся, о чем непременно доложили императору. Да и что можно взять с тринадцатилетних мальчиков, которые на какое-то время скорее станут приятелями в забавах еще совсем юной цесаревны, нежели защитниками и спутниками? Именно поэтому, как только за мрачным, долговязым мужчиной, сопроводившим их в приемную дворца оказалась закрыта дверь и будущие пажи ея императорского высочества цесаревны елизаветы петровны поняли, что в ближайшее время им не грозит встреча с кем-то более грозным, они устроили шуточную баталию на выдуманных шпагах.
Мальчишек было трое.
***
Александр Петрович Романов, будущий Император и Самодержец Всероссийский уже несколько минут к ряду с юношеским любопытством смотрел в небольшую щель в приоткрытой двери, постепенно все больше забавляясь открывающейся сценкой. Три мальчишки устроили ни дать ни взять маленькое Полтавское сражение прямо на гладком дворцовом паркете, не мало не смущаясь того факта, что находятся прямиком во дворце. И оно и к лучшему – для Лизы такие товарищи куда надежнее, нежели бесконечно жеманничающие дочки придворных или упаси господь васька апраксин, которого скорее ей придется защищать нежели наоборот. Прежде чем отбыть в армию, Саша испросил у отца позволения самостоятельно решить – подходят будущие пажи его сестре или нет. Отец махнул рукой, мол, занимайся, коли хочешь, матушка позже вечером в очередной раз посетовала на то, что они отдали воспитание Елизаветы ему, мальчишке, от чего ее характер становится все несноснее с каждым месяцем. Саша, решив поберечь материнские нервы, не стал говорить, что с каждым месяцем по его мнению, она становится разве что очаровательнее и ему бы совершенно не хотелось, чтобы его сестра при «правильном» воспитании превратилась в копию княжон Шуйских или графини Лаудерман. Увольте покорнейши.
Дмитрий Павлович Зотов, их бессменный воспитатель, терпеливо стоял рядом, придерживая в руках папку, где кажется содержались самые краткие сведения о мальчиках, которые до конца кажется и не осознавали, что им предстоит, воспринимая это как веселое приключение. Один повалил другого на пол, то ли собираясь поколотить, то ли просто издав победный клич отпустить восвояси.
Дмитрий Павлович кашлянул. Саша поворачивается, подмигивает заговорщически, подзывая учителя самому полюбоваться на будущих пажей, растягивая тонкие губы в лукавой улыбке. Иногда цесаревич совершенный мальчишка, даже не юноша, за которым позже целая империя. Временами Дмитрию Павловичу казалось, что он и не осознает до конца, несмотря на все уроки, воспитательные беседы с Апраксиным, что свалилось на его голову и тяжести страны, раскинувшейся от одного моря до другого не ощущал. Во всем этот статный, гибкий юноша находил повод для веселья или интереса, никогда ему не приходилось видеть Александра Петровича в унынии или плачущим – даже когда охотничья собака разыгравшись оставила на руке цесаревича ощутимый след [что с собакой после сделано было Дмитрий Павлович не ведал] он не плакал, плотнее сжимая губы и заверяя всех чистым детским голосом, что ему совершенно не больно.
На правом его предплечье до сих пор шрам остался и это, пожалуй, единственная деталь, которую в облике цесаревича можно было принять за изъян.
Вдоволь налюбовавшись неуемными мальчишками, Саша разворачивается, сверкая глазами-озерами и вопрошает:
— Ну а кто же из них кто, Дмитрий Павлович?
Тот шуршит бумагой, подходит ближе, чтобы тоже видеть этих совсем еще мальчиков. В одном цесаревич определенно прав – его младшей сестре не придется с ними заскучать в его долгое отсутствие.
— Семен Иванович Бесстужев, — Зотов кивнет подбородком на наиболее серьезного из трех юношу, светловолосого и на вид самого хрупкого с аккуратно зачесанными волосами и в одежде, которую еще успели помять детские игры его будущих товарищей [возможно по несчастью]. — Его родителей, по крайней мере батюшку, Ваше Высочество должно знать. Князь Бесстужев. Большой любитель искусства. Крепостным театром заведовал. Иван Кириллович.
Саша хмурится, между бровей пролегает складка, что говорит о крайней степени задумчивости. Но как только вспоминает то, что требовалось, лицо снова напоминает картины, на которых изображают херувимов. Возможно, именно с таких детей, каким был цесаревич их и писали.
— Как же как же, помню. Писал оды еще на месте не сиделось, но последняя кажется батюшке пришлась совсем не по нраву и должность придворную он другому отдал, — пожимает плечами, словно это какой-то пустяк – ссылка опального поэта в Новгородскую губернию в отдаленное свое имение. Цесаревич может и не хотел никого обидеть, по крайней мере нарочно, но для некоторых эта особенность его характера казалось бестактной, а кому и проявлением равнодушия. — Но разве что у Бесстужева есть сын?
— Так…не привенчанный он, Ваше Высочество, — учитель понижает голос до какого-то благоговейного шепота, словно выдает страшную тайну происхождения юноши. Эффекта на Сашу она, впрочем, не произвела. — Да и мать, ходили слухи из крепостных артисток.При дворе таких как Семен Иванович на самом деле было больше, чем хотелось, а отец на моральные правила глаза предпочитал закрывать, заботясь о том, чтобы его указы соблюдались. Да и что там – не секрет был для уже в общем-то взрослого Александра и то, что отец сам «забавлялся» с крепостными из того же театра, да и не только. Но если уж мама эту тему не поднимала, то и он был не в праве, решив для себя, что это сугубо-интимные дела внутри семьи. Да и к тому же, попробуй кто при отце начни его поучать – отец не посмотрит ни на должность, ни на степень родства – высекет и отошлет на границу.
[float=left]
[/float]Саша воспитывался в этой круговерти бесконечных праздников пополам с войнами – смесь гремучая. В один день ты видишь, как льется рекой вино прямо из бочек, шуты и карлики с карлицами бегают вокруг, на столах стоят всевозможные яства, а дамы, все еще опьяненные от новых правил, где можно было вести себя по-европейски распущенно, позволяют кавалерам больше, нежели следовало. В другой – в столицу приходят гробы, повсюду гвардейцы, пахнет кровью и порохом. Так и жили.
Саша до сих пор помнит, как в один из таких буйных, почти безумных праздников, подсела прямо перед ним одна из таких барышень. Вокруг продолжали веселиться придворные – все смеялись до неприличия громко [у кого-то даже вино носом пошло до того он громко хохотал], фейерверки запускали по седьмому кругу, кто-то дразнил попугая, а о нем на какое-то время все забыли, оставив сидеть на мягком стуле. Он съел пару пирожных, даже попробовал вина, которое сразу ударило его восьмилетнего в голову, заставив мир поплыть перед глазами. Музыка оглушала, а от свечей неожиданно обдавало адским жаром. Голова кружилась и трещала, а зрачки расширились, сделав глаза голубые совсем темными. Где-то напротив различался силуэт отца, на коленях которого сидит и хохочет, прикрываясь веером какая-та барышня в напомаженном парике. И все крутится и сверкает, словно карусель на ярмарке, на которую однажды его сводили.
Крутится и крутится. Блистает и сверкает.
Хохот.
И не сойти. Не остановить.
И тут появляется она, присаживаясь на колени перед ним. От дамы нестерпимо пахнет каким-то сладким ароматом, который заставляет почесать нос. У него и без того голова болела, а от таких приторно-сладких ароматов она начала раскалываться, словно в нее поместили огромный царь-колокол. Саша отодвигается на стуле, вжимаясь спиной в стул, но тело все какое-то мягкое, все одно что кисея, не слушается, так что остается сидеть на месте.
Барышня улыбается, растягивая красные губы в улыбке.
«Хотите дружить будем, Ваше Высочество?» - спрашивают алые губы.
Зрение отказывается фокусироваться, все плывет кроме ее лица и этих алых губ, он мотает головой, но кажется получается эффект совершенно обратный и выходит полукивок. Он опускает взгляд, случайно упираясь взглядом в родинку в ложбинке между грудей. В голове становится совсем мутно и главное ужасно хочется на воздух. Прочь.
«А вы потрогайте, Ваше Высочество», — она подмигивают, алые губы продолжают улыбаться, а дурман исходящий от нее уже нестерпим.
Ему почему-то алые губы напоминают скорее оскал, а их цвет кровь.
Она и правда прикладывает его руку к теплой коже, а ему нестерпимо хочется очистить нутро, ему совершенно никого т р о г а т ь не хочется, хочется вон, хочется убежать только если бы ноги слушались.
Карусель крутится и крутится – не сойти.
Саша не помнит, как оказался в темном коридоре, покрытый холодным потом и шатающийся. Невероятно одинокий, неожиданно маленький. Помнит, как свернулся калачиком прямо на диване, напротив величественного отцовского портрета в галерее, передергиваясь и испытывая желание стошнить еще раз [до этого его вывернуло где-то на выходе].
А потом появилась она. На ней было простое белое платье, а тяжелые косички аккуратно уложены в девичьи локоны, украшенные цветами. Она присела перед ним на колени, мягко погладив по влажным волосам не мало не смущаясь тому, что от него наверняка отвратительно пахло. От нее же пахло прекрасно – никаким не вином, не душным запахом роз. От нее пахло чем-то чистым и свежим и в своем белоснежном платье пришедшая девочка представилась ему самым настоящим ангелом. Он приподнялся, все еще передергиваясь всем телом, вглядываясь почти с жадностью в ее огромные синие глаза, казавшиеся после темных глаз той-женщины-с-родинкой, двумя чистейшими источниками.
— Ваше Высочество, вы не вставайте, вам видимо очень плохо? — ангел заговорил с ним чистым высоким голосом, позволяя опуститься его голове к себе на колени. Она перебирала его волосы. — Я вам попою, моего братика это успокаивало, когда я ему пела. — Я с вами посижу. Никуда не уйду, вы поспите.
Ангелов при дворе не много.
Но она была одним из них.— Ваше Высочество? — голос Зотова выводит из минутной мрачной задумчивости, Саша встряхнется.
Да, что до происхождения Бесстужева – есть ли ему дело? Есть ли ему дело, что его мать скорее всего безродная женщина? Есть ли дело, что родители его не венчались? Нет. Нет, потому как придворная жизнь – целый букет развратности и желаний самых низменных. Так захотел жить его отец и обвинять в такой жизни других – не Сашина задача.
— Главное, чтобы не дурак, Дмитрий Павлович. На вид умен – а там посмотрим, — выдает в итоге Саша, кивком требуя продолжать. — Что оставшиеся двое? Двое с ларца одинаковых с лица, ей богу.
В этом цесаревич был отчасти прав – оставшиеся мальчишки оба были до нельзя кудрявыми, словно родные братья, примерно одинакового роста и оба невероятно громкие.
— Первый – Матвей Михайлович Строганов. Отец его из Ростовской губернии, воевода. Владеют не более 200-ми душами и маленьким поместьем. Второй — Павел Александрович Богославский. Сын выборгского коменданта. Его стараниями сюда и определен.
Отец и вправду постарался приблизить к Лизе юношей настолько простых, настолько далеких от двора, что стоило бы порадоваться. Эти, в отличие от того же Васьки не станут пытаться задирать носов ничего толком из себя не представляя. Больше всего на свете не хотелось ему, чтобы его сестра стала как та-самая-женщина. Не хотелось и чтобы стала как сестры, во всем прилежные, добрые и очевидно очень правильные, выращенные, чтобы стать чьими-то женами. Такая же участь должна была ожидать и Лизу, но каким-то образом обошла его сестру, родившуюся под счастливой звездой, пока обошла. Больно ее все любили. Пуще кого бы то ни было. И возможно, больше него самого. Но ревностию по отношению к родителям, Александр Петрович Романов не отличался.
— Ладно, давайте-ка поближе на них взглянем, пока они носы друг другу не расквасили, Дмитрий Павлович. А то не ровен час и Лизетт будет калек разглядывать, — расправляя плечи, и легкой пружинистой походкой устремляясь внутрь покоев говорит цесаревич.
Мальчишки замирают, как вспуганые воробьи. Взъерошенные, желторотые, с горящими глазами, разглядывая вошедших и очевидно прикидывая насколько с ними нужно считаться, припоминая те немногочисленные уроки, даденые родителями [родители их впрочем, столь провинциальные и далекие от двора, что вряд ли имели представления о том, что собственно наказывать детям]. Три пары глаз впиваются в лицо молодого, но явно старше их юноши и его спутника, заодно и оценивая, вызывая таким любопытством улыбку на его губах.
— Не правильно шпагу держите – этак вас сразу заколят, сударь, — неожиданно говорит юноша, рассекает такой же воображаемой, как у них шпагой воздух. — Вот так следует, если хотите нанести ощутимое ранение. Что же господа, вы я полагаю будете пажами цесаревны?
Слово «господа» на них произвело эффект магический, добавило важности, они, кажется, даже несколько раздулись, выпятив вперед грудь.
— Что же, тогда как ее брат, вынужден буду задать один вопрос.
— Так вы, значит… — мальчик, который по всей видимости был из Строгановых приоткрыл рот и быстро его закрыл, но кажется смотреть они стали куда более опасливо.
— Подумайте хорошо, а потом отвечайте. Кому надобно быть преданным?
Ответы посыпались рекой, перечисляя всех, начиная от Бога и заканчивая разумеется Императором [подумать хорошо, это все же не для мальчишек, нет]. Саша поднимает руку, затянутую в белоснежную перчатку, они затихают, лихорадочно глазами сверкая и желая получить ответ.
— Запомните, что скажу и запомните хорошенько. В первую очередь вы служите Цесаревне. В первую очередь – преданны ей безусловно, до конца жизни или же пока она сама не отпустит. Не мне и даже не… — он перешел на таинственный шепот. —…не моему отцу. А ей.
Их глаза стали совсем огромными, словно им доверили какую-то тайну или же они стали участниками заговора, ну или просто только что услышали страшную крамолу. Постепенно, впрочем, испуг с их лиц сходил, как ни бывало, уступая место интересу. Перед ними маячило что-то запретное, а значит невероятно интересное.
— Ее слово – закон непреложный. Ее желание – ваша обязанность наипервейшая. Если надобно будет выбирать, чей приказ выполнять – выполняйте ее, даже если под страхом смерти. Расстроите, обидите или подведете – пеняйте на себя. Уразумели? — он неожиданно весело подмигивает им, словно сказал что-то очень смешное, выпрямляясь.
Они сглатывают почти одновременно и кивают. Молча, видимо слишком потрясенные услышанным.
— И вот еще что – чтобы хорошо ей служить, вам между собой тоже стоит поладить, господа. Для этого самим дружным надо быть. Слово даете? — он протягивает им руку, снимая перчатку.
И они его ему дали.
Солдаты топчутся вокруг, до ушей долетает карканье: «Коли!» и «Ровнее держи, чего как рохля?», а ей безумно не хочется, чтобы он руку отпускал. Да, Саша носил мундир, да служил в армии и да, батюшка сам в артиллеристах проходил, обучаясь военному ремеслу, да только никак не мог Саша в этом же мундире представиться в копоти пороховой, раненый или итого хуже… ну нет, она умирать никому не позволяла. Ни Саша, ни даже вот этим солдатикам, что пойдут среди прочих с ним. Не нужно! Нельзя!
— Ну отпусти уже меня, право слово, неловко. В первый раз будто, — Саша выворачивается таки из объятий, повелительно глядя на ее лицо. — Оборочусь не заметишь.
[float=right] [/float]— К моему дню рождения вернись, — звучит это не менее повелительно, словно он может рассчитать точное время за которое сможет вернуться точно в срок.
[/float]— К моему дню рождения вернись, — звучит это не менее повелительно, словно он может рассчитать точное время за которое сможет вернуться точно в срок.
— Будет исполнено, госпожа моя, — он усмехается, а потом делается серьезнее и еще кажется красивее. — Как только увидишь на небе семизвездие Ориона на юго-востоке, под ним увидишь самую красивую и яркую звезду, мерцающую что и переливается разными цветами – Сириус, тогда и я вернусь. Как только ее увидишь.
— Обещаешь? — она требовательно протягивает руку к нему и он просто кивает, обещая, что непременно вернется в срок.
Он всегда так обещал. И главное – исполнял в точности.
Лиза стоит на ковре с диковинными узорами и они прочно впиваются в ее память – так упорно она его разглядывает, отказываясь поднимать голову. Материнский взгляд прожигает на ее лбу огромную дыру и она чувствует волны негодования, которые от матери исходят. Будь на ее месте умненькая и во всем послушная Аннушка или по крайней мере покладистая и сдержанная Катерина, то наверное материнский гнев был бы смягчен, ограничившись выговором и отправлением в свои покои, чтобы «подумать над своим поведением». Лизе всегда это казалось глупостью – ведь сестры над своим поведением и не размышляли вовсе, вместо того играли себе в «ладушки», плели косы и просто ждали, когда их выпустят. Ни о каком сожалении, которое они выказывали при родителях, речи и не шло.
И это действительно было проще, нежели вот так стоять и упрямиться, не произнося ни слова «прости», пялясь на мыски своих туфелек и виноградные лозы на ковре изображенные.
Но врать она ненавидела. Ей ни капельки жаль не было и извиняться, по ее мнению тоже было не за что – Настасья Григорьевна как есть набитая дура, так оно и есть. Сказала, как считала нужным, что она набитая-дура все еще заслуживала по Лизиному мнению. Это ведь в конце концов она в окружении стайки прочих девочек, толстушка с вечно измазанными в чем-нибудь сладком [Лиза и сама сладости обожает, но ест их по крайней мере осторожнее] вроде карамельного сиропа от яблок, с жиденькими волосами, эта дурнушка смела что-то ляпнуть про Сашу. Мол, что цесаревич-де и не красив вовсе, да и воспитан дурно. Да, уцепилась Лиза за ее волосы [было бы там за что цепляться]. И да, княжна старше ее на несколько лет, куда мощнее и шире в плечах, но отбиваться совершенно не умела. После, в слезах, с расквашенным носом, она жаловалась на то, что Лиза «аки дикая кошка» набросилась и едва ли ее, несчастную не убила. Все это как раз и было враньем, но так как пострадала она куда сильнее самой Лизы, у которой замечено было разве что пара царапин на шее, решено было на ковер привести Лизу, а с Анастасией пусть разбираются родные.
Лиза знала, что говаривали иногда придворные. Что она, несмотря на всю прелестность своего существа, дитя крайне избалованное и невоспитанное. Другие девочки сидят чинно с мамками и няньками, вышивают или музицируют. Лиза тоже умела музицировать, вышивать терпеть не могла, но совершенно согласна не была с тем, что такие как княжна Берестова имели право называться в о с п и т а н н ы м и.
Ей всего десять – пролепечи пару покаянных слов и отпустят, махнут рукой и скажут бог с тобой.
Но она молчит, а терпение Анны Дмитриевны не оказывалось безграничным.
— Так что же ты, отказываешься меня слушаться? Не пойдешь перед ней извиняться?
Лиза вскидывает голову, сверкает возмущенно, совсем не покорно глазами-изумрудами, упрямо поджимает губы и мотает головой. Нет мол, ни за что не стану.
Мать тяжело, неожиданно устало поднимается со своего места.
— Эй, Ванька, принеси мне розгу. Распустили тебя совсем… — она словно говорит сама с собой, не глядя на Лизу.
Лизу передергивает, но она уже решила мужественно терпеть, представляя себя древней христианской мученицей во время царствования Нерона [недавно проходили на уроке] или же Жанной Д’Арк. Розги – вещь страшная, но она не шелохнется, только крепче сжимая губы.
Мать возьмет ее за подбородок и пристально вглядывается в глаза, находя в них отражение отцовское, нежели свое и вздыхая тяжело. Возможно, ей совсем это и не хочется делать, но ее мать если уж что-то решила, то исполняла. Никогда еще никто не видел, чтобы она слова свои забирала обратно.
— Руку.
И Лиза протягивает, вглядываясь в материнское лицо и пытаясь понять, что она сейчас чувствует и жаль ли ей ее, Лизу. Отец никогда их не бил, оставляя это матери, за что она иногда даже его бранила, говоря что «цербер я им что ли?». Но материнское лицо оставалось бесстрастным, словно маска с маскарада.
Может потом Лиза поймет, что только такое лицо и позволяло здесь выживать – когда не поймешь, больно тебе или радостно. Когда никто не может угадать – не страдаешь ли ты от еще одной измены мужа.
Розга с отвратительным свистом опускается на раскрытую ладонь. Кожу, нежную кожу детских еще рук обжигает волна жара, но Лиза терпит буквально впиваясь в лицо матери глазами, чтобы не позволить себе расплакаться. Сестры бы тот час запричитали бы, расплакались бы, их бы отпустили раньше и с меньшими «боевыми ранениями», как говорил отец. А ее упрямое молчание и отсутствие слез жалости не вызывало. Красные полосы расползаются по рукам, когда звучит последний удар. Слезы все же жгут глаза, но не текут, она прикусила губу до крови.
Дочь Петра Великого плакать из-за каких-то розг не станет.
Не станет точно.
Мать откидывает прут подальше, удерживает дочь за плечи.
— Думаешь, за Настьку бью? За то что брата защитила? Нет, Лиза, не за это. С ней я отдельно поговорю и с матушкой ее. Перечить мне вздумала? — на лицо набегает темная туча, красивые голубые глаза темнеют тоже. — Отказываешься выполнять то, что велю? Велю извиняться – будешь извиняться. Перечить кому хочешь можешь, а в семье не смей. Ни отцу, ни мне. Ступай теперь, с братом попрощаешься, — она отпускает ее плечи, неожиданно устало опускается на диван, словно экзекуция выбила из нее последние силы.
Лиза не помнит, как покинула покои матери, помнит зато как быстро бежала сквозь дворцовые двери. Сквозь одну, вторую, третью. Дворец кажется бесконечным парадом этих дверей, покрытых сусальным золотом. Они молча распахиваются перед ней, спотыкающейся и мчащейся п р о ч ь, мимо парадных портретов, зеркал, отражающих детскую фигурку в еще детском кружевном платье [пройдет еще два года, прежде чем ее официально можно будет сватать]. Двери открываются и закрываются за ней, а она все бежит и бежит, не чувствуя ни боли в руке, ни обиды, все бежит и бежит. Одна, вторая, третья. Одна, вторая, третья.
Бежит, пока не наталкивается буквально, не врезается, не впархивает в объятия Саши на самом крыльце. И бьется в этих объятиях, словно раненая птица. Он всегда ее так и звал «пташка». Саша кажется обескураженным таким неожиданным поворотом, шепчет ей что-то успокоительное, а она лишь отчаяннее хватается за школьный мундир, его шляпа падает с золотистых его волос. И только в объятиях брата, она наконец рыдает, совсем как ребенок от боли и несправедливо причиненной обиды, от стыда и оскорбленной кажется гордости.
— Ну, пташка, будет тебе. Неужели так больно отхлестали? Ээ, да разве это страшно? Знаешь как нас колотят? Но я волшебное средство знаю. Сейчас не больно станет, гляди, — он заставляет ее посмотреть на свое лицо, улыбается тепло и ободряюще, расправляет ее руку, сжатую в кулак и разглядывает следы от розг. А после тихонько дует на образовавшуюся рану забавно вытягивая губы. И боль правда уходит, а она прерывисто хохотнет сквозь слезы. Он снова поднимает на нее голову, прекратив сосредоточенно разглядывать пострадавшую руку. — А что говорил? Нам один странник старый это средство подсказал.
— Все ты придумывешь, Саша! – вырывается у нее, а слезы постепенно высыхают. Дети быстро забывают нанесенные обиды.
К ним подходит офицер, кланяется, а Лиза отчетливо понимает, что Саша сейчас ведь уйдет. И никаких сказочных историй, которые у него получались лучше, нежели у специально приставленных для этого баб. Не будут они ловить кузнечиков по утрам. Смеяться над рисунками в книжках. Никто уж не будет изображать дракона, не станет никто так про звезды рассказывать.
— Пора, Ваше Императорское Высочество.
И это «пора» поистине звучит как приговор. Приговор ее счастливой и беззаботной жизни, поэтому она цепляет за камзол и держит так крепко, что снова заставляет опуститься перед собой на колени [после Саша станет шутить, что с детства опустить мужчину перед собой на колени ничего ей не стоило]. Он похлопает ее по щеке. От него всегда пахло теплом. Теплом и надежностью.
— Да я же не навсегда, — но она упрямо мотает головой. — Тогда давай так. Как только наступит ранний вечер, увидишь однажды три яркие звезды на юго-западе. Ты их узнаешь – они в треугольник образуются. Вот так, — он пальцами показывает геометрическую фигуру. — Там они будут, где заря догорела. Это Вега, Денеб и Альтаир. Увидишь их и я вернусь. Непременно их высматривай.
— Обещаешь? — тихо спрашивает Лиза, спрашивает серьезно, словно если не сдержит и задержится на месяц, то больше никогда с ним не заговорит.
— Клянусь.
— Да вы, барышня-цесаревна не извольте беспокоиться, — от и без того толпившихся вокруг солдат отделяется один – с пышными усами, подернутыми сединой, рябоватым лицом. Он неуверенно улыбается, обнажая свои зубы или отсутствие оных, перетаптываясь с ноги на ногу. Возраста вояка был уже не молодого, но на войну как и многие рвался. — Мы Его Высочество в обиду не дадим.
Гвардейцы всегда были слабостью ее батюшки. Он любит повторять, что у монарха в этой стране друзей нет кроме флота, им построенного и добрых молодцев, которых он сам и воспитал. Таким образом гвардейцы так или иначе всегда ощущали, если не осознавали, особую свою роль в России, да еще и связь с императорской фамилией, от чего считали себя по крайней мере достаточно важными персонами. Гвардия таковой и правда являлась, заставляя по итогу считаться с некоторым своим мнением, которое правда при ее батюшки высказывалось редко – как бы отец не любит простых солдат, еще больше уважал он свою собственную власть, сумев держать эту грозную в общем-то силу в узде.
Сашу они любили тоже – с одной стороны красавец-царевич, сошедший с русских сказок об удачливых молодцах, а с другой стороны с ними как и отец – простой русский парень, внимание и расположение которого всем очень даже льстило.
Отчасти успели они полюбить и красавицу-сестру будущего императора, которая вместе с отцом и братом частенько к ним приходила то на смотр, то по каким делам еще ребенком. И ребенком залихватски умудрялась отдавать приказы, командовать марширующими войсками, а еще сидеть запросто на коленках у кого-нибудь поручика, сосредоточенно трогая щетинистое лицо, которое тот еще не успел побрить. Именно поэтому сейчас, здесь, в окружении этих людей Лиза не ощущала себя чужеродной – и все равно что под ногами порой грязь, да конский навоз из конюшен вынесенный, а слуха чуткого то и дело касаются крепкие выражения, которыми умудряются награждать друг друга гвардейцы.
— Видишь, что говорят тебе? — Саша довольно улыбается, начищенным рублем.
Лиза же ни мало не смущаясь берет мозолистые, морщинистые руки старого солдата в свои, не взирая на возможность испачкать очередные новые перчатки или же на то, что это по крайней мере срам.
— Вы тогда уж присмотрите за Сашей, братцы, хорошо? — она обращается ко всем, пусть и держит руки одного. И все зашумят вокруг, радостным, взволнованным шумом. Может так подействовало само слово «братцы», сказанные звонким голос цесаревны, а может доверие, им оказанное. Но со всех сторон понеслось: «не подведем, цесаревна!». — А ваше имя как будет, любезный?
— Так, Семенов мы. Михайло Иваныч.
— Спасибо Вам, — она улыбается с самой искренней благодарностью, не смущаясь впрочем и дальше звонко целуя старого солдата в щеку, заставляя того зардеться и теперь уж точно будучи уверенной в том, что Сашу никто не оставит ценой даже жизни, только бы порадовать прелестную «барышню-цесаревну».
Саша хмурится, пряча улыбку, легко вспрыгивая на такого огромного Плутона. Тот, почуяв скорый поход всхрапнул, ударил пару раз передней ногой по булыжникам со звонким ржанием, заставляя зевак на всякий случай отойти – зверь он и есть зверь. Плутон признавал только Сашу, вынуждая того самостоятельно за собой ухаживать и терпел Лизу, как подшучивал цесаревич «лишь потому что ты женского полу и в тебя даже кони влюбляются».
— Что я тебе, дитя малое что ты так печешься обо мне? Жди возвращения, Лиза! – он отсалютует ей стянутой в перчатке рукой, подстегнет Плутона, а ей остается наблюдать его удаляющуюся спину. А спустя еще пару мгновений, Лиза вспоминает о самом можно сказать главном, срывается с места и с весьма далеким от приличия криком: «Саша подожди!» на всю казарменную площадь, бежит следом, проталкиваясь сквозь строй прямо к нему. За ней спешат ее мальчики, очевидно обеспокоенные тем, что кто-нибудь ее здесь затопчет.
— Лиза…
— Я совсем позабыла! — выуживает маленький платок с прекрасной вышивкой. От платка едва-едва пахнет тонким ароматом полевых цветов. В платок завернута ладанка с изображением Александра Невского. — Просили тебе передать, — от резкого и быстрого бега дыхание сбивается слегка. — Не смей потерять... — волосы выбились из-под шляпки упругими локонами-пружинками. Она смотрит в его лицо, удерживаясь за сапог. Слишком высоко теперь сидит. Лиза выдыхает и в зеленых глазах запляшут бесенята. —…она его всю ночь вышивала.
Лиза даже не удосуживается сообщить, кто эта таинственная она, потому что по одному его выражению, сменившемуся стремительно на лице, можно было догадаться, что все он отлично понял и так. На лице этом пробежала целая гамма самых разнообразных чувств, сложно описуемых, прежде чем он с невероятной осторожностью забрал платок из ее рук [в его руках он и вовсе казался кукольным] и благоговейно поцеловал. Не ладанку, а скорее вышивку. После смерит Лизу сияющими голубыми глазами.
— Нет, — мотнет златокудрой головой. — это ни за что не потеряю.
— А вдруг это княжна Берестова тебе вышила? — лицо источает лукавства еще больше.
— Нет, так вышить она бы не смогла. Передай, что верну в целости и сохранности! Вместе со своей скромной персоной! Прощай, Лизавета! – и он, еще более радостный, вдохновленный, прогарцует прочь, оставляя ее стоять на площади, под редким петербургским солнцем.
_________________________________________________________________________
__________________________________
1724 год от Рождества Христова. 12 августа, Преображение Господне.
—… О свышнем мире и спасении душ наших. Господу помолимся.
Глубокий голос диакона разносится с амвона, растворяется в сводах величественных собора. Со стен, с иконостаса взирают строго образы святых, мучеников и апостолов. Сверху можно разглядеть библейские сюжеты.
Сегодня в соборе особенно многолюдно. И шутка ли – Преображение, праздник большой, да еще и престольный в Преображенском соборе. К медовому запаху свечей примешивается почти что дурманящий аромат фруктов, принесенных на освещение, везде много зелени и не только природной, но и людской – на такой праздник всегда приходит много гвардейцев, что и не удивительно, учитывая названия праздника. В притворе не протолкнуться – но дело ли в том, что все хотят приобщиться к святыням, что находятся в соборе, или же желают оказаться поближе к императорской семье, приехавший на праздник со всем двором. А может, чтобы, прислушиваясь к чистому пению хора услышать в нем голос цесаревны, о котором ходили самые дивные слухи. Никто конечно вслух не признается в истинности своих намерений и в недостаточном тщании веры православной.
Лиза поправляет белоснежный легкий платок, прежде чем вновь, по движению регента церковного хора выводить: «Господи, спаси благочестивыя», вслед за диаконом, а после перейти на другое песнопение.
В хоре она пела с детства и это было железным желанием ее матери. Даже скорее не желанием а твердым указанием. Сама императрица стояла перед амвоном, среди своих придворных дам и княжеских жен, периодически пламенно перекрещивалась. Отец стоял чуть поодаль, возвышаясь над всеми остальными своей громадной фигурой и кажется откровенно говоря считал, сколько ему еще осталось, задрав голову и с преувеличенным вниманием глядя на лампаду над головой. Старый князь Шуйский, кажется задремал. Его дочери, пока их мать не ударила их рукой по спинам, шушукались за спиной. Представить такое поведение раньше, при царской Москве было невозможно, но учитывая не самый лучший пример от императора теперь, вряд ли можно было ожидать, что поданные начнут с большим тщанием молиться. Или хотя бы вниманием.
Князь всхрапнул, опираясь головой на колонну. Девушки тихонько захихикали. Отец тяжело опустился на принесенный стул. Раньше бы никогда себе такого не позволил.
— О Благочестивейшем, Самодержавнейшем Великом Государе Нашем Императоре Петре Алексеевиче всея России: о Супруге Его, Благочестивейшей Государыне Императрице Анне Димитриевне, Господу помолимся.
Возможно, кого-то заставило это несколько приободриться. Не столько из внимания к литургии, сколько из-за упоминания имени царствующей фамилии. Все, кто до этого занимался кто чем – тушил и снова зажигал свечи, перешептывался, дремал или зевал, с большим рвением перекрестились и повторили слова за хором.
— О наследнике Его Благоверном Государе, Цесаревиче и Великом Князе Александре и о всем Царствующем Доме, о всей Палате и Воинстве их, Господу помолимся.
Лиза прикрывает глаза, когда поет «господи помилуй» после этих слов, закрывает крепче, отчаянно, всей душой, пытаясь доказать далекому Богу, который где-то там, высоко, что она всей душой искренне желает, чтобы Сашу он сохранил. Прошло уже больше трех месяцев с тех пор, как он уехал, а вести оттуда приходят самые разные. Где-то позади стоит Наташа, в таком же белом платке, который полностью закрывал голову. От белого цвета ее кожа делалась совсем прозрачной, а глаза казались еще ярче – Наташа выглядела созданием почти неземным в такие моменты. Наташа молилась в отличие от многих здесь по-настоящему, Лиза это знала и видела, по лихорадочному, почти фанатичному блеску в синих глазах. Да и к тому же сейчас они молились за одно и то же.
Лиза всегда молилась как умела, петь в хоре ей нравилось особенно в последнее время. И не только потому, что выпевая медленные, величественные песнопения [в особенности нравилась ей херувимская, потому как в детстве ей сказали, что при ней ангелы в храм опускаются], с удовольствием прислушиваясь к собственному голосу, за чистотой которого следовали все остальные голоса. Была еще одна причина, по которой ни разу еще она не отказалась от стояния на клиросе. Впрочем, усердной молитве эта причина не способствовала.
Его ко двору привезли издалека. Из какой-то захудалой деревеньки, в которой услышав его голос решили, что такого певчего можно и нужно в столице слушать. Певчий, с таким простым именем В а н я, пришелся императору по душе, в итоге оставшись в дворцовой церкви, взятый в сокольничьи, а после и вовсе от государя не отходящий. В церковном хоре она впервые его и увидела – статного, красивого, невероятно казалось простого и в тоже время уже неплохо образованного [батюшка дураков при себе иметь отказывался]. И с самого первого звука чудного голоса Иван Дмитриевич Кречетов поселился и в юной голове Лизы и в сердце. Оказались не нужны все светские красавцы [и не слишком красавцы], вьющиеся вокруг. Нужен был только он – всегда предельно вежливый, никогда ничего предрассудительного не делающий [а ей, может иногда и хотелось, чтобы он себе что-нибудь позволил этакое]. Но один взгляд глаз заставлял сердце стучать как бешеное без остановки. Может дело в загадочной его недоступности, может в том, что он пожалуй был единственным, кто от чар ее еще не упал к ногам. Но Лиза совершенно точно убедила себя, что эта та самая любовь и он совершенно точно «не любой». И не важно, что так быстро пробился он ко двору – злые языки много чего нашептывают. Да, Наташе и Саше не слишком он люб, но они последние, кто станут им мешать, коли что.
Вот и сейчас они стояли очень близко друг к другу – оба с прекрасными голосами и прекрасной внешностью. Стояли так близко, что стоило едва дернуть пальцем и коснешься чужой теплой кожи от чего по телу пробегает целый столп мурашек, а в животе целый рой бабочек разноцветных оседает.
Он совсем рядом, она буквально ощущает его дыхание на своей щеке и не может скрыть тихого вздоха, как только чуть дернув рукой действительно касается его. Дыхание перехватывает, а губы растягиваются в невольной улыбке, когда на это нечаянное прикосновение он отвечает и на одно-единственное мгновение их пальцы переплетаются и чувство это ни с чем не сравнимое разливается по телу жидкой горячей смолой. Ей даже не нужно поворачивать голову, чтобы посмотреть на его выражение лица. В этих движениях, в этих касаниях было что-то невероятное, то ли от своей запретности, то ли от своей п е р в о с т и. И да-да, следовало бы молиться, а не глаза прикрывать от трепета, зародившегося в душе при этом священнодействие между их душами и телами. Но ничего поделать она с собой не может.
Лиза ровным голосом выводит: «Аминь», пока в душе полыхает пожар. Кажется, что никто их не замечает – все заняты кто молитвой, кто еще чем, да и народу в соборе слишком много. Кажется, они укрыты от других свечными отблесками, спинами певчих и в конце концов божественным покровом.
Но, увы, это совсем не так.
— И на кой черт, Кречетова снова притащили? Не мог во дворце посидеть? — Семен переходит на злой шепот, просверливая в голове своего главного неприятеля дыру.
Матвей, занятый разглядыванием очаровательных близняшек из Павловых усмехается, похлопывая друга по плечу.
— А ты его на дуэль вызови. Прямо вот здесь. Скажешь, что бесов изгонять из него будешь.
— Ты бы ему такое не предлагал, Матвей, — Паша кашлянет, стараясь говорить потише, потому что какой-то старичок поодаль от них уже пару минут с видом оскорбленной верующей невинности на них фыркал. — а то он и вправду может. Ты, Сема, будто не знаешь, что государь его везде с собой берет.
— Да и как он смеет так на нее смотреть! – обычно самый сдержанный из них и исполненный самых благородных порывов Семен еще немного и действительно кинет перчаткой в лицо Кречетову. Из них троих именно он и испытывал к цесаревне не просто подобострастное желание быть верными помощниками, соратниками, рыцарями если хотите, но и всем остальным, что к этому не прилагалось. Пару раз пытались они украсть его влюбленные стишки и прочесть цесаревне, за что были биты и обруганы господином Бесстужевым, но помирились довольно быстро, впрочем потеряв всякую надежду на то, что стихи эти когда-нибудь таки будут читаны.
— А ты не так что ли смотришь? – Матвей кажется жестоко не собирался поддерживать боевой дух Семена.
— Меня-то с ним не равняй. Эх, и правда вызвать бы его на дуэль. Рожа наглая.
— А я бы не стал на твоем месте. Он стрелок отменный. Что думаешь на охоту его всегда берут. И со шпагой хорошо говорят управляется. Так что мой друг, как говорят французы: «Grand amour cause grande douleur». Чем больше любишь, друг мой, тем больше страдаешь.
— Qui n’est point jaloux n’aime point. Кто не ревнует, тот не любит, — продолжает злобствовать Семен, который находится впрочем слишком от певчих далеко, чтобы что-то исправить. — Да и какое мне дело что там у него со шпагой?
На противоположной стороне от возмущающихся положением пажей, перешептываются дамы. Собственно говоря, им все равно где это делать, в соборе разве что приходится делать это тише. Прасковья Алексеевна – сестра царя, склонив голову чуть вбок внимательно наблюдает за племянницей, покачивая головой. Ее подруга ближайшая Авдотья Николаевна стоит также близко и тоже качает головой.
— А Ванька этот, очевидно в зятья к Его Величеству метит?
— Петенька терпелив и щедр, да не настолько. Свободу он нашей Лизавете дает, но замуж за безродного не выдаст, слишком драгоценный алмаз в короне, — Апраксина качает головой. — Мы с Борей мечтали, что они с Васей поженятся, вместе же росли. Какой будет скандал – цесаревна и сокольничий. Высоко летать он хочет. Лиза забавляться может сколько угодно, но все это не может быть серьезным Авдотья Николаевна…
Диакон провозглашает чтение Евангелия. Со стен и иконостаса продолжат молча и скорбно взирать святые, а под куполом сам Иисус с учениками смотрит на людей, которые пришли сюда за чем угодно, но не за молитвой.
Наташа молилась как никогда не молилась до этого. «Пусть вернется живым. Знаю, что не достойна, что никогда не быть вместе, но пусть вернется живым».
Лиза молилась тоже: «Прости меня, Боже, что сердце мое такое беспокойное. Но почему не соединить нас? Ведь я уверена, мы любим. Уверена, что будем счастливы. А ты ведь любишь своих детей счастливыми?».
О чем молился Семен доподлинно сказать сложно, но точно можно определить, что о таком молиться совершенно нельзя.
Саша.
Позднее лето выдалось в этих краях душным и неожиданно жарким, становясь все нестерпимее день ото дня, чем ближе становилось море и тем ближе становились шведские позиции. Они остановились в деревне, командованию разумеется отдали лучший дом, что имелся в наличии, откуда видны были река и равнина, а за ними горы. Русло реки устилали голыш и галька, сухие и белые на солнце, а вода была прозрачная и быстрая и совсем голубая в протоках. Всех остальных разместили кого куда, в надежде скоро соединиться с основными частями армии. пыль, которую поднимали копыта лошадей, садилась на листья деревьев. Стволы деревьев тоже были покрыты пылью, и листья рано начали опадать в тот год, а местным жителям оставалось только смотреть, как идут и идут бесконечные обозы и маршируют солдаты, оставляя за собой всю ту же пустую белую дорогу.
Равнина была плодородна, на ней было много фруктовых садов, а горы за равниной были бурые и голые. В горах шли бои, и по ночам видны были вспышки разрывов. В темноте это напоминало зарницы; только ночи были прохладные, и в воздухе не чувствовалось приближения грозы.
Жара делала всех неповоротливее и медлительнее, а командование злее и раздражительнее. Саша слеповато щурится, выходя из пристройки, где ночевал среди прочих, ополаскивая лицо застоялой дождевой водой и уже ощущая несвежее летнее марево над своих лицом. Ночами он и вовсе предпочитал спать на воздухе, разглядывая огромный бархатный небосвод, раскинувшийся над ним и ощущая легкий запах соли, приносимый с Балтики. Капли западают за ворот рубашки, постоит еще немного, а после недолго думая обливается уже весь, лишь бы сбить эту сонную дремоту, жар и хотя бы немного прийти в себя.
Где-то рядом неизменно крутился Семенов, которого теперь Саша звал попросту Михайлом и кажется это было ему куда привычнее нежели полное «Михаил Иванович». От такого обращения старый солдат смущался и оправдывал это тем, что когда его так государь называет, то он начинает мнить себя важной персоной, а это как ему кажется совершенно грешно. По правде сказать, слова его дрожайшей сестры о том, что за Сашей надобно присматривать, он кажется понял столь буквально, что действительно не отходил от него ни на шаг и даже спал непременно рядом, напоминая какую-то няньку [нянька первоклассная была, не учитывая только то, что изрядно много курила, бранилась и не имела многих зубов во рту], неотступно следующую за своим дитя. Ребенком себя Саша не считал, отринуть заботу Семенова тоже не мог, правда когда это перешло границы и ночью тот собирался и в отхожее место последовать за ним, Саша составил самый наисерьезный с ним разговор, после которого хотя бы по ночам верный спутник, следовавший за ним из самого Петербурга и не сменивший части, его оставил. Настрого запретил, он впрочем, Михайлу Ивановичу вслух обращаться к себе: «Ваше Высочество», что оказалось самой непосильной задачей из всех возможных.
Генерал, всем этим делом командующий, к счастью особых теплых чувств к наследнику не питал и Саша живо мог вообразить, что отец лично об этом просил. Никаких нежностей и никаких условностей – на войне все одинаковы.
Сонно маялись по сеновалам солдаты [хотелось бы верить, что валялись они там в одиночку]. Говорят, из-за вчерашних выстрелов обвалился мост, хотя мог он обвалиться и из-за того, что был никуда не годен, так что сейчас сооружали переправу, а тот, кто задействован не был праздно проводил время. А хуже праздности для армии может быть разве что только холера.
Саша, пока его верный спутник не проснулся, отправляется в конюшню, где среди прочих стоит и Плутон, вызывая у всех какой-то благоговейный ужас. Да уж, если хотел быть как все стоило взять коня хотя бы по покладистей, но это значило бы отправиться черт знает куда без верного товарища, а Плутон кто бы что ни говорил исключительно умен и подобного предательства бы не простил. Тем не менее, подходить к нему все опасались точно также, как опасались и дома. По крайней мере до этого момента.
Его вороной весело пофыркивал в лицо юноше примерно одного с Сашей возраста. Косые солнечные лучи пробирались сквозь щели в этой импровизированной конюшни, где и стояли расседланные армейские лошади и Плутон. Пожалуй, такое благожелательное настроение он выказывал обычно только ему или на худой конец снисходительно позволял Лизе трепать себя за уши и путать гриву. Этому же субъекту Плутон не без своей привычной озорливости, выражавшейся в периодическом толкании того мордой и беспечном пощипывании в поисках сахара, который являлся его отдельной слабостью и который как раз и принес ему е г о хозяин, выражал не меньше доброжелательности. Этому черт знает кому.
Если бы Саша был кем-то другим, то пожалуй бы и заревновал. Лошадь для мужчины все одно что жена, а тут такое предательство. Будь Александр Петрович похож на свое окружение чуть больше, чем себе позволял, то наверняка возмутился бы, что кто-то трогает столь драгоценное создание без спросу. Хотя, будь Саша кем-то другим, он бы и вовсе не скрывал всех своих преференций.
Напустив на себя вид благостный и простой, стараясь держаться от коня на расстоянии [что впрочем не помогло особенно, потому что предатель его узнал сразу же, испустив долгое ржание, значившее обычно: «И где ж ты так долго был?»] подходит к незнакомцу, очевидно тоже гвардейцу. По его, Сашиному виду, понять не то что он из императорской семьи, да даже просто немного из благородной сложно. Кожа обгорела из-за постоянного пребывания на солнце, пока месили сапогами пыль, взлохмаченные волосы и не самая чистая одежда. Пожалуй, не узнала бы и родная мать. К тому же – отличная выходит забава еще немного побыть по крайней мере «не высочеством».
— Лошадей любишь? – Плутон всхрапнул, Саша хмурит брови, мол, не выдавай. Парень примерно с ним оказался одного роста, даже не привычно, учитывая что среди себе равных он всегда был выше [не считая разумеется отца]. — Этот говорят страшный зверь, конь цесаревича. Но тебя я смотрю признал. Знать – талант какой.
Страшный зверь тем временем, даже не пытаясь поддержать свой образ толкнулся мордой в Сашину физиономию, требовательно выискивая у него вкусности. Предатель он и есть предатель, конечно.
— Ты и почистил его что ли? Ну да, хозяин его наверняка спит себе спокойно. Хорошая лошадь, что скажешь?
Хорошая лошадь, которой разговор явно наскучил, привлекая к себе внимание в итоге что есть силы мотнет головой, Саша вовремя отскочит, всегда ожидая от Плутона подлянки, а незадачливого нового любимца конь таки повалит в ближайший стог сена, весело заржет, забавляясь своей лошадиной шутке. Саша рассмеется, протягивая новому знакомцу руку:
— Говорил же, страшный зверь. Меня Александром звать, а тебя как величать прикажешь?
Саша улыбается и улыбка его снова, как и всегда соперничает с солнцем над головами.***
Когда начались дожди, с каштанов облетели все листья, и ветки оголились, и стволы почернели от дождя. Виноградники тоже поредели и оголились, и все кругом было мокрое, и бурое, и мертвое по-осеннему. Над рекой стояли туманы, и на горы наползали облака.
Дубовый лес на горе за городом погиб. Этот лес был зеленый летом, но теперь от него остались только пни и расщепленные стволы, и земля была вся разворочена, и однажды, под конец осени, с того места, где прежде был дубовый лес, Саша увидел облако, которое надвигалось из-за горы. Оно двигалось очень быстро, и солнце стало тускло-желтое, и потом все сделалось серым, и небо заволокло, и облако спустилось на гору, и вдруг накрыло нас, и это был снег. Снег падал косо по ветру, голая земля скрылась под ним, так что только пни деревьев торчали, снег лежал на орудиях, и в снегу были протоптаны дорожки к отхожим местам за траншеями.
Офицеры согревались вином, всем остальным доставалось пойло чуть похуже, но и хмелели от него быстрее. Пара недремлющих часовых зябко ежится, дыхание лошадей выпускает из себя теплые клубы пара. Пахнет мокрым сеном и холодом, бесконечным холодом поздней осени, которая пришла на смену относительно теплому сентябрю и напомнила о близости моря, где должен был воевать флот.
Саша потирает руки, выходя из палатки, куда таки вызвал его генерал Вронский, интересующийся его самочувствием на что получил вполне односложный и заслуживающий уважения ответ, что «тяготы он переносит с армией и ему не труднее, нежели остальным» на что и был отпущен. Саша подозревал, что генералу в принципе достает не мало радости тот факт, что здесь можно над царским сыном власть показать, но вслух своих соображений не высказывал.
Невдалеке слышится чьи-то сердитые голоса, подвыпивших офицеров или солдат. Чутье подсказывает – идите-ка вы, Александр Петрович почивать, а не слоняться по лагерю ночью, но любопытство и некое иное чувство заставило пойти на эти голоса и в итоге наблюдать развернувшуюся сцену явно не справедливого конфликта, центром которого разумеется стал Волконский.
Они с ним были знакомы уже несколько месяцев, за которые Саша сполна успел и привязаться и узнать этого серьезного и не в меру честного человека, который наверняка теперь сказал что-то не в меру правильное изрядно уставшим и к тому же плохо вяжущим языками старшим. У Кирилла, сколько бы каждый раз Саша не замечал, что можно и уступить принципиальности, принципиальность эта никуда уходить не хотела.
Кто-то запальчиво выкрикнет: «Дуэль!», заставляя выбраться из-за укрытия, в котором он эту сцену наблюдал. Краем глаза подсчитывает количество вероятных противников.
— Господа, полно вам, какая дуэль! Если так хотите кого-нибудь заколоть, то шведы же на той стороне обретаются! Стоит ли оно того? — он разводит руками, боком продвигаясь к причине всего этого скорее всего безобразия. Рука сама по себе тем временем сжимает эфес шпаги.
— И что ты им сказал, а? К порядку призывал? Нашел тоже время, — сквозь улыбку цедит на ухо товарищу Александр, не выпуская из поля зрения тех, кто выглядел особенно подозрительно и не дружелюбно. Кто-то отсеялся сразу из тех, кто отлично знал кто перед ними и не хотел по возвращении из армии заслужить торжественный эшафот. — Они же лыка не вяжут, тебя от короля Швеции не отличат.
Кто-то таки трясет шпагой, делает неосторожный выпад, на который тело откликается скорее по инерции, нежели сознательно – фехтованию его учили с юных лет, учили хорошо и упорно, от чего теперь тело двигалось само собой, отвечая на пьяные выпады соперников. Наказание за такое уж точно последует, но слишком долго тянется эта война – решительно никто действий уже не принимает, скорее выжидают, а по донесениям с той стороны воевать у шведов мало кто хочет.
Кто-то спотыкается о камень, Саша пользуется моментом и, чтобы не наносить своим же уж больно тяжких телесных повреждений, просто дает хорошего пинка, отправляя незадачливого вояку в кусты, где тот и проваляется до следующего утра. У другого легко выбивает шпагу.
— Какие же вы господа грозные!
У Саши что не битва то игра с судьбой, очередная забава кто выйдет победителем. И пока ему чертовски везло. Играючи он вместе с Волконским расправляется с озлобленными вояками, которые, впрочем, после доброй драки как-то и подобрели, что часто вообще случается с русскими людьми.
Саша валится на хрустящую от инея траву, грудная клетка тяжело опускается и поднимается.
— Ты, Кирилл Андреич, беда, а не дипломат был бы. Как вернемся в Петербург учти – ты мой должник.
Саша хохочет в звездное небо над головой, сжимая рукой платок, изрядно пожелтевший за это время, но все еще целый.***
— Держать ровнее! – гаркает прямо над ухом капитан, не мало не смущаясь тому, на кого гаркает.
Держать мушкет на вытянутых руках невозможно сложно на самом деле, когда наказание длится столько времени – с самого утра же стояли. Если бы кто-то из них двоих дрогнул, пришлось бы начинать заново. Хотя наказание сие было еще можно сказать щадящим, учитывая то, что обычно делали с теми, кто уже открыто перечит командиру, тем более если он генерал. Не повезло разве что Кириллу, который стоял рядом, видимо, попав под горячую руку. Возможно, после этого, уже его товарищ влепит ему затрещину.
— Подумаешь, сказал ему правду… Не смотри ты такими глазами, точно убить меня хочешь! А я знаю, что ты смотришь! – Саша не может повернуть затекшей шеи, сердце гремит где-то в ушах. Так только когда-то в совсем юном возрасте наказывали, говоря о том, чтобы отучился просто так шпагой махать. Шпагу мол, нужно уважать.
— Разговорчики мне здесь! – снова гаркает каркающий голос. Капля пота стечет по виску, но болтать Александр Петрович, будущий император не прекратит.
— Да и потом, сам-то, стоял, мог бы и поддержать, друг называется. И между прочим…сам-то улыбался. Так что это не я – самому тоже смешно было, когда я этого назвал…
Грозный взгляд, пущенный на него заставляет замолкнуть, не продолжая фразы, которой он имел несчастья обозвать командующего и добавить, что «вы и с женщинами такой же не расторопный». Подумать только, что досталось за это не только ему, а и Волконскому. Впрочем, сильных угрызений совести он не испытывал, потому что сказал, что должно было. Сказал то же, что и отец бы сказал – они попросту теряют время. Шведская армия существенно ослаблена, а большую ее часть теперь составляют финны, которые особого желания воевать не испытывают дай им только волю и сложат оружия, а за ним и вся остальная армия. Финны независимости от Швеции хотят, а не воевать под ее короной. Стоило только дать знать, что русская армия-де с добрыми финнами тоже воевать не желает, да и вообще Финляндии в составе России куда лучше будет и независимости больше. Но слушать его, цесаревича, но мальчишку, а официально еще и офицера не высокого рангу вряд ли кто-то собирался, вот он и высказал все что думает, раз ответственность за такие решения никто брать не собирался. Теперь пожинал всего этого плоды.
— Ну сказал я, что ты тоже так считаешь. Да и все так считают…могли бы тогда всех на экзекуцию поставить… Вот знаешь, вернемся, с сестрой познакомлю! – он говорит бодро, хотя руки того и гляди попросту отвалятся. — Это знаешь ли…все страдания окупит!
Лиза конечно за такие вот торги ее персоной спасибо не скажет, но можно надеяться, что простит.
И только наказание подходит к концу, как слышится заунывное, почти скорбное и конечно же совершенно запрещенное: «Ваше Высочество!». Михаил бежит на всех своих немолодых порах, озабоченно оглядывает своего подопечного.
Воцаряется забавная немая сцена, при которой определенно одному из них приходится соображать с кем все это время имел дело, другой не выдерживая всего этого хохочет, падая на землю с криком: «Да не делай ты такое лицо, Кирилл Андреич!», а Михаил причитает, что «что ж с тобой отец родной приключилось-то, что тебя генерал к себе требует».
Саша смеется, быстро уворачиваясь впрочем уже от праведного гнева друга:
— Ну прости-прости, я все боялся, что ты тоже Высочеством кличать начнешь, а мне это прозвище поперек горла, веришь? Ты что убить меня таким взглядом собрался? Это брат уже государственная измена будет, так что подожди немного, переговорю тут с Лавретием Григорьевичем, а ты пока обожди! На дуэль с тобой не пойду, так и знай! Ты мне живым нужен! – словно бы он и не может если что погибнуть, хотя фехтовали оба примерно на равных.
В палатке генеральской решат отправить-таки депешу с гонцом к финскому майору в самое сердце неприятеля, имевшему вес на солдат как доносили шпионы. И цесаревич счел своим долгом предложить кандидатуру отлично отвечающую всем требованиям для совершения этого серьезного действия.
Самого его конечно же уже не пустили. Всякому попустительству есть пределы.
А Кирилла и без того бы отметили. Но вину же свою нужно было как-то загладить.
Поделиться42024-05-20 20:36:29
***
— За здоровье его царского величества! — кричал порядком уже охмелевший военный инженер Ламберт, высоко поднимая свой бокал и плеская из него вином на стол.
— Яко младший по чину, не почитаю возможным за оное пить без дозволения генерал-фельдмаршала нашего, — возразил «бомбардир-капитан Петр Михайлов», сидевший за столом с товарищами-офицерами.
Борис Петрович Шереметев, сменивший Вронского, в красивом фельдмаршальском мундире, тяжело поднялся со стула и взял свой стакан.
— Яко верный подданный своему государю, не смею инако пить его здравия, как на ногах!..
Все засмеялись на ловкий ответ Шереметева и задвигали стульями, поднимаясь со своих мест.
Не мало выпито было сегодня здравиц за царским обедом, в доме коменданта сдавшегося, после практически полного дезертирства частей финских. Портреты шведских королей сурово глядели на пирующих со стен, маятник громадных часов в углу бойко лепетал что-то и тоже, казалось, грозился... В раскрытые окна доносились веселые крики пирующих солдат, обрывки удалых песен...
— И вспомнить смеху достойно, как свейские солдаты-то выходили нонче, — бормотал, покачивая головой и усмехаясь, совсем уже захмелевший полковник.— Знамена, это, распущены, барабаны бьют, а во рту — пули, да порох... Неча сказать — твердые орешки!
— Но цесаревич-то наш, молодец. Дельную ведь мысль предложил. Хороший будет император, а?
Саша пробирается вон из пахнущей весельем избы комендантской, прихватывая с собой пару бутылок вина. Ото всюду слышались песни, шутки, ото всюду чувствовался этот хмельной привкус победы, который ни с чем другим не спутаешь. А к нему примешивался неожиданно острый запах тоски. Когда дело закончено, неожиданно осознаешь как далеко от дома забрался, понимая, как хорошо было бы оказаться д о м а. Саша, пожалуй, тоже хочет домой. За эти полгода навидался всякого, теперь пора и домой. В воздухе стоит терпкий и холодный вкус зимы, а значит там и святки скоро и обещанное сестре возвращение.
Кирилла особого труда найти не составило, хотя бы потому, что не обнаружился он среди кучи празднующих скоро возвращение солдат и офицеров.
— «Что ж ты милый друг не весел? Что головушку повесил?», — Саша опускается рядом на солому. С улицы несет первыми морозами. — Победили же, домой скоро вернемся. Или вы Кирилл Андреевич решили дуться на меня до скончания времен? Полно, от того, кто я мало что изменилось. Сколько верст исходили, в атаку вместе ходили, в конце концов Плутон тебя любит не меньше, чем меня! Ну ладно, меня все же больше, — добавляет немного подумав. — Я вот у генерала вино позаимствовал хорошее. Не осуждай, — поймав этот иногда весьма тяжелый взгляд серых глаз останавливает Саша, открывая бутылку. — в конце концов, если так рассуждать имеем право. Ей богу, Кирилл Андреевич, напоминаете мне одного человека, когда так изволите пялиться! – Саша запускает пятерню в волосы, взъерошивает их по-мальчишески.
Кирилл своими осуждающими взглядами напоминал про Наташу, заставляя еще сильнее затосковать по дому. Наташа бы сказала что-то вроде: «Вам стоило просто сказать, что хотите вина, а не красть, словно вор!» и посмотрит так, словно он кого-то за эту бутылку убил. Пожалуй, они бы с Кириллом составили удивительно гармоничную пару. От таких мыслей Волконскому захотелось неожиданно втащить, но только этого не хватало для полного взаимопонимания. Наташа, что и Кирилл голос совести, который иногда очень хотелось потопить в самом дешевом вине. Но голос не затихал.
Пару минут они молчат, каждый думая о чем-то своем, после Саша все же протягивает руку, чтобы убедиться, что обид между ними нет и, расслабляя плечи валится в свежее сено. С одной стороны вернуться хочется, а с другой может последние мгновения, когда можно будет выглядеть вот так и делать, что вздумается, ограничиваясь приказами вышестоящих. Не приказывать самому.
— Дворец, Кирилл, место красивое, но злое. И иногда тебе совсем может и не хочется быть «Высочеством». Я ведь сам у отца выпросился на войну. Уйти захотелось, понимаешь? Побыть просто Александром Романовым. При дворе все знаешь…красивые, что золотые статуи. И пустые, совсем пустые. Вот поэтому и люблю свою сестру, она не пустышка, — на губах заиграет мечтательная улыбка, которую он стряхнет на свою обычную. — Ты непременно должен с ней познакомиться! Она живая, понимаешь, н а с т о я щ а я. В детстве забиралась ко мне в кровать босоногой и требовала рассказывать ей сказки. Вот я и придумывал, а попробуй ее выгони, как же! Она хорошая, знаешь, упрямая ужасно, но хорошая… А уж как на лошадях скачет, не хуже меня или тебя! Ну и красавица ладно, — в голубых глазах заиграют всполохи. — Вместе со мной выучила историю с географией. Жанной Д Арк все восхищалась. И голову тебе на отсечение даю, что если не влюбишься, как только услышишь как она поет, пойду менестрелем по лесам! А вот что!
Саша подрывается, как обычно стремительно, как обычно резво, поворачивается к нему, хлопая себя по лбу.
— Будешь гостем. У нас зимой перед Лизкиными именинами всегда грандиозная охота! Такой охоты ты и не видел! Так что как своих повидаешь изволь явиться! Так и познакомлю вас. Заодно, лошадей наших покажу, посмотрим что скажешь, давно хочу разведением заняться, нашей русской породы. Таково мое царское повеление. И не смей отнекиваться. К тому же, господин Волконский, вы все еще мой должник.
И с довольным видом хорошей забавы снова падает в солому, раскидывая руки. Неба совсем не видно, но Саша и не сомневается, какие созвездия там увидит, выполняя поручение сестры, о которой столько рассказывал на протяжении этого времени. Вытаскивает из-за пазухи платок, смятый и совсем уж изначальный вид потерявший, но сохранившийся, повертит в руках. Посерьезнеет.
— А что, Кирилл, никто дома не ждет? Девицу в виду имею. Неужто ли никто сердце не украл? И не влюблялся ни разу? — смотрит испытующе. — Ну, в Петербурге красавиц много, тут не сомневайся, если захочешь, познакомлю, — он отлично знает, что немедленно сейчас понесется протест таким предложениям, ведь настоящий офицер на кого попало не разбрасывается. Да и вообще, что сначала нужно дослужиться хотя бы до генерала. О том, что к тому времени всем потенциальным невестам исполнится по 60 и вряд ли они будут интересоваться хоть чем-то, кроме раскладывания пасьянса, Саша говорить не стал. — А у меня вот есть, — расправляет платок с вышивкой. — вот только не мил я ей, а может и мил, только никогда она этого не признает… А может, для нее я совсем и не хорош. А она…она все равно что богиня. Вот ты видел когда-нибудь богиню? Нет? А я вот видел. — помолчит. — Ты можешь думать, что цесаревичу легко выбрать жену. Да только из всех красавиц Петербурга, с которыми я имел честь быть знакомым и даже что касается некоторых иностранных особ, никто из них до конца не осознает, что это такое, быть женой императора России. Отец смотрел каждый раз на девушек, с которыми я провожу время и спрашивал: «Ну что, сынок, сумеет ли она о себе позаботиться и о детях, а еще и о дворце и может всей столице, пока ты будешь на войне, стройках, других городах? Или справится ли она, если вдруг восстание или переворот?» Тут я начинал присматриваться к своей подружке, имея это ввиду и понимал, что какой бы хорошенькой, остроумной и со всех сторон очаровательной она не была, а все же чего-то не достает. Силы. Надежности. Спросил парочку просто в лоб, что они думают о том, что все время посвящать я буду стране порой требовательной и временами ужасно капризной. И что ты думаешь? Увы, все девицы в один голос заявляли, что я должен уж как-нибудь исхитриться, но подольше бывать с ними. Хоть ты тресни! — Саша в сердцах потрясет бутылкой перед каким-то воображаемым врагом. А потом неожиданно выдаст, хитро поглядывая на Кирилла выдает. — Лиза бы смогла, точно тебе говорю. Сам убедишься, как встретишь.
«Едва ли вы не сватаете ее, Александр Петрович…» Если уж по честности, лучше бы он познакомил его и Лизу, нежели позволить Лизе и дальше обманываться с чувствами к Кречетову, но настолько смущать Кирилла Саша не собирается.
— И она смогла бы… — голос снова становится задумчивее. — Знаешь, Кирилл я тебе даже завидую, — после минутной паузы вздыхает Саша. — что никого нет. Никаких душевных терзаний. Aimer n’est pas sans amer. Любви не бывает без горечи. Как говорят французы, а они ходят слухи, в этом знают толк.
***
— Позвольте пригласить Ваше Высочество на этот танец, — герцог Орлеанский, второй сын короля Франции маячит перед ее лицом. Придворные музыканты из оркестра, специально приглашенные в этот зал наигрывают популярную при дворе в последнее время мелодию.
Черты лица представителя «принцев крови» кажется слегка искаженными, а длинный завитой парик, в которых так любили расхаживать придворные, немыслимо раздражал. Лиза живо представляла себе, как под ним копошатся вши [многие рассказывали, что во Франции с чистоплотностью все совершенно ужасно – народ в банях у них не моется, а помои выливаются прямо на центральные площади]. Тем не менее, Лиза, прикрываясь веером, чтобы скрыть гаденькую улыбку, вежливо принимает ухаживания герцога, легко кружась в танцевальных пируэтах знакомых с детства.
Герцог же наседает:
— Позвольте сказать, что Вы самая прекраснейшая из всех женщин мною когда-либо виденных, так что я готов бросить под ваши ноги все свои богатства, состоящие из жареных лягушачьих лапок! Не станете ли Вы моей женой?
Физиономия герцога искажается, а из-за нее выглядывает раскрасневшееся от смеха придуманной цесаревны забавы Варино лицо. Княжна Вяземская, прибывшая во дворец как обычно за тем, чтобы составить компанию Лизе, заодно посоветоваться с придворным лекарем о пиявках. О талантах княжны в области врачевания ходили слухи самые разные – кто-то со страхом говорил, что отец ее привез из одного из походов восточную знахарку-ведьму и она и научила его дочь всем колдовским премудростям, кто-то утверждал, что учил ее какой-то известный медикус из Европы. Вообще, мысли о том, что Варя обладает магией, возможно оказывались подкреплены самой ее внешностью, которая совсем не располагала считать ее просто милой барышней. Иссиня-черные, буйные волосы вкупе с неожиданно бледной кожей лица создавали дуэт почти мистический. А из-за цвета глаз, который кому-то казался прозрачно-голубым, кому переливчато-зеленым кто-то из не очень образованных утверждал, что здесь точно поработали мавки. Лиза, суеверностью не отличающаяся, Варю ведьмой не считала, с удовольствием слушая о свойствах той или иной травы или микстуры.
Если Наташа была все одно, что старшая сестра [куда более близкая нежели Катя или Аня], всегда точно знающая, как следует поступить правильно, то Варя никогда правильно поступать не просила, а скорее верно следовала за Лизой по стопам ее совершенно уж не праведных поступков. Воспитанная отцом в одиночку, имевшая больше свободы нежели даже сама Лиза, Варя могла бы вырасти в девицу крайней распущенную, учитывая постоянное отсутствие отца на войне. Но, обладающая острым умом девочка, не собиралась делать глупостей, читала книги из Европы и обучилась нескольким восточным наречиям. Как и многие из княжеских фамилий Варя невеста желанная, но как и Лиза с неохотой отдаваемая на это поприще отцом, генерал-майором, а следовательно имевшая возможность делать что вздумается.
Сегодняшняя забава, впрочем, удалась и вправду на славу.
— Боюсь, герцог, я вынуждена Вам отказать. Я не смогу стать вашей женой. Ведь за вашим длинным носом я не могу разглядеть вашего лица и я боюсь, что оказавшись вместе в постели мы даже не сможем поцеловаться!
И малая бальная зала оглашается серебристым перезвоном ее смеха, к которому живо присоединяется Варя и мальчики.
Около стен оставлены портреты кавалеров, которые были ею уже отвергнуты, развернутые своими лицами вниз. Портреты потенциальных женихов присылали со всех концов Европы, от чего у нее накопилась приличная коллекция отвергнутых мужчин. Поочередно ее друзья брали тот или иной портрет, прятались за ним и невероятно противными голосами начинали звать ее замуж. С какими-то портретами даже пришлось танцевать для чего и были приглашены музыканты, лениво выводящие свои трели – их вряд ли интересовало происходящее, за свою жизнь они при дворе всякого насмотрелись.
Один жених был по ее мнению слишком толст, другой слишком худосочным. Датского короля, Лиза не мало не смущаясь назвала «злющим тираном», а прусского курфюрста определила в тех, кто вообще не способен к деторождению. Каждое ее заявление сопровождалось в итоге гомерическим хохотом тех, кто эту забаву разделял.
Варя вместе с портретом длинноносого герцога Орлеанского уступает место Матвею с портретом голштинского герцога. Лучше всех, впрочем, умел изображать герцогов и королей Семен. То ли талант матери передался по наследству [а может и отца], то ли просто у него хорошо получалось. От отца Семен не получал писем уже очень давно. Да и вообще князь не был скор на воспоминание о незаконнорожденном сыне после рождения сына законного. Никаких душевных страданий, впрочем, Семен по этому поводу не высказывал.
Лиза состроила кокетливую гримасу портрету, присела в реверансе, прежде чем сделать несколько движений из минуэта.
— Ваше Высочество, это будет самый лучший день в моей жизни, когда вы согласитесь стать моей женой и я увезу вас в свою Голштинию!
— Но помилуйте, герцог! – Лиза хлопает зелеными глазами из-под веера, опускает взгляд и стреляет им из-под густых ресниц. Она уже успела понять, что стоит так посмотреть на какого-нибудь мужчину, то он на несколько мгновений терял дар речи. — Где говорите находится ваша Голштиния? Или Голштения?... Ах, впрочем не важно. Боюсь, Вашей женой я также не могу стать! Ведь все ваше герцогство размером с нашу Ростовскую губернию! А в нее я могу и без вас поехать!
Матвей, изображая крайнюю степень трагедии, откладывает портрет, прикладывает руку к сердце и картинно валится на пол, видимо изображая разрыв нежного герцогского сердца. Все снова хохочут, а Лизе мерещится, что она хохочет громче остальных, хохочет почти зло, отчаянно желая каждый из этих портретов отправить в растопленный камин.
За окнами Зимнего дворца завывает вьюга – снег злыми, колючими хлопьями вьется за стеклом, ветер забрасывает острые ледышки в окно. Не повезло тому, что сейчас оказался не у теплой печи – он рисковал промерзнуть до костей. Нева покрылась толстым слоем льда и в добрую погоду люди выходили на него, устраивая базары, катаясь на коньках и перебегая с одного берега на другой сокращая себе путь [были, впрочем, и те незадачливые горожане, кто под лед проваливался]. И эта мрачная погода во всех смыслах отражала состояние души самой Лизы.
Саши все еще не было, а небо было даже по ночам затянуто плотными и низкими тучами, так что о разглядывании звезд и речи быть не могло. Здоровье же отца зимой кажется стало еще хуже. Все грешили на климат столицы, зимой становившийся невыносимо влажным и холодным, что совершенно не способствовало прекращению тяжелого, лающего кашля императора. Иногда по ночам он будил весь дворец этими звуками задыхающихся легких и в такие минуты даже самым далеким от веры хотелось креститься. Его лицо становилось то пунцово красным, то мертвенно-серым, он лишь вдыхал воздух, но не мог выпустить его обратно, делая вдохи словно рыба, выброшенная Невой на гальку. Кроме того, к зиме обострились его боли в боку, иногда настолько режущие и болезненные, что помогали только привезенные с Востока опиумные лекарства от которых после целыми днями он лежал в полузабытьи. В редкие дни улучшения он, тяжело опираясь на трость, выходил на крыльцо или тяжело забирался в экипаж, только бы не сидеть на одном месте. Все советовали ему поехать в место более теплое, но наотрез он отказывался покидать столицу. Борис Федорович качал головой отлично зная это упрямство императора.
Но Лиза полагала, возможно и слишком эгоистично, что она от пошатнувшегося здоровья батюшки, страдала сильнее всего. Потому что отец месяц назад неожиданно заявил, что раз в скорости ей исполняется 18-ть, то пора выдать ее замуж, причем как можно быстрее. Так и полились эти бесконечные портреты, письма на разных языках с притязаниями на ее руку [и хорошее приданое]. Лиза сначала думала, что это отцовская шутка, которая скоро пройдет, но чем больше было портретов, тем казалось бесконечно несчастнее виделось ее будущее. Отец словно помешался на этой идее выдать замуж как можно скорее, разрешив ей разве что выбрать будущего супруга из представленных «достойных мужей».
Достойных она из вредности находить отказывалась.
[float=left] [/float]Так и родилась забава, от которой все были в восторге. Ну, или почти все – Наташа, с пяльцами в руках сидевшая прямо у окна только снисходительно качала головой, глядя на все это безобразие. До этого она читала книгу «Как победить ленность» и Лиза не сомневалась, что читать эту книгу ее заставила матушка. О причинах, по которым их мать так невзлюбила Наташу Лиза только догадывалась, но никогда их не поддерживала [поэтому книгу отобрала и спрятала, заявив, что уж кому кому, а Наташе такие книги читать совершенно без надобности].
[/float]Так и родилась забава, от которой все были в восторге. Ну, или почти все – Наташа, с пяльцами в руках сидевшая прямо у окна только снисходительно качала головой, глядя на все это безобразие. До этого она читала книгу «Как победить ленность» и Лиза не сомневалась, что читать эту книгу ее заставила матушка. О причинах, по которым их мать так невзлюбила Наташу Лиза только догадывалась, но никогда их не поддерживала [поэтому книгу отобрала и спрятала, заявив, что уж кому кому, а Наташе такие книги читать совершенно без надобности].
Лиза замуж не собиралась. По крайней мере замуж за иностранца, чтобы оказаться где-то далеко, где все говорят на чужом языке, едят чужую еду, где поют другие птицы, где нет друзей, а есть только муж, которого следует ублажать и слушать. Идея отца вынуждала ее буквально не разговаривать с ним, испытывая его терпение, которого в последнее время вообще отсутствовало и его вспышки ярости становились все страшнее.
Она как-то поймала Ивана Дмитриевича, не давая сказать что-то в его духе: «Цесаревна, я служу вашему отцу и нам совершенно точно нам нельзя…». Такая его вежливость скорее распаляла ее собственный интерес, как и простое слово нельзя, которое Лиза с детства испытывала на прочность. Поймала и заявила, что ее непременно выдадут замуж. Заявила скорее даже не для того, чтобы заставить того немедленно на ней жениться, а поглядеть на реакцию. И боже, что это была за реакция – она увидела, как его лицо побледнело, а пальцы так неожиданно крепко сжали ее руку, что сердце вновь пустилось вскачь.
В общем, если уж она и должна была выйти замуж прежде, чем узнает мир, прежде чем отправится куда-нибудь на корабле, то тогда уж выйдет она замуж за Кречетова, а не за какого-то напыщенного носатого короля.
Наташина фигура у окна была окружена бледным светом – то ли от серого солнца, то ли от белого снега. Пальцы ее ловко управлялись с иголкой чего у Лизы никогда не получалось – у нее даже с легкой, специально для нее изготовленной шпагой получалось как-то справнее возиться, нежели с треклятой иголкой. Наташа поднимает на миг голову, Лиза хочет что-то спросить, но выражение ее лица неожиданно меняется, а в глазах отражается то ли испуг, то ли благоговейное выражение, которое появляется у людей, когда они видят какое-то чудо. Вся ее фигура замирает, даже пяльцы на пол падают, от чего Лиза почти пугается – может у Наташи тот же недуг, что и у отца. В моменты приступов он тоже ронял вещи со стола, словно его что-то душило.
Но Наташу ничего не душило. Она смотрела куда-то за спину Лизы, заставляя ту невольно повернуться. И как только она оборачивается, то крик неподдельного счастья вырывается из груди:
— Сашка!
Он стоял в дверном проеме открытой бальной залы, прислонившись к распахнутой двери плечом. Живой, невредимый, в чистом и новом офицерском мундире и со смеющимися сияющими, как сияет голубоватый снег под солнцем, глазами. Он казался неуловимо изменившимся, но что точно в нем изменилось сказать все равно было сложно – то ли осанка стала еще ровнее и словно бы мужественнее, то ли взгляд чуть серьезнее. Но это все равно был ее Саша, всегда веселый и знающий что делать Саша. Почему-то казалось теперь, что все будет по-старому, что все будет хорошо – никаких свадеб, он непременно что-нибудь придумает. Или батюшка сам это сделает.
— Что же, полагаю, ты оскорбила всех оставшихся монархов Европы и даже одного султана. А значит мне следует вновь воевать, потому что мы определенно будем вынуждены воевать с ними всеми! — его голос прорывается в залу свежим теплым ветерком. И покажется будто наступила весна.
— Вернулся! – радостно прокричит Лиза, сорвется с места и снова, как обычно, юркой маленькой пташкой бросится в распахнутые объятия смеющегося брата, чувствуя легкое прикосновение губ к макушке.
От него все еще пахло холодом улицы, к чему примешивался едва различимый запах кожи от седла и конюшни. Теплый и родной, сразу успокаивающий запах. Где-то позади вновь выстроились взлохмаченные пажи, которым Саша милостиво машет рукой, мол, совершенно сие необязательно.
Она хохочет, как только он отрывает ее от земли и кружит по зале, хохочет счастливо, крепко держась за его плечи и командуя: «Еще, еще!». И кажется, что сама зима отступает, что впереди только время самое счастливое, что в принципе ничего дурного случиться уже не может.
Саша, наконец, опускает ее на землю, оправляет мундир.
— Княжна, — чуть склоняя голову перед Варей, а после обращаясь взглядом на Наташу, все еще замершую у окна, натянутую словно струна, что вот-вот порвется. — Натали.
Наташу так никто кроме него не звал. Да уж если по честности, так, как он ее называл даже обычным «Наталья Алексеевна», никто повторить не мог. Всегда это звучало как-то по-особенному. Словно он вкладывал в это что-то, понятное только им двоим. Но «Натали» было, пожалуй, самым особенным. Называя ее на французским манер, Сашин взгляд теплел и иногда Лизе казалось, впрочем вполне справедливо, что в одном таком взгляде теплоты хватило бы, чтобы зима больше вообще никогда не наступала.
— Я буду вынужден вас покинуть, господа – нужно пойти к батюшке, но я только с дороги и сразу сюда, как только узнал где вы. Но прежде, — он вытянет из-за пазухи тот самый платок, который получил еще весной. Платок потерял в своей чистоте и, пусть и был сложен со всеми предосторожностями, но все же оказался ужасно помят. Тем не менее это определенно был тот платок. — возвращаю вам, Наталья Алексеевна. В целости, как обещал. Смею сказать, что ваш подарок хранил под сердцем, а он хранил меня, — Саша улыбается.
Наташа осторожно протянет руку, лишь кончиками пальцев касаясь его руки, принимая платок, ее глаза тем временем пробегаются по его лицу, словно выискивая случайные царапины и только убедившись, что он и правда в порядке, опускает голову, возвращая лицу свое обычное спокойное выражение.
— Что вы, Ваше Высочество. Пустяк. Все молились о сохранении наших воинов.
— Но я могу надеяться, что вы молились обо мне, а не обо всех доблестных защитниках отечества?
Воцаряется тишина, которая вот-вот и будет что-то значить, а после Паша неловко чихнет, Матвей сразу же наступит ему на ногу, шипит что-то: «Болван ты что ли, все испортил? Нашел время чихать!», хрупкая атмосфера рушится, разбивается и они снова становятся собой: вечно флиртующий и смущающий всех вокруг Саша и не поддающаяся никаким его чарам Наташа.
— Саша, но как только сходишь к батюшке, непременно возвращайся! Ты должен все мне рассказать! – Лиза остановит его уже на выходе, сияя счастливой улыбкой.
— Непременно. К тому же, мне есть о чем или о ком рассказать! – загадочно ответствует Саша, скрываясь за золотыми дверьми.



Лиза меланхолично размазывает по тарелке пюре, смоченное трюфельным маслом. На зубах все еще хрустит сахар от тех сладостей, которыми она специально набивала щеки. Во-первых потому, что просто любила сладкое без меры [именно для нее приглашенные французские кондитеры и вылепляли настоящие шедевры на балы и маскарады, а также на всех их завтраки \ обеды \ ужины], во-вторых, потому что липкий и вязкий зефир позволял отвечать на вопросы через раз, а в-третьих, потому что знала, как не нравится родным тот факт, что сладкое идет вперед горячего. Теперь же, налопавшись пастилы рябиновой, зефира и самых разных кремовых пирожных, другая еда в нее не лезла, что, впрочем, могло счесться за трагичную болезненность. Пусть теперь думают, что она так страдает из-за всего этого, что просто не может есть.
Попугай гаркнет за спиной отца: «Свистать всех наверх», а немой слуга, привезенный из диковинных жарких стран протянет тому кусок фрукта.
Отец выглядит несколько живее, нежели в последние дни. К нему вернулся здоровый цвет лица, за что возможно следовало благодарить новые микстуры, которыми поил его Флери. Но тени, которые пролегли под его глазами, видно было уже не стереть. Вел он себя за обедом вполне бодро, расспрашивая Сашу, сидящего от него по привычную правую руку [это место неправильно пустовало пока его не было, словно зияющая дыра] о деньках службы и Саша живо отвечал, чем, если честно раздражал. Потому что мрачное молчание всегда щебечущей за столом Лизы никто упорно, благодаря болтовне Саши не замечал. А если страдаешь без зрителей, то черт возьми, какой был в этом смысл?!
С Сашиным приездом жизнь вовсе не думала меняться, как она надеялась. Однажды он пробовал осторожно заговорить с отцом о причинах спешке с поиском жениха, на что тот сразу взрывался и Саша, чтобы не вызывать новых приступов эту тему не поднимал. Кроме того, такое чувство у самого Саши появилась новая любовь, о которой они слушали каждый совместный обед, вот как сегодня, когда отец чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы с семьей отобедать.
Новую любовь Александра звали Кириллом и ни один рассказ о военных днях не обходился без ставшей крылатой для Лизы [она предпочитала ею его дразнить]: «А вот Кирилл…». В конце концов такую сердечную привязанность к черт знает кому заметили даже родители. Мать осведомилась из какой он семьи, отец же больше, что было для него характерно, интересовался насколько храбрый и не дурак ли. Смешно, станет что ли Саша общаться с дураками?
Ну да, все они дружили [если можно было сие назвать дружбой, а не привычкой] с Васей, но Вася – почти член семьи, да и к тому же над Васей Саша ни разу не упустил благодатной возможности пошутить.
Вот и сейчас, рассказывая о своей идее с депешей финскому командованию, Саша рассказывал о своем Кирилле, весело и красочно, так что образ вырисовывался самый героический.
—…пригласил его на нашу охоту в имении Бориса Михайловича, — Саша прожевывает кусок телятины, запивает красным вином из запасов. — забава будет славная, да и стрелок он хороший.
— добро, — кивает отец, находящийся в приподнятом настроении духа. — поглядим, что представляет собой друг твой сердечный. Лизетка, — она вздрагивает, прекращая гипнотизировать остывшее блюдо и поднимает глаза на отца.
Буря на подходе, но теперь у нее нет никакого желания ее останавливать – скорее наоборот есть желание ее раздуть. Ее ведь даже никто не спросил про это замужество. Никто и не посчитал это нужным, словно она вещь, которую можно обменять подороже.
— Не ешь чего? Али не вкусно?
— Аппетита нет, батюшка, — Лиза поджимает губы, а лицо отца медленно мрачнеет.
— Нет, значит? Ну и бог с тобой, не ешь. Только вот, что мне скажи. Все портреты обругала? Что смотришь? — отец усмехается, встречая ее вспыхнувший взгляд насмешливым спокойствием. — Я может больной, но все еще император и что в моем доме делается все еще ведаю. Хорошо это думаешь, женихами разбрасываться, привередничать захотела? А о стране кто думать станет? Война только закончилась, а каждый хочет кусок оттянуть. Нам союзы нужны. А тебе… — он глухо и коротко покашляет. —…а тебе муж, — он закончит как отрежет.
— Я не выйду замуж, батюшка, — и это звучит безапеляционно, что императору не нравилось никогда.
Он откладывает вилку и нож и неожиданно резко стукнет кулаком по столу. Попугай испуганно завопит, крикнет что-то про «золотые рублики», замахав крыльями.
— Лиза… — голос матери предупреждающе советует не спорить. Покориться хотя бы один раз.
— Выйдешь, как миленькая пойдешь за кого скажу! – его лицо краснеет. — Неужто не понимаешь, девчонка глупая? Кто о тебе заботиться станет, как только я умру? Брат, скажешь? У брата твоего империя в детях ходить будет, а зная Сашку – распустит тебя окончательно! И так позволяли делать тебе все, что захочется! — он закашляется судорожнее, а Лиза вскакивает из-за стола.
В такие моменты они походили друг на друга как никогда. Оба упрямые, гневные, с горящими глазами. Оба сильные.
— Да неужели вы не понимаете? Я лучше в монастырь уйду, чем отсюда уеду. Не хочу я всю оставшуюся жизнь, как сестры в чужом краю подстрелянной птицей обретаться! Можете сослать меня, можете стращать! Но не по любви и за иностранца я замуж не пойду. Удавлюсь, но не пойду! Прошу простить, голова разболелась, что-то.
Она как ошпаренная вылетает из богато обставленной столовой, в спину ей еще будут нестись отцовские: «И пойдешь в монастырь! В монахини отдам!», но постепенно они становились все тише, а после исчезли вновь.
Сашино лицо стало непроницаемым, как маска, которые все здесь так любили носить. В ушах все еще звенел Лизин голос, отчаянный голос. Желание отца таким образом сберечь ее Саше было как раз понятно, что не значило, что он такой способ одобрял, но отец сейчас выглядел не самым лучшим образом, чтобы масло в огонь подливать. Отец с тяжелым вздохом облокотился на спинку стула, прикрывая глаза и продолжая тяжело дышать. Саша молчал тоже, напряженно думая о том, что со всем этим делать.
— Что, тоже учить меня хочешь? А, Сашка?
— Нет, что вы батюшка, — Саша криво усмехается, вытирая губы салфеткой. — Мне вас учить не престало.
— Ну-ну, слава богу. Тебе тоже невесту искать пора. Или что, — Петр Алексеевич приоткрывает глаза, проницательно глядит в Сашино лицо. — тоже про любовь мне петь начнешь? Так вот послушай мне, Александр Петрович. Император никогда любить не будет. И счастлив до конца никогда не будет. Народ вообще не любит, когда государь счастлив в семейной жизни. Правитель должен любить только народ, который всегда ревнует его к другому. Государь должен за Отечество страдать – такова твоя доля. А счастливы при этом должны быть все остальные. А быть с императором, цесаревичем или вон, с цесаревной это значит навсегда стать человеком несчастным. А захочешь ли ты любимого человека на такую долю обречь? С нелюбимыми оно как-то проще.
На эту тираду у него словно ушли все силы, он словно стареет на глазах, вновь прикрывая глаза. Саша посидит еще немного, прежде чем покинуть столовую. Его остановит тихое, но твердое на входе.
— Ни на какую охоту, Лизка не поедет. Так и передай. Не заслужила.
Саша склоняет голову, крепче сжимая руку в кулак, когда видит лицо матери. Спокойная и бледная властная маска и две скорбные морщины у губ. Кого угодно она могла обмануть, но не Сашу. Он был почти уверен, что если бы матушка могла плакать – то заплакала бы. Но, кажется, все ее слезы были давно выплаканы.
Лиза широкими и быстрыми шагами меряет коридор, пока кто-то не поймает под локоть, заставляя остановиться и развернуться. Сашины глаза смотрят почти умоляюще и Лиза точно знает, что он будет говорить о том, чтобы она извинилась. Но Елизавета Петровна извиняться не перед кем не любила тогда, когда считала что извиняться следует перед ней. Даже перед отцом. Это Наташе на удивление легко давалось признания себя виновной во всех смертных грехах, а Лиза со своим громким «несправедливо» просто так не могла.
— Лиза, послушай, не сердись ты на него. Он как лучше хочет по его мнению. Ты же видишь в каком состоянии его здоровье.
Глаза Лизы делаются двумя изумрудными углями.
— Так значит… — цедит сквозь зубы. — получше это сбыть меня, как товар с корабля? Кто подороже приложит? Нет уж, Саша, не могу я этого понять! Мне сама мысль о том, чтобы покинуть свою страну претит! Одно дело путешествовать, а другое – уехать без права возвращения. Не видел ты что ли как Аннушка страдает? Писем не читал? Муж ей изменяет направо-налево! А Катя? В обедневшем герцогстве? Куда как хороший союз, ничего не скажешь?
— Ну тебе бы ни один здравомыслящий мужчина изменять не стал… — Саша пытается пошутить или же и вправду серьезен в своих словах – иногда даже она не может понять. Осекается, откашливается под ее гневным взглядом.
— А кто сказал, что мои женихи здравомыслящие? Саша, разве так можно? Разве это честно – будущего мужа видеть только на портрете! Нельзя так! Я вообще замуж не желаю пока. Я столько сделать всего хочу! Но уже если выходить, то по любви!
Саша складывает руки на груди, отпуская ее предплечье, которое столь умоляюще сжимал пару секунд назад. Тон его голоса меняется, меняется неуловимо, но она замечает. В нем так и играют холодные почти циничные нотки. Таким тоном Саша разговаривает с теми, кто ему не нравится, при этом оставаясь показательно вежливым. Видимо, сдержаться и теперь он не смог.
— Это за кого? За Ваньку, например?
Он специально [Лиза разумеется знает, что специально] называет его не по имени отчеству, а так, пренебрежительно, как кличут прислугу.
И теперь они стоят друг напротив друга, словно еще немного и будет дуэль.
— А даже если так? Чем он тебе не угодил? Тем, что не знатен? Не богат? Вы с Наташей сговорились что ли оба?
Саша расстроенно запрокидывает голову, мотает ею из стороны в сторону.
— Да господом богом клянусь, будь твой избранник хоть половым в трактире, но хорошим человеком, а не пустышкой, я бы сам тебя под венец повел! И если уж Наталья Алексеевна думает также, можно было бы и задуматься!
Лиза дернет головой, пара прядей выпадет из прически, упадет на лицо, делая ее вид еще более воинственно-непримиримым.
— Ах, идите к черту, Александр Петрович! И к черту вся эта охота! И Кирилл твой, кстати тоже!
Она оттолкнет его, продолжая свой гневный путь по коридору дальше, намереваясь очень громко хлопнуть дверью и показать всем, что охота ее не интересует совершенно. Может пойти к Ване, да и предложить побег? Вспоминает землистый цвет отцовского лица, умоляющий взгляд Саши и ускорят шаг. И вправду, покатилось бы все к черту!
***
Охота была событием почти всеми любимым и важным. За несколько недель начиналась подготовка, все шныряли туда сюда, подготавливая кто лошадей, кто собак, которые словно почувствовав близость погони за лисицей или кабаном нервно расхаживали по вольерами и конурам, тяжело дыша и облаивая каждого прохожего. Это был особый мир со своим церемониалом, призванный демонстрировать подданным и иноземным гостям блеск и величие, авторитет и могущество. Тем паче сейчас, когда ходили упорные слухи о том, что государю серьезно не здоровится.
Зимнюю охоту перед Днем Рождения Лизы всегда проводили у Бориса Федоровича, на его угодьях, которые впрочем на это время превращались во владения имперские. Путь от Зимнего до Борисовского дворца занимал немного, но сопровождался крупной помпой, большой процессией растянувшейся по дороге. Слышалась музыка, ржание лошадей, всегда подавали нищим по пути. А после устраивалась пожалуй самая грандиозная охота за весь год. И тот факт, что милость царская была именно на Апраксиных только утверждался тем, что выбиралось для нее всегда одно и то же место. Ходили слухи, что канцлер-де специально даже выращивает разных диких животных, чтобы охота была интереснее.
По приказу царя ежегодно в столицу привозили более двухсот ловчих птиц: соколов, кречетов, балобанов, сапсанов, копчиков, ястребов. В большой цене были белые кречеты. Охота с кречетом, вообще считалась самой красивой. Атакующий кречет на высокой скорости сильно бил жертву когтями, быстро набирал высоту и при необходимости повторял атаку - "ставку". Хорошо обученные кречеты упорно преследовали добычу на расстояние до 6 верст и делали до 70 ставок. Добычей кречета были гуси, лебеди, утки, тетерева, коршуны, цапли, журавли, вороны и даже орлы. Лиза даже сквозь закрытое окно слышала их беспокойный клекот. Значит и Ваня, конечно поедет. А ей остается томиться здесь, как древней царевне в тереме Москвы. А ведь эта охота обычно растягивалась на несколько дней, с непременным пиром после во дворце Бориса Федоровича. За это время могло смениться даже оружие – с соколиной ее любимой охоты, переключались на охоту на лис или кабанов, выпуская собак, а заканчивали зайцами или если повезет оленями.
Лиза нарисует на запотевшем стекле свои инициалы, вздохнет так тяжело и горестно, словно это не она не далее как неделю назад говорила о том, что охота эта ей совершенно не нужна. Что же, передумать она успела, гнев за неделю поостыл, в отличие от на этот раз очень долго гнева отца, который впервые не пошел на попятную, а сохранил свое изначальное решение в силе. В другой бы раз она могла попросить Сашу, но и с ним они умудрились разругаться и всю неделю шугались друг друга словно подравшиеся коты. Так что, рядом с ней оставались только мальчики, которые тоже наверняка изнывали от желания поохотиться, выехав из петербурга, но как верные рыцари они были вынуждены оставаться рядом с ней, разумеется соглашаясь с тем, что все это одно ужасное недоразумение.
Варя на охоту как раз ехала, потому что туда же ехал ее отец, как и прочие князья – охота обязана была быть славной. Наташу же, мама вознамерилась взять с собой, чтобы та «помогала присмотреть за детьми», словно Наташа превратилась в нянюшку. Иногда ее словно готовили к какой-то незавидной роли прислуги, Лиза бы могла возмутиться, но Наташа ей запретила, потому что «ничего в этом предрассудительного нет. К тому же, я обязана ваши родителям до конца жизни. И этого не забуду». Наташа всегда любила рисовать свою возможную жизнь до того мрачной, что Лизе самой становилось боязно. Мол, не забери ее тогда во дворец, она вполне могла опуститься на самое дно, пойти в какие-нибудь служанки или и того хуже – в бордель. Лиза тогда говорила, что ни при каких жизненных обстоятельствах бы такого для себя бы не позволила и что мол горло бы себе перерезала. Наташа же качала головой, словно сомневаясь в том, что Лиза до конца правильно мыслит, что такое умирать по-настоящему.
Она подпирает голову ладонью, наблюдая за тем, как пришедшие для того, чтобы не дать цесаревне «пасть в пучины отчаянья» мальчики ругаются из-за карточной баталии. Кажется, Матвей снова решил шулерствовать, Семен пылая праведным гневом его поймал за руку и теперь они устроили шутливую потасовку прямо на полу ее покоев, пока она томилась у все того же окна, мрачно наблюдая за тем, как многочисленная процессия уходит из дворца.
Уезжал на браво гарцующем Плутоне Саша. Показалось ей или же нет, но он бросил взгляд на ее окно. Что же, значит и Кирилла его увидеть не получиться, а честно сказать – страсть как было любопытно. Но самое главное – ужасно это несправедливо! Наказывать ее лишением любимой забавы только потому, что она не желает выходить замуж! И тут, как только последняя карета, последняя лошадь и последняя собака из вида скроется, в ее хорошенькую голову приходит идея поистине гениальная, да и к тому же ужасно смешная! А самое главная, которая определенно ей позволит выскользнуть из дворца незамеченной, так как перед отъездом отлично осведомленный о характере своей дочери император предупредил никуда ее не выпускать.
Она легко спрыгивает с кушетки, на которой предавалась невеселым размышлениями и хватает своих пажей под руки.
— Господа, я знаю как могу вырваться из этой несправедливости! Но мне понадобиться ваша помощь и вся ваша самоотверженность.
На это они, разумеется были готовы без всяких пререканий. За это она их и любила. Кладет свои руку на их, а в глазах пляшут, танцуют зеленые всполохи-чертята.
— Тогда, кому-то придется раздеться.
--- ♠♠♠♠---
—…а если кто войдет? Сразу же все поймут!
— да ты что, Семен! Ты прирожденная девица! — Паша пытается сохранить серьезный вид, что ему впрочем удается изрядно плохо и покои вновь наполняются тихим хохотом всех присутствующих.
Решено было, что переодеваться в женское платье надобно Семену, потому что он, мол, самый среди них артистичный. Да и вообще натура крайне ранимая. К тому же, пока Семен пытался избежать такой участи всеми возможными способами [в том числе отбиваясь от своих друзей ногами и руками] его буквально пригвоздили злобным шепотом: «А не ты ли влюблен? Вот и исполняй свой долг!». Таким образом спустя добрых полчаса мучений из Бесстужева вышла дамочка если не самая симпатичная, но вполне пристойная, постоянно спотыкающаяся о большое количество юбок, с которыми не могла пособиться и нервно трогающая парик на голове.
— Нет, князь! — Матвей, который до этого согнувшись в три погибели пытаясь не расхохотаться в голос снова прыскает, как только смотрит на его напудренное лицо. — Прямо скажу – вы выглядите великолепно! — он откашляется и обнимая несчастного за талию заговорит томным голосом. — Прекрасное создание, вы украли мое сердце! Я готов положить его к вашим ногам! Определенно женюсь на вас!
После такой тирады получает локтем в живот, отпрыгивает ловко от попытки дать себе пинка, что оказывается в таком количество юбок сделать просто невозможно. Очевидно, что Паша что Матвей радовались, что участь надевать платье их не постигла. Лиза же, вышедшая из-за дверей заставила их замолчать, оглядывая свою ладную фигурку, неожиданно легко перевоплотившись из цесаревны в невысокого, гибкого и совсем молоденького паренька. Но даже в мужской одежде, которую пришлось хорошенько подпоясать, кое-где подшить, она выглядела для них созданием божественным. Может быть таковым и являлась.
— Ну, Матвей, Паша, не доставайте Семена. У него в нашем спектакле особая роль. Спасибо, Семушка! — она целует его в щеку и кажется за это он и неделю готов ходить в этом самом корсете. — Ну, а теперь пойду я. А если к вам кто придет, скажите, что цесаревна в дурном настроении – сразу уйдут обратно.
Они провожают ее до двери, вздыхают как-то одновременно.
«Мы же, господа, понимаем, что к Кречетову ее толкаем?»
«Ага, не то слово как понимаем».
«Что, любое желание, любой каприз, а, господа?».
«И никак иначе».
***
Саша, теперь уже более походящий на цесаревича, нежели при их первой встречи, восседая верхом на Плутоне, который все еще отгоняет случайных любопытствующих от себя одним своим видом, мрачно взирает на процессию, шумную и веселую, богатую, следующую за царской каретой, легкой рысью гарцуя следом. Раньше отец сам ездил верхом, но теперь об этом никакой речи идти не могло, хорошо хоть собрался просто выехать, сидя в санях, укрытых медвежьими шкурами. Сколько бы он не подъезжал к отцу, сколько бы не просил простить Лизу, потому что в конце концов вспылила, не подумала, не хотела – бесполезно. В конце концов он так надоел отцу, что был отослан куда подальше, а мать сказала, что: «Отец твой прав, Лизавета так ничему не научится, если все время ее прощать, когда она того не просит. На балу своем повеселится, если ты так об этом волнуешься».
Волновался же Саша, в общем-то не только об этом. Почти юношеское разочарование его съедало – выходит, проболтал все уши о своей сестре, а теперь, поравнявшись с кириловой лошадью передернет плечом, криво усмехаясь. Он уже третий раз так возвращался.
— Сказал «нет», так что куковать моей сестре во дворце и дальше. Думал похвастаться родней, но она, как видишь…сложная. Но, хотя бы быть может поохотимся. А то я выхожу полнейшим, прости, треплом. А что, Кирилл Андреевич! — он вскидывается, сбрасывает хмурость, привычно, легко, словно это не имеет никакого отношения. — Обойдем эту процессию, али как? На перегонки до Борисовского айда! Обещаю дать фору!
Саша отлично знает, что подобные обещания его военного товарища только подстегнут.


Копыта Серебрянки вздымают целые горы снега, снег припорашивает плащ, а она только шепчет своей лошадке громче и громче, в итоге переходя на заливистый и счастливый крик: «Быстрее, милая, быстрее!» и лошадь, подчиняясь призыву и легкому постукиванию пятками по бокам, ускоряет бег. Удивительно солнечный для зимы день – снег искрится, сверкает, а на многие версты вокруг – совершенное белоснежное поле. От белого цвета глаза болят. Удивительно и голубое небо – никогда еще она не видела его столь насыщенным. Ветер путает, связанные в хвост под шляпой волосы, но упасть она не боится – ни разу еще она не падала с лошади, до того хорошо выходило у нее сидеть на ее спине. Тем более, что Серебрянка ее лошадь с детских лет. Они вместе учились ходить и росли тоже вместе, так что теперь это серое, почти сливающееся со снегом животное, скорее упало бы само, нежели бы вздумало сбросить наездницу. Лиза лишь крепче повод сжимает, прижимаясь к шелковистой, развивающейся от быстрой езды гривы, чувствуя, как грудь наполняется живым и таким свободным воздухом. Никогда и нигде она не чувствовала себя так свободно, как при быстрой езде.
А быстрая езда, когда никто не следует за тобой, когда можно кричать что есть мочи, смеяться, когда снег попадает на лицо вообще ни с чем не могла сравниться. И нигде она не ощущала так хорошо, как вот на таких полях, которые она пересекала, следуя к дворцу Бориса Федоровича напрямик, чтобы не попасться всей этой бесконечной вереницы придворных, охотников и ловчих. Нигде не было и не могло быть хорошо, как здесь, в окружении голубого неба, простора, простора русского, который мало где встретишь.
— Хорошо-то как а, Серебрянка? — Лиза хохочет, бесстрашно отпуская повод, расставляя руки в стороны, позволяя ветру хлестать себя по щекам и бить в грудь. На очередной кочке приходится все же за поводья взяться. — Хорошо!
Свобода опьяняла, как и ее шалость, казавшаяся дерзкой и от того еще более прекрасной. Настроение мигом поднималось и она уже и не помнила всей обиды на отца или брата, могла бы даже сейчас извиниться, пожалуй, только бы продолжить ощущать эту быструю езду. Заезжая в лес, который знает с детства не хуже его хозяев, прижимается пониже – сосновые лапы нависают низко, лошадь начинает проваливаться в сугробы сильнее, когда они окончательно в этом лесу скрываются.
В лесу пока тихо. Слышатся вдалеке отзвуки веселья дворян, в особенности тех, кто охотиться не собирается, но даже тогда здесь будет царить эта царственная тишина. В воздухе чувствуется морозный запах хвои. Он слегка горчит на языке. Деревья спят; величественные гиганты похожие на причудливых фантастических существ из сказок. Ветви деревьев, усыпанные толстым слоем рыхлого снега, напоминают лапы причудливых зверей. Земля укрыта блестящим ослепительно-белым одеялом. Ни конца его, ни края не видно. Тропинок тоже нет. Приходится идти на ощупь, но лес этот она знает хорошо – они охотились здесь каждый год. Беспробудный сон зимнего леса нарушат лишь те, кто здесь охотится.
Охота, должно быть уже началась. Найти бы Ваню, но он пожалуй сейчас подле батюшки, а попадаться на глаза отцу, который даже сквозь этот маскарад все отлично узнает, не хотелось, так что оставалось бродить по лесу, держа под уздцы Серебрянку, пока в итоге, не увидела широкую поляну, свободную от сосен, а также не увидела отдаленно знакомые лица.
Лиза, скрываемая плотным пологом еловых и сосновых лап, наблюдает как охотники на противоположном конце поляны очевидно в кого-то целятся. Аккуратно и очень тихо [гладит по морде сливающуюся со снегом Серебрянку, чтобы вела себя тихо] переступает с ноги на ногу, проследив на кого же они охотятся. Отдаленно слышится лай собак.
Косуля, еще совсем молоденькая выискивает под толстым слоем снега съестное.
Как удачно для нее и как неудачно для них, что Лиза оказалась здесь. Тем более, что почти всю охотящуюся троицу она знала. Вася в таком количестве шуб, что сам мог сойти за медведя, но как известно Василий Борисович охоту и не любил, а таскался обычно за Сашей потому, что тому в охоте всегда везло. А вон и сам Саша, чуть позади человека, которого Лиза не знала, да и не все ли равно?
Комкает свежий, нападавший за вчерашний день снег. Снег, благодаря тому, что сегодня потеплело, липнет к рукам отлично.
— Не взяли меня с собой и развлекаетесь? — Лиза растягивает губы в коварной улыбке, прежде чем очень даже точно кидает снежок прямиком в цель. В чужое лицо. Прицел сбивается, а чуткое животное мгновенно дает деру.
Слышатся возмущенные крики, а Лиза сдерживая смех, довольная ужасная своим предприятием срывается с места, легко на лошадь вспрыгивая ожидая, что погони за ней не будет. Но оказывается, нет ничего страшнее оскорбленного мужчины, который упустил добычу. Так что вектор охоты резко меняется. Но так что ж с того? Ведь нет никого, кто бы этот лес знал также хорошо, как она. Разве что кроме Саши. А значит – никто и не угонится.
--- ♠♠♠♠---
Преследователи, очевидно оказываются слишком разозленными ее выходкой, потому что не отстают, она слышит где-то возмущенные крики и обещания наверняка поквитаться или по крайней мере поймать, на что она весело неожиданно крикнет в ответ: «Не дождетесь, господа! Уж больно вы медленные!». Щеки окончательно краснеют, морозный воздух кусается, но в груди все равно топится жидкое счастье – давно ей уже не было так свободно, так свежо и в конце концов так легко. Еще несколько поворотов по лестным припорошенным тропам, прежде чем она спрыгнет с лошади, укрывая ее в густом ельнике и обещая непременно вернуться, но так уж слишком заметно.
Звуки погони стихают, кажется, так что она расслабляется, шныряя между деревьями юркой фигуркой, прижимаясь к одной из сосен спиной, выдыхает, разворачивается и…
Саша готов поклясться, что лошадь эту видел. И тем не менее сам предлагает разделиться и нарушителя окружить, чтобы не дать уйти и выспросить за что он такие безобразия учиняет. И чем больше они гнались за таинственным хулиганом в развивающемся красном плаще, тем более это казалось ему странным – уж слишком хорошо он знал лес, а еще к тому же совершенно о погоне он не беспокоился, словно знал, что даже если поймают ничего не будет. Смутные подозрения еще реяли в его голове, как только они разъехались по трем сторонам, но он отбрасывал их до последнего. До самого последнего…
— Кирилл, давай направо, а я слева зайду. Поймаем наглеца, очень уж любопытно мне! И от чего не веселье, а?
…и буквально нос к носу сталкивается с человеком, которого раньше никогда не видела. Лоб в лоб, глаза в глаза. Случайный, легкий-легкий снег опадает с потревоженных сосен и елей, кружится в воздухе между лицами, сверкающей вуалью опадая на волосы. Лиза застывает, застывает скорее от неожиданности того, что не услышала шагов, столь очевидно тихих, что не смогли ее вспугнуть, как всю ту же косулю. Распахиваются шире мятно-зеленые глаза с янтарными капельками, на долю секунды мир застывает, замирая случайными снежинками на ресницах.
Цвет глаз, которые так внимательно-серьезно на нее смотрели она впервые не могла описать. От того, что сегодня день был солнечные и небо отсвечивало лазурью они и вовсе пронзали своими синими лучами, в таких глазах чувствуешь себя непогрешимым, настолько они чистые до проникновенности. Глаза, что похожие на две нерастаявшие крупинки речного льда покрытые голубой эмалью. А стоило солнцу, столь щедро освещавшему их до этого, прорываясь даже сквозь густые верхушки сосен, скрыться, как они потемнели и изменились. Вот это уже не дать ни взять – колдовство.
Так и стояли они в тот день, в тот самый первый день, друг напротив друга, бесконечные несколько секунд вглядываясь в глаза друг друга. Наверное, сердцу стоило хотя бы как-нибудь подсказать, что так и начинаются все самые знаменитые романы. И сердце подсказывало, но она сослалась на вину быстрого бега, только и всего.
[float=right] [/float]Лиза смаргивает и секундное замешательство, грозящее краху всей затеи уходит. Уходит и странная магия секундного момента, возвращая всех на землю, а ее к той мысли, что из-за какого-то…черт знает кого, ей никак уж нельзя попадаться, так что недолго думая, со смешком: «Ну нет, сударь, после дождичка в четверг, вы меня поймаете!», нахлобучивает шляпу на чужое лицо и со смехом срывается с места, скрывается между стволов, а после недолго думая неожиданно ловко и юрко взлетает почти на нижнюю ветку сосны.
[/float]Лиза смаргивает и секундное замешательство, грозящее краху всей затеи уходит. Уходит и странная магия секундного момента, возвращая всех на землю, а ее к той мысли, что из-за какого-то…черт знает кого, ей никак уж нельзя попадаться, так что недолго думая, со смешком: «Ну нет, сударь, после дождичка в четверг, вы меня поймаете!», нахлобучивает шляпу на чужое лицо и со смехом срывается с места, скрывается между стволов, а после недолго думая неожиданно ловко и юрко взлетает почти на нижнюю ветку сосны.
Лиза знает этот лес. Знает, где ветки расположены достаточно низко, чтобы можно было на них забраться. Не зря же они с Сашей, будучи детьми здесь и лазали кто быстрее. Теперь эти ветви только детей и выдержат. Ну, или хрупких мальчишек. Или юных девушек, переодетых в мальчиков. Лиза хватается за шершавые ветки, те предательски хрустят, снег с них опадает, но она упрямо карабкается повыше, чтобы здесь уж точно ее никто не достал. Особенно, если учесть тот факт, что этот «кто-то», теперь кружил под этим самым деревом, зарождая в груди глухое раздражение. Делать ему что ли больше нечего? Шел бы охотиться, в конце концов!
Скоро под деревом собираются все остальные и, Лиза замечает Сашу, легко спешившегося и теперь подходящего к ее стражу. С ее высоты хорошо слышны их разговоры.
— Ну, что там, Кирилл? Рысь ты на дерево загнал что ли?
Лиза сощуривается. Вот оно значит как – герой всех его рассказов перед ней стоял собственной персоной, а она не узнала. Ну, герой так себе конечно. Шел бы герой своей дорогой.
Саша задирает голову и Лиза, окруженная ветвями недолго думая показывает язык. Она даже отсюда может видеть, как глаза Саши раскрываются. Раскрываются от искреннего удивления. Он было открывает рот, то ли чтобы обругать ее, то ли чтобы рассмеяться. А после успокаивающе похлопает по плечу товарища.
— Ну, вправду рысь, Кирилл Андреевич, — Лиза готова поспорить, что все же Саша намеривался посмеяться над ней. — Эй! — тут он уже обращается к ней. — Спускайтесь, сударь!
С у д а р ь.
Или не только над ней.
Саша добрые шутки любил не меньше, чем она сама.
— Ну ты что, Кирилл – это ж мальчишка еще совсем! Сам что ли так в детстве не делал? — снова обернется на Лизу. — Спускайтесь, кому сказано! В конце концов, это вы первым начали!
Лиза крепче обхватит ствол. Саша, определенно предатель. Нет, чтобы увести своего прекрасного Кирилла куда подальше, решил поиздеваться. Саша манит пальцем.
— Вот уж дудки! – крикнет она сверху. — Если сударю рядом с вами так уж нужно, то пусть сам поднимается! Или что – только мальчишка на такое способен? Или сударь трусит? — она выглядывает уже из-за другой стороны дерева. — Да и вообще, кто же так долго выцеливает, а? Готова…готов, — Саша того и гляди и вправду расхохочется. — поспорить, что вы еще ничего не поймали, господа?!
— Разумеется, ведь нам помешали дерзкой и вероломной атакой! — Саша складывает руки на груди. — Спускайтесь, раз вы так хорошо разбираетесь в охоте. У меня появилась идея.
На царской охоте помимо многочисленных увеселительных мероприятий вроде столов с различными кушаньями, огнеглотателей, шутов, в конце концов музыкантов и сама охота всегда была увеселительной. Не было достаточно словно просто подстрелить пару куропаток. В конце каждого дня выбирался «король охоты». Ему обычно жаловалось что-нибудь из сокровищницы, весь оставшийся день к нему должно было относиться как к императору, оказывая шутливые почести. Раньше даже аудиенцию с императором устраивали, который добрую охоту любил как и хорошую шутку. Сейчас же у него вряд ли хватило бы на это сил, так что все ограничивалось соревнованием.
Лиза сердито спрыгнет на землю, пониже нахлобучит шляпу Семена на голову, отряхиваясь от сосновой коры и игл, зыркнет на Кирилла, благодаря которому это и началось. Еще немного и начнут спорить уже эти двое: кто виноват, что добычи нет и насколько глубоким было оскорбление за трусость. Лиза до конца и уверена не была в том, что в байку Саши в «мальчишка» поверил хоть кто-нибудь. В глазах брата играли черти. Нашел способ отыграться.
— Вот что, господа! – он примирительно встает перед ними. — Чтобы разрешить это недоразумение и не омрачать этот день ссорой предлагаю пари! Тот, кто сможет первым попасть в коршуна, что сейчас так высоко летает над нами — он покажет пальцем на небо, где и вправду прямо под солнцем парил коршун. —… тому отдам вот это кольцо. Ну и заодно он явно покажет себя неплохим охотником, — Саша снимает перчатку и Лиза ахнет. — Согласны?
Ахнет, потому что его хорошо знает – драгоценный перстень, подаренный на совершеннолетие послом из крыма. Полыхающий алым рубин, обрамленный золотом в корону. В характере ее брата было таким запросто разбрасываться снова и снова играя с судьбой. Но не значит же это, чтобы ей отказываться.
Лиза снова стрельнет глазами в сторону К и р и л л а и пожмет плечами. На губах заиграет улыбка.
— Отчего ж не согласиться?
Саша хотел бы рассмеяться. Хотел бы хохотать. Или плакать. Но сдерживался. Наташа бы сказала, что так нельзя и что такая шутка глупость. Но уж если на то пошло, шутить он не собирался, просто выбора Лиза ему не оставила – нельзя же было представлять свою сестру другу вот в таком виде, тем более когда она смотрит на него таким взглядом, как будто собирается сжечь. «Она хорошая». Свой голос звучит в голове издевательски. Да и как объяснять, что твоя сестра делает на дереве в мужском платье? Да еще и нарывается? Нет, нельзя так позорить родную любимую сестру, даже ради Кирилла. К тому же, пока он изображал святое неведение [тем более в том, что касается отличения красивой девушки от симпатичного паренька, что скорее должно было быть свойственно как раз Волконскому, который утверждал, что главная любовь это с т р а н а, а значит далеко не факт, что с девушками вообще имел беседы дольше пары минут] в голове зародился этот самый план. Если уж не получилось по-хорошему познакомить их, так хоть так он непременно покажет, что Лиза стоила всех рассказов.
Потому что стрелять он учил ее сам. Как и фехтовать. А охотятся они ездят с малых лет.
Откуда бы иначе у нее на лице появилась бы эта самоуверенная романовская улыбка.
Кирилл снова надуется, что из него взялись делать дурака, но ей богу, Кирилл если бы ты знал, что на этот раз это совершенно не задумано… а, впрочем, простит.
— Волконский, если что – болею я за тебя. На изготовку, господа!
Лиза насмешливо смотрит на Кирилла, они почти одновременно вскидывают ружья, но она стрелять не торопится. В случае с птицами, выцеливание как раз может помочь. К тому же, Лиза просто ждет, пока солнце скроется, задерживая дыхание. Сердцебиение замедляется.
Один. Два. Три.
Выстрел прореживает лесную пустоту. А следом за ним и второй. И за этим вторым выстрелом падает в нескольких метрах могучая птица.
Саша подхватывает уже мертвую добычу под лапы, поднимает.
Зашло это, пожалуй, слишком далеко. Останется подольше, придется объяснять как зовут и откуда. Еще чего недорого пойти во дворец.
И все же, последний штрих остается. Уходить ведь оно тоже нужно… к р а с и в о.
Лиза снимает шляпу, волосы, медовые волосы распадаются по плечам и теперь уж она окончательно не похожа на слишком уж красивого мальчика. Делает реверанс, губы тянутся в улыбке. Она победила, она это знает. Но всякой забаве приходит конец. Но надобно же знать, что проиграл ты не просто мальчишке, а д е в у ш к е.
— Что ж, господа! Кажется, мне придется откланяться, — она свистнет вдруг, словно заправский конюх, коротко три раза. Серебрянка знает ее свист. Подхватит возникшую из части серую лошадь, легко вспрыгнет. — А кольцо можете оставить. Мне рубины…не идут!
И легко стукнув кобылу по бокам рванет с места. За ней шлейфом красным потянется плащ, волосы продолжат развеваться на ветру. Перед глазами отчего-то еще будет стоять его лицо. И глаза. Они забываться отказываются.
Но одно, с тех самых пор, моя любовь, мы уже поняли. Поняли уже тогда.
Что глаз друг друга не забудем никогда.
— Ба! Неужто ли это была девица?! — восклицает это, хлопает в ладоши, все еще сдерживаясь, чтобы не рассмеяться.
Проследит за взглядом товарища. Покачает головой.
Забирать сердца это то, что его сестре удавалось делать удивительно хорошо. И это иногда очень жестоко.
Поделиться52024-05-20 20:37:32
Солнца лучи плещутся в голубизне распростёртого залива. Гладь его блещет золотистой пыльцой. Угольные, жирноватые штрихи ложатся на шероховатую поверхность картона. Сюжет: бродит человек вдоль изумрудной кромки, сияющей каплями озёрной воды, согнутый точно хилое растение ветром, норовящее вовсе склониться к земле. Поникшее, несчастное, и, весьма задумчивое. А ветер тем временем нежно обдувает лицо, путается в густых, каштановых волосах; шуршит в листьях дубовых, качает ветки сосен, которые мачтами тянутся к небу. Что за миг чудный: закрываешь глаза, подставляешь лицо, вдыхаешь воздух, влажный, мглистый, полный свежего запаха моря и хвои. Да только не весел сегодня человек, силуэт которого с лёгкостью выведен на картоне. Не смахнуть ветру тучи с его лица. Он останавливается, — трава мягкая, нежная, истоптана в сплошную тропинку. За спиной едва слышится свист шпаги, рассекающей ветер, — рубит остриё венчик ни в чём не повинной ромашки. Взгляд глаз, кажущихся сейчас зелёно-голубыми, ничего не выражает кроме тоски. Ни задора, ни живости.
— Будет тебе, Кирилл Андреич, — весело выкрикивает Гриша, — ты мне своим хмурым видом всё солнце прогнал, — отбрасывает в сторону, на траву, картон и уголь, и ловко подскакивает, становясь на ноги. На картоне так и останется силуэт изогнутый, человека, сгорбленного от тяжести дум. Гриша бросает взгляд на Володю, а тот только плечами пожимает и норовит на кончик шпаги цветок ромашки наколоть. — Ну, не хочешь, не надо! Мы спасём тебя, друг. Слово дворянина, — тяжёлая рука опускается на плечо. На сей раз злобный взгляд метнёт в сторону Володи, мол “давай помогай”. Друзей в беде не бросают, — им ли не знать. Беда, впрочем, не самая страшная, только Кирилл Андреевич об этом не ведает. Перед ним стоит Гриша краснощёкий, светловолосый, неизменно улыбающийся. Гриша травит шутки да анекдоты постоянно. Забавляется живописью, потому что забавляться им только и дано. Ни дела своей жизни, ни спутника на всю жизнь они не выбирают. Слово родителей — закон. Кирилл, однако, сей закон желает оспаривать.
— Руку убери, — дёргает плечом, нахмуривая брови пуще прежнего. Не вяжется сегодня беседа на Берёзовом острове. А ведь место сие укромное, скрытое от посторонних глаз, — кладезь для людей самых разных призваний: будь то поэт, художник, прекрасный пол или агент тайной канцелярии. Какие только беседы здесь не велись, заслуживающие то наказания, то похвалы, то смущённых взглядов прелестных дам. Трагедия неописуемого масштаба сосредоточилась в голове Кирилла Андреевича, и никак не желала продвигаться к своему завершающему акту.
— Не бывать этому! Я человек вольный, верно? — вспыхивает пламенем, разворачиваясь к Володе. — Я — русский офицер, которому думать надобно прежде всего о службе державе, а после... — бросает взгляд на Гришу, чуть ли не осуждающий, — о страстях человеческих.
— Хорошо сказано, друг мой! — Гриша хлопает в ладоши, намёк понимая — он первый, кто побежит на сеновалах забавляться с крестьянками, и толк в этом знает. Однако же, Кирилл подобными похождениями интересуется менее всего, считая то постыдным и грязным занятием. — Действует по обстоятельствам. Видишь опасность — беги что есть мочи. Правильно, Володька?
— А мы рядом будем, — заверяет Володя, медленно кивая головой. — Женитьба — дело добровольное ведь, не нас выбирают, а мы выбираем. Помни об этом.
— У нас, господа, — окидывает взглядом то одного, то другого, — вся жизнь впереди. И за нашу свободу мы будем бороться, — серьёзное выражение бледнеет, уступая мальчишескому озорству и коварству в не менее коварных глазах, а губы так и норовят в широкой улыбке растянуться; он склоняется, нащупывает эфес шпаги в траве и мигом принимает боевую позицию. — Защищайтесь, сударь!
Кирилл со звонким смехом делает выпад, на который Володя спешно отвечает. Завязывается бой под лязг металла и пронзительный свист ветра. Гриша покачает головой, открещиваясь и объявляя себя ведущим счёт удач и промахов. “А тот, кто проиграет, пригласит даму на танец!” — сообщает он сквозь хохот, не имея никакого шанса облачиться в саму серьёзность. Быть серьёзным среди них — прерогатива Кирилла Андреевича. Шпажная баталия обещает быть продолжительной хотя бы потому, что шпаги скрещивают оба любителя отстоять свою честь, срубить пучок ромашки или проколоть насквозь врага отечества. В отличие от запальчивых друзей, Гриша беззастенчиво ленится и отдаёт предпочтение своей ненаглядной живописи. На том друзья и прекратили его мучить шпажным искусством. Всё одно не отвертеться от службы.
— Ах, Кирилл Андреич, стало быть, тебе даму приглашать, — делает реверанс Гриша, когда Кирилл оказывается на земле под чужим клинком.
— Волконские принимать поражение с достоинством! — он оказывается на ногах быстро, однако роль влюблённого кавалера столь отдалённая и непонятная, что вживаться в неё едва ли удастся. Более того, никоим образом нерасторопный вид Володи не помогает представить прелестную девушку. Однако же, не даром отец повторял постоянно: Волконские принимают поражение с достоинством. Гриша хватается за живот хохоча, когда Володя строит из себя разочарованную даму.
— Ох, сударь, я решила, что вы попросите моей руки. Неужто вы этого не сделаете? — хлопает глазами, надо сказать, совершенно не кокетливо.
— Ни в коем случае, прекрасная сударыня, — после неуклюжего реверанса протягивает свою руку, в которой оказывается рука “дамы”, — я уважаю вашего батюшку и преклоняюсь перед вашей красотой, однако, моё сердце навсегда принадлежит лишь одной девице и зовут её — Россия.
— Вы оскорбили меня, сударь!
— В таком случае, я собираюсь защитить честь дамы!
Гриша наваливается всем немалым весом на Кирилла, разумеется, повалив наземь. Оба заливисто смеются. Час за часом летит незаметно, вскоре и солнце начинает клониться к земле, заходить за тёмно-зелёную ширму леса, отгородившую залив от чистого горизонта. Кирилл друзей любит не менее, чем отечество своё, службу которому ставит превыше всего. Дни, когда беззаботно они могли проводить время на берегах залива, остались позади. Последние часы урывают, крадут буквально у спешащего вечера. Закончилось детство, закончились школы, нудные учения с репетиторами, — началась служба. Кирилл ничего не ждал столь сильно, как первой поездки в полк с письмами от батюшки, в которых содержались и просьбы, и перечисления достоинств. Минуло три года, — они до сих пор мальчишки, до сих пор дурачатся как дети, однако с какой-то важностью и серьёзностью в глазах. Ведь будучи гвардейцем Преображенского полка, иначе нельзя. Кирилл почитает свою службу за наивысшую честь. И наиболее всех остальных желает вернуться в Санкт-Петербург, как бы сильно не любил родные Берёзовые острова.
***
Андрей Григорьевич неизменно отличался нравом спокойным, точно море в безветренный день, точно бесконечный штиль. Волнение отражается разве что бровями, которые то взмывают, то падают и хмурятся, бросая тень на светлые глаза. Тёмные глаза — беда. Тишина за столом — беда. Задумчивый взгляд упирается в одну точку, пальцы порой выстукивают на деревянном столе отдалённо известную мелодию, — чаще всего Кирилл угадывал марш Преображенского полка. Ужин не тронут. Бокал с вином, — лишь один бокал за день выпивал Андрей Григорьевич, — также не тронут. Молчание тягостное тянется до опустевшей тарелки, на которой красовался аппетитный кусок гусиного мяса под капустой. Аглая Владимировна, в свою очередь, не без гордости в тёмных глазах наблюдала за каждым: пустые тарелки лишь подтверждали ненадобность кухарки, пусть супруг и твердил надоедливо, что однажды стоять у плиты ей осточертеет. Она упрямилась и упрямится до сих пор, больно влюблённая в кулинарное дело. Любава тем временем тянется за яблоком, сверкая своими большими глазами, полными озорства; глаза у неё пусть и тёмные, порой темнее кофе, зато сияние в них ослепительное. Раздаётся хруст, наконец-то заставляющий Андрея Григорьевича зашевелиться, задышать. Он будто долго вспоминал, о чём хотел завести беседу.
— За какие же заслуги ты так поступаешь со мной? — поднимает взгляд на Кирилла, сидящего на противоположной стороне, во главе стола.
— Не понимаю вас, батюшка.
Однако же, спина и плечи точно каменеют от напряжённого ожидания. Недобрых знаков, предвещающих разговор не из приятных, достаточно. Любава снова хрустит яблоком, на сей раз заставляя дрогнуть. Ему отчаянно не хочется говорить. А ведь затея казалась безобидной шуткой, ведь никогда прежде серьёзной речи об “э т о м” не шло.
— Всё ты понимаешь, проказник. Зачем сбежал, когда Павел Петрович приезжал? Я-то надеялся, ты присутствовать будешь. Твоего мнения спросить хотел.
— Моё мнение вам известно, — произносит резко, решительно, тоном, который оспаривания не потерпит. — Не интересует, батюшка. Вы, часом, не перепутали меня со своей дочерью? — внутри всё существо буквально клокочет, силою воли удерживает себя от более грубого тона. Матушка будто бы безразличным взглядом осматривает то одного, то другого, по обыкновению выжидая развязки. Кулак опускается с грохотом на стол, — зрелище поистине редкое. Порой забываешь о том, что отец — военный человек. Вспоминаешь, стоит ему только кулаком по столу ударить да волю свою проявить. Гневается он крайне р е д к о.
— Не смей так с отцом говорить. Павел Петрович — мой старый друг. Мы росли вместе, учились вместе, воевали за державу и царя — вместе! Думали, вот сыграют свадьбу наши дети и станем родными людьми. Мальчишка, ничего ты в дружбе не смыслишь. Вам бы только шпагами махать да хвосты коням крутить, — отмахивается рукой.
— Что же, не по Сеньке шапка, батюшка, — чеканит Кирилл выразительно-громко. — Не об этом мои мысли сейчас, да и Катерина Павловна по душе никогда не была. Не нравится она мне. Глупая. И толку от неё?
— А тебе что, жена для толку нужна? Или тебе в жёны императорскую дочь привести? — разочарованный Андрей Григорьевич порою и шутками не брезгует, однако выглядит при этом крайне серьёзно.
— Я слышала, — раздаётся ещё нежный, мягкий голосок Любавы, — царская дочь хороша. Что смотрите? Слухами земля полнится. Да и разве может у императора быть уродливая дочь? Одна осталась, поторопиться бы тебе, братец.
— Это только слухи, — мрачно ответствует Кирилл, убеждённый в своих же словах. Он верит только если собственными глазами видит, не иначе. Более того, разбирает с трудом, где правда, где насмешки на пару с издевательскими шутками. Лишь забавляет своей искренне-серьёзной реакцией. Любава подсмеивается.
— Повесят нашего Кирюшу однажды. Слышал бы тебя император.
— Что же, Кирилл Андреевич, напишу-ка твоему командиру. Напишу, что непослушание проявляешь. А в военном деле главное что? Верно, послушание. А с тобой я отдельную беседу проведу, доченька, — отец улыбается, оставаясь довольным собой; опирается спиной о спинку стула и наконец отпивает вина из бокала.
— Батюшка! Нечестно это. Какое отношение женитьба имеет к моей службе?
Андрей Григорьевич улыбается и молчит. Кирилл испугался всерьёз. Отцовские рекомендации запросто силу потеряют, стоит только написать ему какое-нибудь компрометирующие письмо. Разумеется, не будет никакого письма. А искренняя вера каждому слову забавляет даже серьёзного, спокойного Андрея Григорьевича. Кирилл постепенно понимает, что над ним пошутили в очередной раз, и поспешно удаляется из обеденного зала, обиженный то ли ни отца, то ли на себя, то ли на весь несправедливый свет.
***
Несколько часов кряду бродит Кирилл вдоль берега, пока ветер теребит белоснежную рубаху и взлохмаченные волосы. За несколько часов осмысливает целиком своё пребывание на каникулах в родном краю. А стоило ли упорствовать? Каникулы случаются не столь часто, чтобы каждый раз разругиваться то с одним, то с другим. На фоне янтарного солнца и разливающегося заката огненными красками, даже женитьба на ненавистной Катерине Павловне не кажется чем-то ужасающе-страшным, отнимающим свободу, коей дорожит каждый представитель мужского полу. Ему всё казалось, что свобода для девиц — пустой звук. Им бы гнёзда вить, детей рожать да мозг проклёвывать. Матушка никогда такой не была, однако же, не сыскать в целом свете женщины, похожей на матушку. Она обладает удивительной особенностью: вспомни только и услышишь позади шаги, лёгкие-лёгкие. Любимая матушка. Каким бы хорошим и добрым ни был отец, они, дети, тянулись неизменно к её тёплым, натруженным рукам, — трудиться она любила, даже когда надобности не было. Держать прислугу в доме она считала лишней роскошью, даром изымающей средства из семейного бюджета. Их семейство особенно нуждалось в средствах, оказавшись в дикой, почти безлюдной местности, где предстояло потрудиться на славу. Она рассказывала выдуманные истории вместо сказок на ночь, — откуда только столь бурное воображение у неё? То одноглазые пираты нападающие на королевские корабли, то неизведанные дикие джунгли, то лошади летающие. Сказки о царевичах и царевнах она находила скучными, как и её дети, впрочем. Другое дело: раздолье для фантазии, коей не были обделены Волконские. Она открывала широкие объятья, когда отец строго наказывал, ведь никуда не денешь сей военный нрав, отточенную выправку и ей богу, дрессировку. Кирилл помнит с детства приятное чувство, когда матушка гладила по волосам, приглаживая чуть бунтующие каштановые кудри (его волосы будто дождь не любили, мгновенно начиная от влаги виться); помнит шёпот убаюкивающий, голос обещающий, что “всё плохое обязательно пройдёт”. Матушка была неизменным утешением. Им и осталась по сей день. Дикая, своенравная, смелая, но бесконечно мудрая и любящая.
Она подходит ближе, молчит и смотрит на него внимательно снизу вверх; больно высоким уродился, да и, откровенно говоря, не только ростом пошёл в отца. Привстаёт на носках, тянет руку, чтобы звонкого подзатыльника отвесить. Бить она умела похлеще батюшки. Тот и невидимой букашки не тронет, наказания в применении силы никогда не заключались. Зато она бьёт больно, хлёстко. Кирилл мигом прикладывает ладонь к затылку, щурясь от боли.
— Это за то, что отцу дерзишь, уразумел? — спрашивает что ни на есть строгим тоном, выжидая пока усвоит урок. Кирилл только голову склоняет, а она своими ладонями тёплыми касается лица и осторожно, мягко поднимает; снова приподнимается на носочках, тянется к нему и нежно целует в лоб. Материнский тёплый поцелуй прогоняет и боль, и обиду, и любые терзания. — А это за то, что не пошёл в своего батюшку окончательно. Я бы завыла здесь, будь ты вылитый он. Нет-нет, кое-что от меня таки досталось, — руки соскальзывают на плечи, сжимают крепко. Она им буквально любуется, гордится, от чего на лице засияет счастливая улыбка.
— Простите....
— Нет, — покачает решительно головой, — нужно знать, за что просить прощения, а за что не стоит. Ты же на него похож, а стало быть, не девицы в твоей голове. Он знаешь, как грезил своей службой в твои-то годы? Ты просто скажи Катеньке, как оно есть. На меня подействовало в своё время, авось и тебе поможет.
— Вы не хотели идти за отца? — странно, что лишь на девятнадцатом году жизни задаётся этим вопросом. А впрочем, Аглая Владимировна на сей счёт не распространялась часто и много. Сплетни и разговоры о личной жизни она терпеть не могла, потому круг женщин её упорно не принимал, только испытывал нужду считаться с её мнением. Она посмотрит прежде на закат, разлившийся по небу. Губы тронет улыбка, сделавшая совсем молодой, словно унеслась в те самые годы.
— Хотела, милый. Хотела. Только понимала, что ждать надобно. Когда он объявил, что жениться не собирается и служба — жизнь его, я отступила. Не Катюшка нужна тебе, понимаешь? Не та, кто хочет провести всю жизнь в своём доме, родить дюжину детей и умереть в счастливой старости. Уж прости, такую девицу ты сделаешь несчастной.
— Надо ли оно вообще, матушка? — смотрит на неё пристально, будто вот-вот и будет свободен от навязанной нужды жениться.
— Глупый! Разумеется, иначе род Волконских здесь и прервётся. А мы живучие, между прочим. Об этом все знают. Только не сейчас, позже. Отец твой друга своего больно любит, сговорились они, но ты не должен их слушать. Уразумел?
Кирилл послушно кивает. Наставления матушки ему только в радость. На крыльце дома появится Андрей Григорьевич, помашет рукой приглашая чай пить в саду. В тот вечер Волконские заключили мир, потому что нечто более важное и опасное надвигалось хмурой тучей. Каждый знал, что держава ведёт войну. Война забирает детей. Ни отец, ни мать, ни сестра, — не выдавали тех переживаний, которые в душах бушевали.
***
На том же берегу Финского залива готовилось прощание. Кирилл вышел пораньше, дабы пройтись вдоль берега, хотелось думать, что не в последний раз. Стылый, утренний ветер теребил плащ, волновал тёмно-синюю, почти тёмно-серую, гладь. Положив руку на эфес шпаги, простоял он неизвестно сколько напротив Берёзовых островов, до которых добирались то на лодке, то вплавь. Утро хмурое селило в сердце тоску. Небо серое с оттенками голубого, леса на островах потускневшие. Служба службой, а первый военный поход — дело серьёзное, взывающее больше к ответственности, нежели к страху. Когда вдалеке послышался голос сестры, стало ясно — пора. Перед домом собрались все: родители, взволнованная Любава, сам Павел Петрович (хотелось верить, что не оскорблённый), старик-денщик Иван (любил его отец, да и вся семья), матушки помощница Вера Дмитриевна (она же временами нянькой для детей была), и батюшкин помощник (батюшка согласился на него, когда травма и болезнь отняли добрую половину сил) Гаврила. Более прислуги в доме не наблюдалось: не столь богатыми слыли Волконские, да к тому же бережливыми являлись (лишние деньги если и водились, то только в копилке). Благодаря их малому числу Кирилл знал каждого как родного. Перейдя на быстрый, широкий шаг, впервые он почувствовал, что значит по-настоящему уезжать из дома родного, не зная, вернёшься ли, увидишь ли с н о в а.
Дойдя до всех собравшихся наконец, обнимает сперва отца и крепко, забыв вчерашние и позавчерашние, абсолютно все, обиды. Вера Дмитриевна обнимает Любаву, — обе расплакались, шмыгают покрасневшими носами. Андрей Григорьевич улыбается добродушно, хлопает по плечу, ни слова не произнося. Кирилл видит во взгляде ясном тревогу, печаль, которая свойственна даже такому, казалось непробиваемому человеку. Аглая Владимировна цепляется за рукава кафтана тёмно-бирюзового (который порой сжечь хотелось вместе со всей униформой), обнимает также крепко и также безмолвно.
— Только попробуй не вернуться, братец. Иначе знаешь, что будет? Обрежу волосы, и сама в солдаты пойду! — отчаянно выкрикивает Любава, топая ногой, не боясь потревожить ни спящих с утра птиц, ни тишину и покой, царящий в имении.
— Тогда батюшка меня не простит, сестрица, — он тепло улыбается и прижимает её к груди, чувствуя, как снова цепкие пальцы ухватываются за плотную ткань кафтана. Ежели у него всегда водились друзья то из уличных мальчишек, то из соседских семей, то Любава едва ли умела дружить с соседскими девчонками. Вся в мать. Кирилл был её другом с ранних лет, а со временем мальчишеская компания стала своей. Посему она неизменно заступается за него, в спорах занимает его сторону, поддерживает всячески, только бы он этого не заметил (не дай боже испортится). Расставание очередное даётся тяжко, Вера Дмитриевна силой оттаскивает от Кирилла. Он не брезгует обнять и всех остальных, разве что боязно было приближаться к Павлу Петровичу.
Кирилл оборачивается, попрощавшись со всеми, и сердце его пропускает громкий удар: появилась точно из ниоткуда Катерина Павловна, утирающая глаза белым платком. Не хватало только объясняться с девицей перед столь важным отъездом. Впрочем, Волконские — не трусливая порода, не из тех, кто станет расшаркиваться, колебаться и проявлять какую-либо другую слабость духа. Он поправляет треуголку и решительным, солдатским шагом направляется в её сторону. Благо она стояла тихонько в сторонке, никто не услышит, а особенно её уважаемый батюшка. Вблизи её глаза оказываются вовсе красными, и причина тому неведома Волконскому. Быть может, волнуется за него, как и все остальные. Иных причин не сыскалось в его ограниченном мужскими интересами, уме.
— Екатерина Павловна, позвольте мне быть честным с вами, — выдаёт тотчас же, переходя на решительный, офицерский тон. — Я никакого отношения к любым договорённостям не имею. Я сделаю вас несчастной, поверьте.
— Не говорите так, Кирилл Андреевич! — её рука тянется к нему, но Кирилл невольно делает полшага назад.
— Вы должны знать правду. А правда заключается в том, что ни одной девушке я не смогу отдать своё сердце. Не в этом судьба моя. Вы найдёте достойного супруга, поверьте.
— Возьмите хотя бы платочек...
Отдалённо, однако Кирилл знает каким смыслом наделены подобные вещи. Гриша говорил, что у девиц принято дарить платочки на прощание своим избранным, особенно собственноручно вышитые. А ему, Волконскому, ни к чему такие жертвы. “И значит это только одно: ты попался, друг мой”, — важно говорил Калиновский, воображая себя знатоком дел сердечных. Кирилл едва заметно качает головой, лишь мимолётный взгляд бросив на платок, снова делает полшага назад, а она тянется за ним.
— Прощайте, Екатерина Павловна, — склоняет вежливо голову перед ней, прежде чем развернуться и направиться к подготовленному в дорогу, жеребцу.
Опустившись в седло, он в последний раз осматривает каждого: вот батюшка глядит своим умиротворённым взглядом, снова штиль, вот матушка улыбается (негоже вносить смуту перед дорогой), вот Любава всхлипывает с раскрасневшимся лицом, и вот Вера Дмитриевна машет платком, Гаврила смахивает слезу (для них эти дети всё одно что свои). Иван стоит рядом, дабы проследить за тем, чтобы Кирилл Андреевич отправился в путь в полном порядке. Ему не хочется прощаться грустно, а потому улыбается широко, приподнимается в седле и машет рукой.
— Я вернусь, только никому не говори. Береги себя и моих родных, Иван Фёдорович! Я вернусь!
Под радостно-ликующие возгласы вороной конь пустится вскачь. Свободу, которая грудь раздирает, почувствуют оба. Дух захватывает от предвкушения подвигов, коим непременно должно случиться. Не страшат его ни густые, хмурые тучи на горизонте, ни раззадоренный ветер, ни близкая война.
***
Берёзовые острова и город Берёзово, что в Ингерманландской губернии, не всегда являлись родным домом для Волконских. Андрей Григорьевич службу любил больше жизни. Благодаря чему продвижение по службе давалось ему легко, а тягости были вовсе незаметны. На алтарь было положено и личное счастье, и возлюбленная, и даже первое дитя, которое, к его счастью, оказалось мужского пола. Однако, судьба его жертв не приняла и распорядилась иначе. Шла война за господство на Балтийском море. Случались ожесточённые битвы как в море, так и на берегах. За Котлином и Выборгом следовал последний трофей, который должен был оказаться в крепких руках императора Петра Алексеевича. Никто лучше Андрея Григорьевича этого не сознавал. Не быть короне с полным набором бриллиантов, ежели не завоевать Бьёрке с его островами. Андрей Григорьевич хоть и дослужился до высокого чина, оставался солдатом бедным и простым, непременно отказываясь от любых непристойных предложений и возможностей разбогатеть. Ни взяток, ни подарков он не принимал. Терпел плевки в лицо и спину, порой ядовитые. На первом месте у него были исключительно интересы Петра Алексеевича, интересы державы, а подобного рода преданность имеет не всегда счастливый конец. Бой за Бьёрке состоялся весной, когда пробивались подснежники, таяли льдины в проливах, нежной листвой распускались ветки деревьев. Влюбился Андрей Григорьевич в бирюзово-зелёные леса, в голубые заливы и синее-синее небо над архипелагом. Влюбился так, что дрался отчаянно, походя скорее на зверя, чем на человека. Травма была серьёзной, как и многочисленные ранения. Солдат на поле боя со стороны русских не хватало. Враг численностью возвышался. Даже Волконских можно сломить, опустить на колени. Однако, не русскую армию. Пока медики бились над его израненным телом, Бьёрке объявили Петровским трофеем, завоеванием, победой. Поселения и острова гордо были присоединены к великой и могучей Российской Империи. Таможенный караул на островах был подкреплён четырьмя пушками и командой из двадцати человек, а на участке морского пути от Выборга до Бьёрке была учреждена лоцманская служба. Наступило новое утро для этого дивного края, и новое утро, принесшее дурные вести, для Андрея Григорьевича. Его служба закончилась. Лишь Аглая Владимировна могла его образумить. Чего только не предпринимала она: рыдала перед ним на коленях, бранилась как браниться барышне непозволительно, молчала и обдавала холодом. Стыдила тем, что где-то под Москвой в нечеловечных условиях растёт их единственный сын. Скрепя сердцем, Андрей Григорьевич службу оставил в слишком молодом, как он полагал, возрасте. Многие ровесники продолжали служить и дослуживаться до самых высших званий. А ему было суждено уйти и более не возвращаться. Прихрамывающие люди с больным сердцем и прочими недомоганиями ни к чему в армии. Как водилось в то время, Андрею Григорьевичу пожаловали имение, да не где-то под Москвой, а подле самих Берёзовых островов. Вблизи от берега в городе Берёзово, стояла трёхэтажная усадьба, окруженная парком и садом. Андрей Григорьевич тосковал по службе долго, не находя радости ни в семье, ни в новом месте жительства, которое завоёвывал собственными руками. Лишь спустя время увидел он свою надежду в Кирилле, который проявлял интерес к военному делу: то и дело пропадал в отцовском кабинете, где хранились различные книги о военном искусстве, различные карты и документы, более не имеющие ценности. Кирюша любил своих оловянных солдатиков, любил носить слишком большую для своей головы, треуголку, и рассматривать эфес отцовской шпаги, украшенный драгоценными камнями. Своё продолжение во всех смыслах Андрей Григорьевич видел в сыне. Иначе быть не могло. Повеселел Андрей Григорьевич. Вспомнил юношеское увлечение и принялся лошадей разводить, немало денег испустив (за что был отчитан супругой) на конюшню. Появилась на свет прелестная дочь — радость семьи, разве что не девицей росла она, а настоящим мальчишкой. Любаву забавляла охота, верховая езда и языки, которым её учил брат. Кирилл учиться терпеть не мог, и каждый день, проведённый в школе (батюшка желал поддержать царскую инициативу по созданию школ) проклинал, зато увлекался языками. По крайней мере, немецкий и английский ему удалось освоить, когда французский оказался слишком сложным со своим странным произношением. Андрей Григорович решил, что останется в Берёзове до своей кончины. Никаких подарков и жалований принимать не желал, считая, что достаточно крыши над головой и титула провинциального дворянина, который обеспечит его сыну место в столичном полку. Имя его не приобрело известности, однако было уважаемым в определённых кругах. Ни коем образом он не желал своей громкой фамилией продвигать Кирилла по службе, а потому громкой она никогда не была и не стала бы. Только Кирилл мог определять (и сам того не ведал, разумеется), останется ли фамилия Волконских на страницах истории. И будет ли произносима устами современников.
Ведь война не окончена.
***
Война оказалась совершенно не тем событием, которое описывают в романах. Потоки крови, множество убитых, замазанные порохом и землёй лица, порой серые и безжизненные, пустота в глазах и смерть с именем императора на губах. Каждый русский солдат умирает с верой в то, что послужил на славу отечеству. Каждый русский умирает будто с гордостью. Ни один не отрёкся от своей присяги. Кирилла раздирали самые разные чувства, от страха по первости до скорбного восхищения. Восхищаясь сослуживцами, невозможно не скорбеть, не прочувствовать боли, какую чувствуют они, погибающие. Война — это вовсе не красивая история, заставляющая барышень подтирать слёзы вышитыми платками. Это грязь и горький порох, оседающий на языке. Воздух, который смраден от пепла, дыма, и надо признать, проклятий. Это запах железистый. Впервые он понял, чем пахнет кровь. Каким бы сильным желание ни было остановить в о й н у, пути обратного не существует. Сразу Кирилл уяснил, что голос совести доведётся гасить. А совесть молчать не может, когда у б и в а е ш ь. Подходящее ли это место для особо совестливых?
Мало существует занятий, которые способны его отвлечь от тяжёлых раздумий. Однако, повезло, что лошадей насчитывалось достаточно, — этим он и занимался, присматривал за ними, пока другие были заняты чем-то своим. Солдаты зачастую занимают себя выпивкой и карточными играми, а не слежкой за молодым подпоручиком, который то и дело навещает их коней. Любовь к лошадям передалась от батюшки, разумеется, который не пожалел ни средств, ни сил для своей конюшни. Его лошади пользуются некоторой популярностью в Ингерманландской губернии, потому что Андрей Григорьевич знает толк в хорошей, чистокровной породе. Кирилл любит с ними говорить, не сомневаясь, что те п о н и м а ю т, пусть не каждое слово, однако суть — определённо. Любит их приводить в порядок (чем занимался дома, помогая Ивану), вовсе не брезгуя. Когда же наступило время безделья, он не мог представить себя где-либо, кроме сооружённой конюшни. Ранним утром ноги понесли в её сторону несмотря на то, что сознание плыло в тумане после нелёгкой, душной ночи, — спал он беспокойно, словом, плохо. Последний конь в осмотренном ряду вызывал больше всего интереса. Благо, после чистки Волконский успел прийти в себя, проснуться, посмотреть на мир чистым взглядом. Мир оказался вовсе не туманным и размытым, а чётким и вполне выразительным. Чёрного окраса жеребец глядел будто внимательно, будто изучал его, незнакомца, прежде чем решить — подпустить иль оттолкнуть. Кирилл поступает также: пристально смотрит в тёмные глаза, замирая на расстоянии в несколько шагов. Главное, в знакомстве не торопиться. Для пущего эффекта скрещивает руки на груди, дабы не выглядеть простаком в глазах напротив. Они долго смотрели друг на друга, точно играли в игру.
— Грязный ты, — наконец констатирует факт. — И чем только занимается твой хозяин? Ну, знакомиться будем? — делает осторожный шаг вперёд, протягивает руку и пальцами едва касается гладкой морды. Стало быть, вороной не возражает. — Смотрю, тебе здесь нравится. А мне не очень. В столице как-то не задумываешься, что значит настоящая служба отечеству. Тебя это тоже касается, — заглядывает в его глаза снова, прежде чем аккуратно приняться за чистку. Для этого дела он не побрезгал и перчатки снять, и вовсе не потому, что перчатки жалко запачкать. Тепло рук способствует чужом расположению. А то, что приобретут запах не самый приятный, — пустяки. Постепенно, однако Кирилл справился с нелёгкой задачей. Конь не казался из простых и дружелюбных, которых легко подкупить то сахаром, то яблоком. Наиболее всего ему нравилось ладить с дикими нравами, а не укрощать их. В конюшне батюшки не часто встречались своенравные, характерные, но, если встречались, Кирилл был первым, кто становился перед дулом пистолета, — только бы не застрелили.
— Теперь совсем другое дело, красавец, — произносит восторженно, оказываясь к морде совсем близко, почти носом утыкаясь. Яблоко у него тоже нашлось и было услужливо принято, — на ладонях остался липкий, яблочный сок. — Извиняй, сахар — слишком дорогое удовольствие даже для меня, — и это вовсе не останавливает вороного от толканий да покусывания, которые кажутся дружелюбными. Сердце трепыхается радостно, когда наступает долгожданный момент, когда ладонь полностью ложится на морду, когда лбом упирается в чужой лоб (оба удачно высокие), и все беды будто проходят. Это ли не любовь? Кирилл оборачивается, когда слышит шаги, и ожидает, впрочем, насмешки в свой адрес или приказа отправиться выполнять какое-то глупое задание (командиры чувствуют нужду в командовании). Протяжное ржание что-то да значит, только он впервые видит э т о г о человека. Прежде чем дать ответ, осматривает недоверчивым, настороженным взглядом.
— Люблю, — впрочем, более содержательный ответ давать не собирается, полагая что незнакомцам не должно быть дела до его персоны. — Цесаревича? — переспрашивает не потому, что боится, — бояться нечего. Скорее поразителен сей факт: сам цесаревич отправился воевать. Отец рассказывал, каким человеком является Пётр Алексеевич, но трудно было поверить, что царские отпрыски опустятся столь низко. А война — дело достаточно низкое, грязное. Продолжает в задумчивости поглаживать чёрную морду, пока не раздаётся вновь чужой голос. Да и сам вороной начинает проявлять больше интереса к этому чрезвычайно общительному парню, иначе его не описать. Кирилл руку убирает.
— Что ты, удивительно, что его хозяин здесь, а остальное не имеет значения, — улыбается, только вовсе не парню, который рядом стоит теперь, а коню. — Очень. Редкий вид. И характер. Такие обычно не живут долго. Наверное, наш цесаревич знает толк в лошадях... — предательства Кирилл, разумеется, не ожидал хотя бы потому, что не ожидает его от людей слишком часто, а уж тем более, от лошадей. Под весёлое ржание летит в стог сена, и солома мигом путается в волосах, покалывает кожу под слишком свободной рубашкой, — одеться подобающе он не успел. Кирилл хорошенько мотает головой, смахивает солому с волос и смотрит снова с каким-то недоверием, исподлобья, на протянутую руку. Принимает её не сразу, почти решившись оттолкнуть, и лишь в последний миг собственная рука безвольно тянется, крепко ухватывается за чужую ладонь.
— Кирилл, — бросает ворчливо; и этого достаточно, без отчества и фамилии. Улыбка у этого Александра подозрительная, слишком яркая, ослепительная. Должны ли люди, видящие все ужасы войны, улыбаться?
***
Кирилл всего лишь проходил мимо, собираясь расположиться среди подобных себе, молодых и впервые прибывших на настоящую войну. Среди старших по званию он чувствовал себя более чем некомфортно. Слухом хорошим Господь Бог наделил, что скорее проклятие, а не божественный дар; да и обострённое чувство справедливости на пару с принципиальностью и упертостью, — проклятие похлеще. Он стремится отстаивать любую честь, которая была задета. Он непременно будет драться на шпагах, ведь иначе честь дворянскую не отстоять. Пьяные солдаты, — не тот контингент, который стоит подслушивать да вызывать на дуэли. Пьяные русские бывают самых разных оттенков, и далеко не все из них красочные.
— Да плевать я хотел на командование! Этот индюк сам не ведает, что творит! Они твердят, что нет ничего выше, чем служение отечеству, а мы уже сколько повидали убитых? Поглядите на Вронского! Негодяй! Разбойник!
Настроение одного подхватывают остальные и пахнет солдатским бунтом, не иначе. Голосисто поддерживают пьяного вояку, впрочем, не менее пьяные. Размахивают руками да саблями, точно собираясь прямо сейчас свергнуть генерала и поставить нового. Боялся Кирилл бунта или взволновался за Вронского, — доподлинно неизвестно. Внутри заклокотала буря, чувство несправедливости, ведь командованию ничуть не легче; любое действие должно согласовывать с высшими чинами, восседающими в столице, а письма стоит отметить, ходят не самым быстрым образом. Каждое решение командующего стоит жизней, и решения эти сложные. Кирилл будто вместо Вронского представляет своего отца, который постоянно делился армейскими историями да горестями солдатскими. А если Вронский такой же отец? Если ждут его дети где-то в имении? Если этот пьяный сброд завалится вооруженный в его палатку? Кирилла обдаёт самый настоящий страх, не за себя, а за Вронского и всю армию, настроения в которой грозятся перемениться. Молодой и слишком запальчивый, он не думает о том, что все изрядно вымотались войной, переменой погоды и недостаточным продовольствием, иначе говоря, вымотались от голода. Обыкновенно для войны.
— Господа, мы не должны так говорить о генерале нашем! — выкрикивает он весьма трезво, отчётливо, выразительно, будто поднялся на сцену театра. Сие возымело эффект: пьяные господа разом оборачиваются, расступаются, дабы поглядеть на лицо столь дерзкого юноши. Одной запальчивой фразы достаточно, чтобы разжечь пламя, которое едва ли потушишь. Дуэль его вовсе не удивляет, скорее дуэли он ожидал и был готов первым сделать предложение, уже крепко сжимая эфес шпаги рукой. Разве что появление А л е к с а н д р а совершенно лишнее. Не стоит лезть туда, где опасно и где тебя определённо не ждут. О каких-то дружеских порывах Волконский благополучно забывает. Косится на приближающегося Сашу, испытывая желание толкнуть его в обратную сторону. Никакие несколько месяцев знакомства не позволят втянуть человека в перебранку, причиной которой тот не является.
— Что ты здесь делаешь? Это не твоё дело, шёл бы опочивать с миром, — так же цедит сквозь зубы в ответ, разумеется, вместо благодарности. — Зато они слишком много болтают.
Кирилл, как только чувствует опасность и подобие наступления, мигом вынимает шпагу и принимает оборонительную позицию. Прятаться за дружеской (друзья ли?) спиной и уж тем более пятиться назад он не станет. Никогда. В отличие от Александра, которому любой бой точно игра, Волконский выглядит как никогда серьёзно и отбиваться собирается серьёзно, пусть и было бы разумным не закалывать ненароком своих же. Благодарность шведов ни к чему. Этот подозрительный Александр становится лишь более подозрительным, становится загадкой, которую разгадать не удаётся. Тяжело дыша, Кирилл бросает от какой-то усталости шпагу на траву и наклоняет голову, серьёзным взглядом уставляясь на совсем несерьёзного Сашу.
— Я в дипломаты и не метил никогда. Армия для порядка создана. А здесь творится чёрт знает что, — бросает раздражённо. — С чего бы вдруг? Я тебя не просил вмешиваться. Но так и быть, в должниках ходить не люблю.
***
Кирилл стоит ровно, ни разу не дрогнув, повторяя точно заведённый что стоять до последнего дело чести. Наказания подобного рода батюшка уважал, отдавал предпочтение, вместо того чтобы отвесить подзатыльника или шлёпнуть, или отхлестать на крайний случай, розгами. Наказания у него были изощрённые, равно как и у командира в этом лагере, за которого, между прочим, Волконский заступался, рискуя чуть ли не жизнью. Он получает крайне важный урок, который заключается не в запрете ругать высших по званию, а в запрете защищать тех, кого совсем не знаешь. Ведь не даром он держится принципа “пока не увижу — не поверю”. Злится куда больше на себя, на свою глупость, нежели на Сашу. Однако, и Саша в его мысленных проклятиях проносится. Взгляд у Кирилла временами взаправду страшный: страшно серьёзный или страшно опасный, словно вот-вот набросится с кулаками или вовсе задушит. Не пятнать свою честь он собирался в первом военном походе, который должен был принести и победу, и славу державе, и повышение на службе. Будет ли повышение?
— А кто сказал, что мы друзья? — спрашивает вполне серьёзно, будто и не было стольких месяцев, проведённых вместе в боях. Дело в том, что Волконский до сих пор не разобрался кто такой этот “Александр”. Кирилл, может быть, и был согласен, благодаря тому что вместо детской игровой комнаты проводил время в отцовском кабинете и обучался военному ремеслу с годиков двух, но возвращение к мыслям нерадостным снова поднимали в душе ураган. Впрочем, ежели рассудить медленно, здраво, наказание полноценно оправданно. Он не говорил вслух, но был согласен мысленно, в душе и сердце. Стало быть, наказание несёт справедливо. А осознание, что страдаешь за правое дело, за верные убеждения, облегчает ношу и даже поднимает упавший дух. Губы кривятся в ухмылке.
— Прав ты. А ежели прав, я не смею на тебя гневаться, не бойся. Не так уж я и страдаю, — торопится его заверить, дрогнув от одной лишь фразы о з н а к о м с т в е. Ему ли мало батюшкиных намерений, которые стали причиной раздора перед отъездом? Более ничего не говорит, боясь продолжения темы. Вдруг взаправду решит познакомить.
Очень скоро вокруг начинает происходить подлинная неразбериха. Кирилл оборачивается на чьи-то крики и безвольно опускает затёкшие руки, более не в силах терпеть сих издевательств. Своё они справедливо отстояли. За происходящим начинает наблюдать невозмутимо, вовсе не обратив внимания на столь инородное “Ваше Высочество”, адресованное неизвестно кому. Откровенно говоря, он и позабыл что где-то здесь обретается цесаревич, да ещё служит наравне с ними, простыми дворянскими детьми. Трудно поверить, вот и не верили. Только суета вокруг Саши постепенно проливает свет, да столь яркий, что хочется сощуриться. Серые глаза распахиваются широко, делаясь круглыми точно монеты. Проносятся последние месяцы, проносится вихрь вопросов без ответов и чувство странное, будто Саша чего-то недоговаривает, что-то утаивает. Кирилл погружается в самое глубокое, истинное потрясение, лишаясь всякого дара речи, будь то родной, или иностранной. Вряд ли его простое дворянское сознание запустит радушно внутрь тот факт, что всё это время подле него был сам цесаревич, сын Петра Алексеевича Романова. Полнейший вздор. Он просто пытается подобраться поближе, чтобы рассмотреть его лицо, только сие бессмысленно, — не стоит на лице королевской метки. Не бывает таких. Саша что-то говорит — Кирилл не слышит. Так и провожает взглядом безмолвно, не вспомнив ни единого слова. Саша — цесаревич. Пропадёт страна, не иначе. “Пропадёт”, — мысленно повторяет Кирилл, вспоминая ту самую улыбку, излучающую свет солнечный.
***
Небывалая усталость самовольно повела в убогую постройку, сколоченную из досок, дабы сберечь сено от дождей и снега. Казалось, она вовсе рухнет под порывом стылого ветра, но сегодняшний праздничный вечер выдался удивительно безветренным. Однако же, холодный воздух пробирался под рубашку, покалывал, заставляя-таки набросить кафтан. От всех остальных отличительных вещей униформы кавалериста Кирилл избавился, слишком уж душит этот белоснежный шейный платок на пару с шарфом; да и от самой гвардейской формы захотелось передохнуть, словно все прошедшие долгие месяцы она была чем-то тяжким, обременяющим. Уставать доводилось и раньше, после каждого боя, да только усталость сегодняшняя совершенно новоявленная. Война, длившаяся столько лет, закончилась, а следовательно, его высочайшая ответственность перед отечеством закончилась. Он может свободно дышать, полной грудью, не боясь ненароком вдохнуть пороху. Более не болит сердце за дом родной, оказавшийся в опасной близости от военного действа. В душе образовалась звенящая пустота, толком необъяснимая. Он порадуется победе погодя, когда уложатся потрясения. Одна из причин тех самых потрясений появляется вдруг поблизости, наконец-то не взывая к противоречиям в его голове. Вечный вопрос “что ты здесь делаешь” обходит стороной, а сердце даже радуется появлению д р у г а. Безумство, не иначе, наследника престола звать “другом”.
Кирилл по обыкновению отмалчивается, выражая своё мнение одним лишь взглядом. Празднование победы провоцирует неясное негодование, будто и праздновать нечего; упоминание Плутона взгляд смягчает, потому что нет существ, с которыми он ладит лучше, нежели с лошадьми; украденное вино пусть и достойно осуждения, однако чувствует облегчение, — выпить бы сейчас, дабы остановить карусель невесёлых дум. Надо признать, Саша всегда появляется в нужное время. Кирилл протягивает руку не задумываясь, без промедлений, и пожимает крепко. Обид между ними быть не могло.
Весьма удачно Кирилл вспоминает беседу в родительском доме за ужином. Звенит ручейком голос Любавы. Оказывается, Саша грозился познакомить его со своей сестрой, царской дочерью. Видать услыхал Господь, что верит Волконский только тому, что видит своими глазами. Описания жизни во дворце для него всё равно что отрывки из красивой книги; слишком далёкая, невообразимая и даже дикая эта жизнь, стать участником которой никогда и не хотелось. Саша со своей простотой — это вовсе поразительное явление. Совершенно другими представлялись царские дети, уж точно не отпрашивающиеся на войну. Пусть за царя-батюшку готовы полечь все русские солдаты, да и не только солдаты, впервые он сердцем чувствует своё расположение. За такого как Сашу, умереть не жалко. Осознанно. Только Саша об этом, разумеется, не узнает. Кирилл резко отворачивается, понимая, что самого себя компрометирует столь искренним взглядом. А царская дочь и впрямь хороша, если только Саша из братской любви не переусердствовал с достоинствами. Любопытно ему становится, действительно ли? В одном уж точно они похожи: оба любят своих сестёр.
— Не много ли чести, Саша? — спрашивает серьёзно, не глядя на неизменно приподнятое расположение духа товарища своего. — Хорошо, и только потому, что в должниках не люблю ходить, говорил же.
Познакомиться с цесаревной не страшно, ведь никому и в голову не придёт сватовством заниматься. Впрочем, воображение Кирилла столь ужасное, что вообразить себя во дворце иль на царской охоте не представляется возможным. “Будь что будет”, — говорит он себе и выдыхает облегчённо. От вопроса Саши его передёргивает. Перед глазами опухшее лицо Катеньки и её маленький, красный носик. В каких-то редких письмах батюшки писал, что разные господа свататься изволили; быть может, она и замужняя дама теперь, следовательно домой возвращаться можно без всякого страха. Кирилл и платок в руках Саши замечает, чуть брови нахмуривая.
— Не стоит. Не влюблялся и не собираюсь, — отрезает категорично. Однако, послушать Сашу любопытно. — Тяжко вам живётся, цесаревич, — голос приобретает шутливый оттенок. — Я одного не понимаю. Ежели она по душе, почему не признаешься? И что же, ей хватает сил и надёжности? В этом и беда, ты должен наследника стране оставить, а мне это делать не так уж обязательно, — сообщает с каким-то удовлетворением, отмахиваясь от материнских наставлений. — Посему, я могу не влюбляться и служить без отвлечений, и не терпеть женские капризы. А ты держись, — опускает руку на дружеское плечо. Впрямь любопытно, что за девица умудрилась выкрасть сердце Саши, да ещё заставить его признаться, что видел богиню. Лишь хитрый его взгляд заставляет руку убрать и отвернуться.
— Полагаю, хорошей женой твоя сестра станет, — лишь к этому выводу он может прийти, и разумеется, представляя на месте жениха какого-нибудь заграничного принца, не иначе. На этом и отпивает из бутылки, ощущая приятное тепло, внутри разливающееся. Посмотрит на Сашу пристально, прищуриваясь. — Не понимаю! К чему страдать? Что же, как видно, у влюблённых сие неизбежно. Не горюй, друг мой. Ты человек хороший, и девица твоя об этом рано или поздно узнает.
***
Царская охота — поистине грандиозное зрелище. Разве что, походит более на представление, чем на серьёзную охоту, какую доводилось наблюдать Кириллу всю свою жизнь. Охотиться, впрочем, ему нравилось, и причиной тому не безжалостное убийство зверей. Охота — дело азартное, заставляющее кровь бурлить; постоянные соревнования то с сестрой, которая стреляет получше самого Кирилла, то с друзьями, что зачастую выливалось в мальчишеское баловство. Им бы стрелять по шишкам да яблокам, лишь бы позабавиться. А забавы, каким бы ни был серьёзным Кирилл Андреевич, их тройке приходились по душе. На сей раз он наблюдает за происходящим не без любопытства. День выдался по-зимнему волшебным. Ветер где-то мирно опочивает, лишь изредка легонько покачивая ветки, с которых осыпается искрящийся снег. Стылый воздух покалывает и румянит щёки. Снежные покрывала переливаются на солнечном свете золотой да серебряной пыльцой. От сказочной красоты сердце замирает. Он вовсе не замечает, когда Саша появляется, а когда исчезает, продолжая любоваться заснеженным лесом.
— Что же она такое натворила? — беззастенчиво любопытствует Кирилл, понимая через несколько секунд неуместность вопроса. Совершенно не его дело, чем провинилась цесаревна, внезапно запертая во дворце. Шустро отворачивается, делает вид будто разглядывает с особенным интересом череду высоких, стройных сосен. — Будет тебе, никуда я денусь, познакомишь ещё, — произносит с искренней улыбкой на лице, желая Сашу подбодрить. Ему, разумеется, любопытно, однако же, не настолько чтобы сильно опечалиться. Охота видится наиболее увлекательным занятием.
— Держись, Сашка! Поглядим кто ещё фору даст! — подхватывает на радостях. Внутри раззадоривается тот самый мальчишка, которому только позволь по лесу поскакать наперегонки да пострелять из ружья. Высшего счастья не бывает. Они мчатся, пролетая мимо растянувшейся процессии; а снег клочками разлетается из-под копыт, проснувшийся ветер теребит плащи, треуголку вовсе приходится рукой удерживать, дабы не слетела от скорости. Быть молодым и свободным Кириллу нравилось. Никакая серьёзность иль принципиальность не выбьют из него этой тяги к приключениям и озорству.
~~~
Кирилл Андреевич — человек вовсе не злобный, не злопамятный, и уж тем более, не мстящий; разве что не в те моменты, когда ему срывают самое важное в жизни состязание, или скорее спор. Саша подстёгивать умеет как никто другой, а Кирилл успешно ведётся. Он был весьма близок к победе, пока не получил хорошо вылепленным, увесистым снежком по лицу. Неизвестно что обиднее: упустить цель и проиграть иль самому оказаться жертвой, которая не имела никакой возможности увернуться. Лицо от холодного снега раскраснелось, а можно подумать, что от злости. Он, разумеется, не мстительный, но бежит по снегу к лошадям что есть мочи и отстающих подгоняет, то и дело оборачиваясь, потому что в этой ситуации требуется разобраться. “Да уж, веселье!” — крикнет раздосадовано Саше, прежде чем направиться в свою сторону, направо.
Кирилл вдруг вспомнил, что лес — второй дом родной. Леса имеют схожести и разительные отличия в одночасье, а если знаешь наизусть хотя бы один лес, — знаешь и хитрости, и особенности. Тихие охоты с отцом даром не прошли, каждый раз он строго-настрого запрещал шуметь, любой звук издавать, даже переломленного сучка; а высматривать добычу доводилось с особым вниманием то в густых колючих кустах, то из-за огромных сугробов или меж беспросветной стеной елей да сосен. Мальчишка, как показалось, не то, чтобы представляется добычей; больно ловким и шустрым он оказывается, заставляя забыть, как дышать, лишь бы подобраться ближе. Когда он оборачивается, Кирилл отчего-то сам вздрагивает, безвольно делает шаг назад, задевая ветки сосновые. Следующие несколько долгих мгновений, когда снежинки в воздухе будто застыли, он не может думать ни о чём, кроме зелёных глаз напротив. Где-то глубоко в душе быть может, Кирилл Андреевич и усомнился в том, что гнался за мальчишкой. Выразительные, полные жизни глаза, обрамлённые красивыми ресницами, совсем не мальчишеские. Сердце пропускает какой-то скрипучий, но громкий удар, почти удар колокола; можно подумать, болезнь сердца, не иначе. Впрямь болезнь, впрямь смертельная, только медицина здесь бессильна, как известно. Если бы он знал, что здесь начинается и погибель, и бесконечное, неописуемое словами счастье.
Волшебство рассеивается, оставляя одно напоминание о сорванной охоте и снежке в лицо, который растекается талым снегом по шее и впитывается в белый платок. В ушах звенит чужой смех, перед глазами недолгая темнота, и снова он попадает в какой-то просак. Мальчишка иль девица, — более значения не имеет, оказывается снова шустрее, ловчее, вовсе из виду исчезая. Ему принципиально необходимо разобраться, и он не собирается пятиться назад, посему, проследив за нашкодившим человеком, берётся кружить под этим высоким раскидистым деревом. Шутить на сей счёт с появившимся вдруг Сашей не собирается, осматривает только серьёзно-строгим взглядом, мол раньше следовало бы здесь оказаться. А от заведённого разговора у него только глаза начинают расширяться, то ли виной тому потрясение, то ли негодование, а быть может, случилась гремучая смесь. Кирилл, впрочем, готов лезть на дерево, останавливает только здравый рассудок да память о том, что мальчишеский возраст пора бы оставлять позади. По деревьям карабкаться, — это для него уж слишком.
— Ты это слышал, Саша? — возмущённо спрашивает, убеждаясь, что не послышалось. Мальчишка, однако, оказался ко всему прочему крайне дерзким. Кирилл так и норовит в лицо заглянуть, только лицо это надёжно скрывается за слишком большой треуголкой, явно не по размеру. Мальчишка и выглядит подозрительно, точно обокрал офицера из пехоты и заодно униформу захватил. Спокойствие Саши вызывает не меньше вопросов, заставляя почти отказаться от дурацких споров. В последний момент передумывает, когда взгляд стреляющий ловит. Разумеется, ему никакие призы не нужны, только оправдание своего достоинства, а ещё лучше — объяснения этого дерзкого ю н о ш и.
— Согласен, — отрезает в своей манере, отчетливо и твёрдо. Если бы только догадывался, какое любопытное представление здесь разыгралось, оставалось только зрителей позвать.
Выстрел слишком торопливый гремит, а перед глазами вовсе не птица, парящая под облаками, а насмешливый взгляд и улыбка чужая. Медленно опускает ружьё, всматриваясь вдаль, где жертва пала, ударяясь о снег. Хорош стрелок, слишком хорош для мальчишки, которому больше пятнадцати едва ли. Кирилл взгляд бросает на н е г о, усмехается скорее одобрительно, нежели с оттенком насмешки или презрительности. Поражения ведь, всё ещё следует принимать с достоинством. Хлопнет в ладоши для окончательного выражения восхищения, когда Саша поднимет подстреленную птицу. Однако, в следующий миг случается то, что дара речи лишает в очередной раз, — такова роль их семьи в его жизни не иначе, только он об этом пока не знает. Не знает, кем является о н а. А ведь проплывали смутные сомнения, за которые не доставало рассудка ухватиться, ведь какая девица и главное, для чего, станет переодеваться в мужское. Впрочем, ему ли не знать? Когда сестрица нарядиться в мужской наряд и отправиться в лес только рада. Он покачивается, а после замирает, может быть от красоты, а может быть от осознания, что хорошим стрелком оказался д е в у ш к а. Резко поворачивает голову в сторону Саши и молча вручает ему в руки ружьё. Пожалуй, охоты с него достаточно.
— У тебя где-то фляга с вином была, давай-ка сюда, — протянет руку почти требовательно.
Будто вино сотрёт с памяти э т о т образ.
Поделиться62024-05-20 20:37:58
На фоне всего действа неизменно звучат композиции, производимые пальцами матушки, порхающими над пожелтевшими клавишами пианино (в отличие от батюшки, она принимала даже самые дорогостоящие подарки, считавшиеся великой роскошью). От итальянских до английских музыкантов, — музицировать она любила, чем занималась с крайним постоянством. Лишь Аглая Владимировна имела честь (возможность) привить кое-какую культуру непоседливому в детстве Кириллу. От неё он научился кое-каким танцам, чтению сонетов и манерам, походящим на светские. Лишь благодаря ей он не стал упираться, приняв приглашение даже не в один из знатных домов столицы, а во дворец, что вовсе не осмысливается здраво. Ему не составляет труда (пусть упрямился перед зеркалом внушительное количество времени) надеть этот древнерусский с киевскими мотивами костюм, даже позволить обклеить чем-то колючим и волосистым лицо, между прочим, безукоризненно выбритое. Куда более стращает неизвестность, притаившаяся за огромными, массивными дверьми. Ежели и грезил о чём-то Кирилл Андреевич, то едва ли об этом дне, когда окажется в совершенно ином мире, точно перевёрнутом с ног на голову. Матушка до последнего вторит Джованни Паизиелло, а потом распахиваются двери.
Кирилл вовсе запамятовал, по какому особенному поводу собралось здесь высшее общество Петербурга, да предстало во всём блестящем великолепии. Внутренне убранство дворца сливается в яркую ленту картин, скульптур, пышных тканей и кованых украшений; золотом залито всё: от дверных ручек до зеркальных и картинных рам, канделябров, ножек и подлокотников кресел. Дворец изнутри ослепляет своим золотистым сиянием, внушает почтение дорогими породами дерева; а живые цветы в больших вазонах, расписанных на восточноазиатский мотив, испускают не иначе как сладостное благоухание. Сколько бы ни вертел, ни крутил головой, не удаётся ничего не удаётся рассмотреть, как следует. Не даром картины пишут в дворцовых комнатах, — истинное великолепие, среди которого кажется, он никогда не должен был оказаться. На него обращены некоторые взгляды, вероятно, прикованные любопытством к новому лицу, ранее не появлявшемуся и близко с дворцом. Взгляды то любопытствующие, то надменно-презрительные, то совсем неописуемые. Лица спрятаны за разнообразными масками, только глаз не спрятать. Однако же, он вздыхает с облегчением, когда понимает, что мгновенно внимание присутствующих в зале переходит к цесаревичу Александру Романову; за его спиной как никогда надёжно и нынче, пожалуй, единственный случай, когда Кирилл позволяет себе прятаться за чьей-либо спиной. Быть может, ему и станет однажды бесконечно стыдно за то, что заставил своим ослиным упрямством Сашу опоздать. Они действительно о п о з д а л и. Виновник торжества, как известно, уже присутствует среди разнообразия костюмов, масок и затейливых головных уборов. Виновник, с которым он до сих пор не знаком. Дабы не оказаться в центре событий, Кирилл осторожно пятится и отходит в сторонку боком, где расположились более тихие наблюдатели; среди них даже дамы неспешнее размахивали причудливыми веерами с обилием перьев, чем на противоположной стороне. Ему бы и остаться наблюдателем до завершения вечера. И удаётся несколько танцев простоять в стороне, незамеченным. Только скучающие гости оживились повсюду, дождавшиеся танцев, которые задерживались из-за некоторых опозданий. Лишь одно маленькое обстоятельство не оставляет его равнодушным, и невзначай привлекает посторонние взоры. Из чьих-то тонких пальцев выпадает сложенный веер, который удивительном образом Кирилл успевает поймать почти перед самым падением на сияющий от чистоты паркет. Выпрямившись, он встречается с большими, голубыми глазами, кажущимися с первых секунд знакомыми. В них царит спокойствие, точно безветренный день (точно глаза отца), отражается едва заметная благодарность, а уголки губ едва приподнимаются. Кирилл вежливо склоняет голову (а впрочем, отныне не знаешь с кем заговоришь, с княжной иль графиней) и улыбаясь почтительно, протягивает веер. Они понимают друг друга безмолвно, по взглядам и незаметным кивкам. Даже слов благодарности не потребовалось, чтобы её принять. Удивительное чувство, словно знаком с человеком долгие годы.
— Всё ли у вас хорошо, сударыня? — осмеливается уточнить он, дабы совсем в молчании не расходится, иначе неудобно.
— Всё хорошо, сударь, — отвечает она нежным голосом, наверняка способным растопить любое заледеневшее сердце. — Как ваше имя? — её глаза-озёра поистине завораживают, взывают к самым тёплым чувствам, которые способен испытывать к своим родным.
— Кирилл Андреевич Волконский к вашим услугам, — хорошенько выпрямляется, становясь ещё выше, словно представляется перед высшим чином. Улыбается во всю ширь лица, чего позволять себе не стоило. Вероятно, улыбка была замечена и воспринята с особой ревностью. Стоило только прелестной голубоглазой девице вдохнуть перед тем, как произнести своё имя, и рядом появляется Саша. Не вышло укрыться в тени ленящихся наблюдателей.
— Что здесь происходит? Ну-ка, марш танцевать! Живо-живо! — сначала тянет за руку, а после чуть ли не пинка даёт, толкая в самый центр круга собравшихся танцевать. Кирилл искренне не понимает, что произошло и по какой весомой причине было прервано столь милое сердцу знакомство. Саша неизменно весёлый, играющий, вдруг смотрит с какой-то серьёзностью в глазах. Кивает головой в сторону девицы, стоящей совсем рядом. Кирилл во дворце впервые, а потому ему простительно. Простительно, что не замечает к т о находится столь близко; простительно, что не замечает сколько желающих подтягиваются, дабы отвоевать хотя бы один танец за вечер с э т о й особой.
— Позвольте вас пригласить, — протягивает руку, продолжая поглядывать в сторону Саши, который не собирается покидать голубоглазую до сих пор незнакомку, по всей видимости до завершения торжества. И вновь Кирилл Андреевич благополучно упускает из виду, сколь удачно уводит из-под носов желающих свою даму на предстоящий танец. За ним следуют злобные, раздосадованные и даже завистливые взгляды, пока сжимает маленькую, нежную ладонь в своей руке. Ему бы расслышать столь старательно выплюнутые проклятья, да только слишком занят тем, что постоянно отвлекается, глядя в отдаляющийся угол. Саше вероятно, как никогда любопытно понаблюдать за его навыками в танце, а быть может, и поиздеваться в отместку. Если бы Кирилл знал, что она та самая, вызывающие сплошные страдания в душе Романова, — не смотрел бы со столь явным недоумением.
Церемонно-чопорный менуэт ему всегда давался легче. Тревога схлынет, когда заиграет музыка. Лишь оказываясь напротив девицы в розовом, точно лёгкое облако, плывущее по небу во время малинового заката, наряде, начинает присматриваться и чувствовать нового рода любопытство. За вуалью, походящей на нежно-розовый туман, черты лица едва пробиваются. Однако, выразительные глаза будто знакомы, а особенно их необычайный, яркий ц в е т. “И зачем только танцевать полез? Чтобы ноги милым дамам отдавить?” — голос в голове с оттенками возмущения, на что ответ лишь один, — выбора не было. Они отправляются в этот танец столь легко, как те же облака, танцующие с ветром под небом. Тревожиться не стоило вовсе, когда забываешь о движениях заученных, когда засматриваешься на своего партнёра, танец получается сам собой. Он словно всю жизнь протанцевал: столь легко и приятно танцевать с н е й, ещё одной прекрасной незнакомкой, разве что в розовом. Стоит лёгкому ветерку поддёрнуть вуаль, и Кирилл норовит пониже голову склонить, урвать глазами черты лица, — не успевает.
— Не могу скрывать сударыня, мне кажется, будто мы с вами встречались, — она удаляется в танце на расстояние вытянутой руки, а он трепетно удерживает её пальцы в руке, боясь переусердствовать. Она кажется вовсе хрупкой, истинным цветком, который сломит порыв ветра. Быть может, виной тому розовое платье. А быть может, стройная фигурка, отличающаяся своей изящностью и миниатюрностью на фоне всех остальных. — Встречались ли? — спрашивает, когда она вновь близко оказывается и повсюду развеивается сладкий аромат живых роз. Вопрос крайне странный для Кирилла, который то и дело женского пола избегает. Несмотря на службу в столице, длящуюся три года, никаких знакомств с барышнями он не заводил. Тогда откуда глаза знакомые? За бледно-розовой пеленой они остаются яркими, словно з е л ё н ы м и. Сияние подлинных изумрудов не спрячешь за какой-то полупрозрачной тканью. Вновь ощущение очарования, колдовства, какое когда-то испытывал. Когда? Ветерок играет с вуалью, её лицо то близко, то далеко, а в сознании ничего кроме глаз. Память весьма медленно, однако вытягивает из своего сундука обрывки светлого, морозного дня в лесу на охоте. Рыжие, медные волосы и глаза изумрудные. Сердце тревожно забьётся.
— Как вас зовут? — он и не поспевает за полетевшими вдруг мыслями и вопросами. Вырывается невольно и бесцеремонно. Ему бы действительно хотелось узнать и м я. Запомнить. Однако, имя не звучит столь быстро, будто бы на сегодняшнем балу имена произносить под запретом. И ему остаётся гадать, пытаться уловить взгляд и черты лица, дабы убедиться, что виделись они в тот день. — Не удивлюсь, если вы стреляете из ружья так же превосходно, как танцуете. Это правда? — на лице мелькнёт улыбка. — Бегаете быстро и лес вас вовсе не страшит. Простите, если ошибаюсь, — им приходится разминуться в танце, поменять партнёров ненадолго. Кирилл на внимание крайне скуп, ежели его интересует одна персона, — она и станет интересовать, пока интерес сей не будет удовлетворён. А потому он и лица не увидел дамы, с который протанцевал минуту, постоянно глядя на девицу в розовом. Танец подходит к своему завершению, снова их руки сплетаются, он чувствуют доводящую до трепета и дрожи нежность. Неизведанное, странное чувство.
— Вы та самая девица из леса? Которой рубины не идут? — произносит он восторженно, однако совершенно невовремя. Стоило догадаться р а н ь ш е. Музыка стихает, следуют громкие аплодисменты и объявление: время снимать маски, господа! Череда танцев пронеслась незаметно. Оказывается, гости должны рассекретить себя. Ведь не плясать до упаду. Каждый, кроме Кирилла, разумеется, знал программу. Знал, что ожидается нечто завораживающее и приятное. Он склоняет голову и делает шаг назад, замечая, как постепенно его партнёршу по танцу окружают.
— Браво, Ваше Высочество! Вы великолепно танцуете! — послышится со стороны, а сей возглас подхватывают остальные и вновь аплодируют. Кирилл осматривается со святой простотой в глазах, не пытаясь даже понять, что происходит. Разоблачение, надо признать, у царских особ самые оригинальные, самые занятные для несведущих. В следующий миг открытий происходит пару. Лицо действительно знакомое и глаза, какими однажды был очарован. Зелёные. Сердце не подвело, отгадал верно. Только другое не отгадал, что куда важнее встречи в лесу. Окружающие точно знают, кому направляют восторги, комплименты и аплодисменты вперемешку с мимолётными поздравлениями. Они точно знают и точно смотрят на девушку в розовом, называя её Цесаревной Елизаветой Петровной. Тогда Кирилл оборачивается, ища взглядом Сашу. Больно внезапно понимает, что целый танец оттанцевал с его сестрой. А его сестра между делом, Её Императорское Высочество. Он улыбается, присоединяясь к аплодисментам, дабы уж слишком поражённым (в сердце) не выглядеть. Очередной шаг назад, пока в груди разрастается странного рода разочарование. С чего бы ему разочаровываться? Росточек совсем нежный, крохотный, едва пробившийся, угождает под хмурые тучи и хлёсткий дождь, а быть может, под чей-то грязный ботинок. Его чувства — этот расточек. Никаких чувств не может быть, тем паче, он не знает, что это такое. Шаг за шагом, — теряется в наплывшей толпе, теряет из виду и розовое платье, и зелёные глаза. Одному можно порадоваться: узнал имя.
Елизавету, как именинницу и лучшую певицу Петербурга, просят спеть. Кирилл едва ли сможет откреститься от воспоминаний: пойду менестрелем по лесам! Отыскать Сашу в этой толпе ему удаётся слишком поздно, когда на невысокой сцене оказывается она во всей красе и великолепии. Сказать бы Любаве, что слухи правдивы. Царская дочь впрямь хороша, глаз не оторвать. Тишина в зале воцаряется, половина свечей гаснет для пущей атмосферы, а самые важные дамы и господа занимают места в креслах да на кушетках. Кирилл рядом с Сашей встаёт, разумеется, по-дружески. Иначе слишком одиноко становится в этом чужом, полнящимся загадками, обществе. Слушатели буквально замирают, зная, чего ожидать. Один Кирилл имеет честь наслаждаться первым разом, который обещает стать особенным. По первости, — это всегда по-особенному, как никогда более не будет. Опирается рукой о спинку кресла, в котором расположился Саша. Он вовсе не в обиде хотя бы потому, что не имеет права. Для него слишком много чести оказано. Отец бы сказал, что следует выразить глубочайшую благодарность.
Саша прав был: никто не устоит перед чарующим голосом. Песня льётся то рекой, то походя на райское пение какой-то невиданной птицы. Её голос точно сердце оплетает и стискивает крепко, беря в свой вечный плен. Ему бы знать иль догадаться о том, что в этот самый миг превращается в соловья, судьба которого несчастна. Песня о соловье и розе не иначе как “пророческая”. Постепенно и смысл слов рассеивается словно в дурмане. Чудится, чего только не коснётся этот голос, непременно зальёт алмазным сияньем, посеребрит, озолотит иль окрасит в изумрудный, — поистине волшебный голос. Пленит душу каждого слушателя и его непременно, потому что силы не хватает совладать с собой. Безвольно он сжимает крепче спинку кресла, за которую держится, делает глубокий, режущий вдох, а на глазах будто вот-вот слёзы выступят то ли от голоса, тронувшего душу, то ли от странного, раздирающего чувства. Влюбиться порой слишком легко, а осознать сие — слишком сложно. После взлёта в небеса ночные, укрытые звёздным полотном, возвращаться на грешную землю особенно тяжко, никакой охоты. Песни вечно тянуться не могут, как бы сильно того ни желали слушатели, снова и снова потрясённые талантом своей цесаревны. А перед его глазами соловей, алой кровью истекающий, вокруг которого кружит голос нежнейший, ангельский. Печальная судьба. Но стоит взглянуть на неё, облачённую в розовое, мерцающую в мягком свете сотен свечей, и понимает — не даром, не жалко. Соловей знал, за что погибал. Аплодисменты и дурман разгоняют, и роящиеся думы, окончательно возвращая на землю. Восторженные крики “браво!” несутся волной. Кирилл наклоняется к Саше.
— Ну что, готов менестрелем идти? — мельком усмехается, встречается с голубыми глазами, которые в полутьме скорее тёмно-синие с янтарным обрамлением. — Не пойдешь, — произносит тоном, будто успокаивает, — не пристало цесаревичам по лесам бродить. А поёт твоя сестра и впрямь прекрасно. Не влюбится только дурак, — выпрямляется спешно, дабы не привлекать внимания. Впрочем, находясь рядом с самим цесаревичем, не привлекать внимание вряд ли удастся. Скорее, Кирилл успешно не замечает взглядов на разный лад, и не слышит перешёптываний. — Ты не волнуйся, почитай, я почти привык к вашей семейной особенности, — уточнять не станет. Кирилл говорит искренне. Не имеет желания омрачать столь светлый день, который принадлежал, казалось, самому прекрасному в мире созданию. От которого держаться следовало подальше. Ежели он мог вообразить себя другом цесаревича, то другом его сестры — никогда. Подобного рода дружба закончиться чем угодно может. Он с Катериной Павловной тоже дружил, и чуть не увёз с собой её же платок. Ни дружбы, ни чего-либо другого быть не может с особами сословия совершенно иного, уже не дворянского, а королевского. Кирилл вдруг слишком отчётливо видит р а з н и ц у и собственное место.
Однако же, обещанное знакомство не могло не состояться. Саша не оставляет ни выбора, ни пути к отступлению. Кирилл мечется меж тем, что стыдно раз не признал, и тем, что следует объясниться. Не хотелось запоминаться цесаревне как тот, кто гонялся за ней по лесу, да ещё заставил лезть на дерево. А стрелок она и впрямь меткий, попадёт и снежком в лицо, и в парящего коршуна, и в глубину сердца. Он сразу же почтительно наклоняет голову, пока Саша представляет, должно быть, дождавшись этого момента. После танца и пения оттягивать не имело никакого смысла. Самому Кириллу хотелось завершить начатое, чтобы Саша исполнил своё обещание.
— Цесаревна, — со всевозможной вежливостью произносит он, — подпоручик Преображенского полка, Кирилл Волконский. Для меня большая честь... узнать вас.
Он ведь, кое-что знает. Знает какой необычной оказалась она. Не менее необычной, чем её брат, удививший своим характером. Ежели Кирилл и представлял когда-то царских детей, то совершенно иными людьми. Говорит он искренне, без всякой насмешки иль издёвки.
— Я прошу прощения за то, что случилось тогда, за все недоразумения, — и всем определённо должно быть ясно, что имеет в виду Кирилл. Бросает взгляд на Сашу, чтобы тот не вздумал отговаривать от извинений. Пусть извиняться и стоит больше за то, что не знал, как выглядит п р и н ц е с с а. — Вы прекрасно поёте. Вы это знаете, но я не могу промолчать, — и губы дрогнут в несмелой улыбке. Такой же как все, ни капли не отличающийся. Это она особенная и на других не похожа. Беседа долго не продлится. Саша потребует вскоре проследовать за ним, оставляя бессовестно гостей веселиться. Впрочем, они и впрямь справляются самостоятельно, увлекаясь вином и беседами. А время между тем, позднее.
***
Комната была не самой большой во дворце. Высокие потолки, большие окна, украшенные тяжёлыми занавесями; в окнах глубокая, бесконечная темнота, поглощающая даже звёзды. Замысловатые гобелены, которые надобно рассматривать часами, дабы понять мысль творца или то, что изображено умелой рукой. Мебель отражает роскошь самого дворца, то и дело позолоченная. Не так много свечей зажжено в медных канделябрах. Атмосфера царит полумрака и особого уюта: впервые ему становится у ю т н о во дворце, словно и не существуют огромных залов да нескончаемых коридоров, по которым непременно эхо шагов расходится. На круглом столике ваза с фруктами и графин с красным вином: после одного бокала он дышит свободнее, легче. На губах играет улыбка более постоянная, нежели прежде. Переодевшись в мундир, чувствует себя человеком. Исчезло и розовое платье. Все выглядят более привычно. Саша вовсе как самый родной человек, иль вино совершенно кружит голову. Сей поздний вечер следовало запомнить: впервые они собрались в м е с т е. Впервые и ненадолго. Знали бы только, сколь мало времени отведено. Саша, разумеется, неизменно навеселе, кажется, в своей манере выказывает наилучшие пожелания сестре. Елизавета Петровна, та самая, о которой столько всего слышал. Действительность превзошла ожидания. После бокала вина значение теряют все тревоги: и лес, и неудавшаяся охота, и танец, при котором всё пытался узнать её и м я, и шутки, участником которых оказался невольно. Голубоглазая девица, называемая другими Натальей Алексеевной. Саша не упустил возможности дать понять, что она — та самая, причина его душевных терзаний; та самая, кто вышивал ночь напролёт платок. Кирилл улыбается довольнее, будто торжествует над тем, что Саша оказался заложником интересного чувства, названного л ю б о в ь ю. Не было бы любви, не отправился бы Кирилл сегодня танцевать. Ревность — ещё одно интересное чувство. Василий Борисович, персону которого он рассмотреть не успел, а после бокала Бордо в глазах вовсе потемнело. Ясно лишь одно: персона важная, как и все остальные присутствующие. Один Кирилл разнится и до сих пор не понимает, что здесь делает. Милейшая девица по имени Надежда, которая будто в тени находилась. Сестра Василия Борисовича. Сложилось впечатление, будто каждое её движение под чьим-то суровым взором и запретом. Говорила она тихо, смеялась беззвучно, смотрела осторожно. Оказались они в этой комнате впятером, где каждый лично мог пожелать цесаревне всего наилучшего, и разумеется, подарок подарить. Разве что подарка у Кирилла н е т. Когда незаметно очередь доходит до его персоны, сидящей в кресле в тёмном углу, по взгляду Саши становится ясно, что отмолчаться не получится. Больно любит он свою сестру, чтобы оставить Волконского в покое, рядом с графином. Слава Господу, он не окончательно пьян.
— Прошу прощения, цесаревна, — дважды просит, — у меня нет подарка для вас, — поднимается с кресла, оправляя гвардейский кафтан. Однако, нет удобнее одежды чем мундир, — сегодня он убедился. Неловкость, если так можно назвать ощущение, когда находишься в чужом обществе, отступает. Словно среди друзей, словно знает всех, а именно Сашу и Елизавету Петровну, множество дней. Впрочем, Наталья и Надежда также весьма милые сердцу люди. Выдерживает недолгую паузу, глядя на них с какой-то таинственностью в потемневших глазах.
— Но я знаю, чем могу исправить это недоразумение. Если вы, разумеется, позволите, — кивнёт в сторону какого-то тёмного угла, спрашивая тем самым разрешения у Саши. Едва ли тот что-либо предпринимать запретит. Только рад будет. Кирилл, сохраняя загадочное выражение, неторопливо берёт один из канделябров на три свечи и направляется в тот самый тёмный угол. Бог знает, почему столь драгоценный, новый в музыкальном мире, инструмент стоит в углу забытый, а быть может, попросту сидят за ним днём, когда светло. Темнота не стращает, будто по ночам не играл с матерью на пару, пока отец сражался за царя и отечество. Лишь мелодии самых разных оттенков позволяли найти душевный покой как матери, так и подрастающему Кириллу. Он ставит канделябр на тёмно-бардовую поверхность, мягкий янтарный свет льётся на белые клавиши.
— Эту мелодию я посвящаю вам, Елизавета Петровна, — делает жест рукой в её сторону, после чего откланивается и садится за пианино. Кирилл знает любимые композиции наизусть, обходясь удачливо без всяких нот перед глазами. Она — близкий к музыке человек, а потому подумалось, что подобный подарок имеет шансы быть оценённым по достоинству. Знала бы Аглая Владимировна, чем её сын теперь занимается. А он благодарен судьбе за то, что сидит спиной к слушателям, иначе непременно бы глядел на одного человека неотрывно. Обычно не прозорливый Кирилл осознаёт сие отчётливо, начиная неторопливо нажимать на клавиши. Какое-то время тишину нарушает разве что медленно текущая мелодия, позволяющая забыть обо всём на свете. Мелодия сочетается с вином, — действие равнозначное. Даже если ему не хотелось вкладывать душу (пусть такое случалось крайне редко), она самовольно выливалась, вытекала, соединяясь с музыкой, иль впуская её в свои покои. Душа и музыка едины неизменно. Быть может, потому он был очарован пением Елизаветы Петровны. Быть может, от любовной лихорадки есть возможность спастись.
Когда звучат последние ноты совсем тихо, раздаётся громкий разрыв и следующий за ним шелест. Комната окрашивается то в красный, то в зелёный, а небо блещет серпом искр. Праздничный фейерверк, разумеется, ожидали все гости и едва согласились бы покинуть дворец, не понаблюдав за столь величественным зрелищем. Кирилл оборачивается, но подниматься не торопится, украдкой глядя на Елизавету Петровну, глаза которой теперь сияют разноцветными вкраплениями. Саша зазывает всех на балкон, кажется, в полумраке невзначай хватая за руку Наталью Алексеевну. Кирилл сие подмечает и поднимается с низкого пуфа весьма довольный. Счастье друга — не последнее дело в его жизни. На балкон впрямь стоило выйти. Окончательно ознаменовался тот день, когда судьба его заиграет по-другому.
— Елизавета Петровна, — окликает её вдруг с небывалой смелостью, — дайте руку, здесь темно, — протягивает раскрытую ладонь. В самом деле темно, свечи в проходе погашены, лишь вспышки моментами освещают комнаты и коридор, да только больше слепят, чем помогают безопасно идти. Он своего добивается (добился бы непременно), крепко её руку сжимает, оправдываясь мысленно лишь беспокойством о её благополучии и здоровье. Разве не учили их с малых лет, что благополучие царя и его семьи превыше всего? Сердце точно откликается на каждый разрыв в небе, вовсе не на касания, которые невольно запоминает. Собственная кожа будет хранить нежность, тепло и сладкий запах роз. Отпустить изволит лишь когда выходят на балкон, пропуская цесаревну впереди себя и оставаясь позади, как положено. Разве что, положено отступить на пару шагов, а он продолжает стоять непозволительно б л и з к о. Никому до этого дела нет, когда фейерверки запускают. Только глупое сердце трепыхается.
— Скажите, — обратится к ней негромко, — вы же меня простили? — смотрит на горизонт, где рассыпаются алые искры, точно раскрывается бутон тюльпана. — Мы с вашим братом в добрых отношениях, и я бы хотел быть в таких же добрых отношениях с вами, — не имеет в виду большего чем взаимное расположение, чем добрых знакомых. Не хотелось оставлять неприятное послевкусие их неудавшегося знакомства. А впрочем, лучшего и быть не могло. Иначе никогда бы не увидел, как она стреляет. — Я так и не смог поблагодарить вас за танец. Благодарю сейчас.
Кирилл улыбнётся, опустит взгляд, наблюдая за тем, как на её красивом профиле отражается свет огней, то голубой, то зелёный, то красный. Никакой гром не заглушит чувств, пережитых в сей миг. Завтра он непременно об этом з а б у д е т. Завтра непременно вспомнит, что рядом стоять, как в эту минуту, они не могут.
Его сердце не первое.
Поделиться72024-05-20 20:38:30
Француз ужом юлил на сковородке, изливаясь бесчисленными комплиментами в отношении хозяина: убранства его дворца [самого большого из частных имений в Петербурге], гостеприимства его семьи, да даже по поводу вина, поданного в серебряных кубках в кабинет одетыми в дорогие камзолы слугами [по Петербургу ходили слухи, что в Борисовском дворце даже слуги живут почитай куда лучше многих мелких дворян]. И если в бесконечные восхищения внешностью своей дочери, Борис Федорович Апраксин еще мог поверить, то вино-то уж всяко было редкостная дрянь – кислятина, которую достали из погребов слишком рано, а от того после каждого бокала [Апраксин извинился, что страдает-де «стомаховой болезнью» и доктора строго-настрого запретили пить] следовало бы только морщиться. Впрочем, не тратить же на французскую рожу доброго вина? Да и забавно было смотреть, как то и дело отпивая из принесенного бокала француз зеленеет, но обидеть высокого хозяина не может. К тому же, Борис Федорович не первый день состоял на своей службе, так что легко мог определить, когда кто-то наносит простой визит вежливости, а когда очевидно что-то хочет. А раз французу что-то понадобилось, то пусть терпит дрянное вино и рассыпается в комплиментах сколько душе угодно – это малая плата за то, что он вообще его выслушает. Выслушает и может быть чем и поможет.
Канцлер с доброжелательной улыбкой слушает француза, даже сам подливает в бокал вина [французы вечно хорохорятся тем, что являются знатоками вин], гадая, сколько еще тот протянет не сознаваясь в истинных целях визита тет-а-тет. Иные послы стран обычно дожидаются официального приглашения на разговор, выстраиваясь длинной очередью к его кабинету, а этот, ишь, лис, пришел лично [разумеется не забыв о подарках всем и вся, заставляя его жену расплыться в совсем уж неподобающей улыбке] и теперь занимал его драгоценное время. Но опыт уже давно его научил тому, что время ресурс долговечный, а русская народная мудрость: «Поспешишь – людей насмешишь». А народ глупости, пожалуй, не скажет. Его отец, простой кузнец Федор [хотя по большей части его звали не иначе как Чернавый из-за буйной гривы черных волос], когда не лупил Бориса или же не прикладывался к бутылке, постоянно повторял ему о том, что торопиться никогда не стоит. Ну, батюшка его так и жил, неторопливо подковывая лошадей в перерывах между запоями, вызывая праведный гнев заплативших ему деньги, да так и умер никуда не торопясь в какой-то канаве насмерть замерзнув в Крещенские морозы, видимо не спеша оказаться дома. Но Борис запомнил одно: «Одно дело успевать, другое — спешить» и никогда два понятия не путал. К тому же, чем дольше станет он изображать святое неведение в личной заинтересованности посла Франции, тем сильнее заставит его с одной стороны разнервничаться, а с другой – усыпит бдительность. Пусть себе думает, что перед ним просто очередной «русский варвар» [дипломатическую переписку, перехваченную своими шпионами, Борис Федорович знай себе почитывал на досуге перед сном].
В Петербурге поговаривали, что шпионов у Апраксина побольше, нежели у Тайной канцелярии и ничего в империи не происходит без его высочайшего повеления. Ходили даже крамольные частушки на эту тему. Ну, слишком длинные языки укорачивались, чтобы неповадно было, но и опровергать бродившие стаей по столице и ее окрестностям слухи Борис Федорович не пресекал – лучше, когда тебя побаиваются, нежели когда любят. Ведь любовь народа что – так, мимолетное увлечение капризной барышни. А страх – он все же друг более постоянный. Любви он от кого не надо никогда не добивался. Черт бы с ними. Его никогда не любили в собственной семье, да и он впрочем отвечал им тем же – о всех своих многочисленных братьях и сестрах он предпочел позабыть сразу же, как только отправился в первый военный поход с тогда еще молодым цесаревичем Петром. Не так давно для интереса поинтересовался он их жизнью, которую влачили они где-то под Костромой, убедился, что все братья не далеко ушли от отца и на том и оставил их в покое [для успокоения собственной совести отправил анонимно перстень, совершенно уверенный в том, что скорее всего все вырученные деньги все одно пропьют]. Никакой особой сердечной привязанности к своим родственникам Апраксин не испытывал, считая куда ближе себе семью императорскую. Да и родня его всегда отвечала ему примерно тем же, причем, следует сказать, с самого его детства.
Борис Федорович крякнет неопределенно, наблюдая за тем, как свет преломляется в стекле, под которым в мертвой неподвижности застыла его «красавица» - так он и х именовал. Самые разные бабочки были нашпилены на иглы, пришпилены к стенам или же находились, заставшими трупами под стеклянными колпаками. Иные страстно увлекались лошадьми, но лошадь не умеет летать. А чтобы сохранить первозданную красоту тонких крыльев бабочек необходимо было недюжее терпение. Одно неверное движение и порвешь.
Француз уже некоторое время кидал несколько опасливые взгляды в сторону его рабочего стола: когда он явился, Борис как раз работал над последним своим приобретением – огромным желтым махаоном. Некоторая брезгливость француза приводила Апраксина в почти мальчишеское веселье.
В семье его не любили, считай никогда. В этом он ни капли не сомневался. Слишком он отличался от них всех, непроходимых неучей, которых интересовали лишь грязная работа, выпивка, да прижимание девок на сеновалах. Когда он, не отличающийся ни семейным ростом, ни отменным здоровьем, ни интересом к семейному кузнечному делу, прятал книги под подушки [книги приносил с монастырской библиотеке] братья над ним потешались. Иногда за книги поколачивал отец, а в родной деревне в итоге окрестили блаженным, ожидая, что «Борька-то поди в монахи уйдет». Что же, теперь потешаться следовало ему, сидя в мягком кресле, обитым бархатом и шелком, наблюдая за тем, как послы других государств идут к нему, Борису Апраксину, б л а ж е н н о м у на поклон. И нет, он никогда не боялся грязной работы [как бы иначе Петр Алексеевич так скоро привязался бы к щуплому и юркому пареньку, который ему оказывался по плечо], но никогда не хотел вечно ею заниматься. Его братья и отец никогда не стремились стать кем-то больше, чем рядовым кузнецом, а Борис мечтал летать повыше и отчаянно не принимал и не понимал своих родных. Иногда казалось, что это он должен был родиться в царских палатах, ведь положа руку на сердце, цесаревич и сам иногда якшался с кем попало. Но, если уж на то пошло, цели у них обоих оказались одинаковые как и желания – напрочь уничтожить этот опостылевший, поросший мхом мир старой Москвы, где все ходили с длинными бородами, отбивали поклоны в церквях и упивались вусмерть по праздникам. Борис, почуяв в Петре верный способ, наконец, покинуть отвратительный мир собственного городка, уцепился за него, что называется со всей силою, прощая и бешеные перепады его настроения, крутой нрав, прощая все оскорбления, которые в пьяном гневе мог тот бросить. Прощая, не забывая, разумеется [можно ли вообще забывать, когда кто-то называет тебя «грязным отродьем»? тут и самому близкому такого не простишь]. Он исходил с ним несколько походов против турок, участвовал в строительстве первых кораблей, выучился иностранным языкам, строил новую столицу, первым в нее и переехав. Грязи он намесил своими собственными руками и ногами достаточно. В конце концов, это он нашел среди родовитого старого дворянства его будущую жену, таким образом перетащив артачившиеся старомосковские богатые роды на их сторону [остальных сомневающихся уже давно нет – растеряли свои богатства кто в ссылке, а кто и на дыбе]. И если уж честно, то Борис Федорович не мало не смущался, не торопился смиренно спорить с тем простым фактом, что это во многом благодаря ему, Апраксину, империя стала Империей. И считал, что заслуживает определенного уважения, которое могли оказывать ему вот такие вот французы.
— Так что же, милостивый государь, передает кардинал? — Апраксин, наконец, изъявляет желание перебить своего собеседника, спасая того от необходимости еще раз пить это вино. Улыбка становится похожа на оскал. Голубовато-серые, кажущиеся слишком светлыми и от этого слишком пристальный его взгляд мгновенно становился неприятным и каким-то бесцветным, впиваются в лицо француза и в них нет ни намека на дружелюбие. Впрочем, если предложение стоит свеч, он может над ним и подумает. Но французу ничего конкретного не скажет – пусть помучается.
— Всего лишь то, уважаемый Борис Федорович, что Франция надеется засвидетельствовать вам свое искреннее расположение. Франция всегда была добрым другом России. И мы надеемся, что Ваше Высокопревосходительство об этом знает, как и император.
Его русский был почти безупречен, но лис что-то не договаривал. Де Россе пришел сюда с четкой целью, минуя непосредственно императора. От части это льстило, а от части настораживало. В конце концов, выбирая между покровительством условной Франции и расположением царя, он бы выбрал последнее. Слишком много связывало и слишком многое Петр все еще сдерживал в своем кулаке, пусть уже и не столь крепком. Де Россе не менее опытный царедворец, нежели сам Апраксин – это он знал. При французском дворе красавца-француза любили и уважали, а еще считали, что он и только он сумеет поворотить поднявшего голову русского медведя к Парижу. Так что предположить, что он просто хочет влиться в доверие – глупо. Скорее, чего-то хочет добиться и считает, что в этом ему может помочь именно Борис Федорович.
— Разумеется, знает, можете об этом не волноваться, — Борис Федорович согласно кивает, медленно и неторопливо наклоняясь к своему рабочему столу. Бабочка все еще оказывается пришпиленной, ее мертвые крылья задрожат, словно живые, как только он их коснется пинцетом. Француз сглотнет. — Но, господин де Россе, я смею предположить, что добрые друзья, не имеют друг от друга секретов? А? — он хитро подмигнет, неожиданно хохотнув и очевидно сбивает с толка привыкшего к долгим дипломатическим расшаркиваниям француза. Почти что застал врасплох.
Добрые друзья, как же. Да не победи они шведов, да не одержи победу в этой треклятой войне, не подними они голову, французы и иже с ними так бы и презрительно морщили свои напудренные носы. А теперь завиляли хвостами, выстроились в очереди, заездили в новую столицу с огромными кортежами, только бы «завести дружбу». А в своих письмах все так и продолжили морщиться. Но оно и к лучшему, когда дурак почитает себя за умного. Так он гораздо безопаснее.
— Нет, совершенно никаких, — кивает, словно китайский болванчик де Россе. — В знак сердечного расположения и с наилучшими пожеланиями он просил передать это, — он словно вспоминает об этом только что, но Апраксину не нужно долго сомневаться в том простом факте, что он это задумывал с самого начала. Де Россе полезет за пазуху, аккуратно достанет оттуда шелковый платок, расправляя его на лакированной поверхности стола из красного дерева. В глаза мгновенно бросится невероятный по своей красоте перстень. Сапфир, невиданных размеров по центру, окруженный россыпью бриллиантов. Золотая основа, по которой причудливо разбегались виноградные листья – поистине царский дар. Такой обычно преподносят короне.
В глазах блеснет было жадный блеск, но потухнет быстро. Не считают же французы, что они здесь никогда не видели драгоценных побрякушек? А если таковых и не видели, то показывать свою заинтересованность этому чванливому гусю не стоило совершено. Не заслужил.
Борис всегда хотел жить л у ч ш е. Он насмотрелся на нищету их едва ли не самой бедной во всей деревеньке избы, насмотрелся на немытые лица детей, грязные тряпки, надетые на мать [по ней он хотя бы скучал, страстно жалея, что она не дожила до лучшей жизни, которую он мог бы ей предоставить]. Он все еще помнил, как воровато оглядывался по сторонам, пока доедал краюху хлеба, выброшенную прямо с саней богатого барина на дорогу и давился ею, отплевывая навоз и песок изо рта.
Нет, определенно, бедности с него было достаточно. И возвращаться в это состояние он не собирался и не хотел. Более того – нищета его скорее страшила, поэтому он знал цену деньгам, считая, что лишних денег не бывает. Именно поэтому, как только перстень на идеальном-белом платке оказался перед его глазами, в его голове с чудовищной скоростью начали пробегать мысли о том, что возможно это далеко не последний возможный подарок. А так, маленькая вежливость. А значит дело и правда важное.
Он вежливо покрутит перед собой перстень, внешне никак не показывая заинтересованности, аккуратно отложит в сторону и пытливо уставится на Де Россе.
— Прекрасный перстень, маркиз. Надеюсь, вы передадите мою благодарность кардиналу.
— Непременно. Во Франции восхищаются как императорской семьей, так и вами, Борис Федорович. Смею сказать, в кругах Версаля не могут не обсуждать и непосредственно Его Высочество, цесаревича Александра. Знаете, даже у нас ходят невероятные слухи о его красоте. Настоящий золотоволосый принц из сказок, как у нас говорят. Любому дому королевскому была бы честь породниться с ним.
Вот оно что. Не выдержал.
Водянистые глаза прищуриваются, а Борис Федорович внутренне ликует от осознания того, зачем к нему лично явился французский посланник, принес с собой задаток и расшаркивается в бесконечных комплиментах. Франция среди прочих желающих хочет породниться с императорской семьей, а учитывая, что в королевской семье растет дочь на выданье [даром, что ей 13 – возраст вполне подходящий для если не замужества, то по крайней мере сватовства], то все становится очевиднее некуда. Что же, карты раскрыты, но не до конца.
За окнами послышится раздраженный окрик – снова Васька кого-то распекает. Что на этот раз было не так, Борис Федорович даже думать не хотел. Старший вышел сплошным разочарованием и, положа руку на сердце, совершенно не удался. Можно было поспорить, что этой даме в панталонах просто кто-то наступил нечаянно на ногу. В армии он не служил, да и какая могла быть армия, коли на первом километре пешей дороги его первенец непременно начинал стенать, что сбил ноги. Больших усилий стоило упросить императора не отсылать непутевого, тогда как все дворянские дети обязаны были служить. Ну, служили все они по-разному. Слишком много над ним тряслась в свое время его дрожайшая матушка, окончательно превратив его в девицу. Не красивый – в его лице в котором после перенесенной в детстве ветряной оспы так до конца и не исчезли мелкие красные пятна тут и там, даже те кто бы очень хотел не нашли бы ничего приятного [он уж точно не замечал]. С этого неприятного лица смотрели на мир вечно обиженные и недовольные чем-то такие же как и у отца голубые глаза, слишком бесцветные, чтобы быть приятными. Да и взгляд этот всегда был словно обвиняющим. Из-за постоянных болезней в детстве ему так и не довелось вырасти, а из-за хрупкости своей набрать мышц. Вот и выходила какая-то полу-девица, которую хотелось спрятать куда подальше в монастырь и никому такой позор не демонстрировать. Самое главное, что сын словно бы знал о том, как неприятен собственному отцу, поэтому становился еще более невыносимым и словно бы специально действовал на его нервы. Мать же своего первенца любила без меры, охала и ахала над ним каждый раз, как только отец залеплял очередную пощечину этой недоросли. Ни дать ни взять – девица.
Иногда он грешным делом думал о том, что уж лучше бы сын умер в те дни болезней, которые в детстве поражали его с завидным постоянством. Хоть краснеть бы не пришлось.
На его фоне, его крестник, воспитанник, о котором сейчас столь подобострастно лепетал француз, действительно выглядел едва ли не Аполлоном. Иногда Апраксина жгла почти настоящая зависть, ревность и обида на Бога, который распорядился так, что Саша родился вовсе не в его семье, что впрочем не мешало Борису Федоровичу считать себя его вторым отцом, а Сашу, втайне, своим н а с т о я щ и м сыном. Высокий, красивый, невероятно умный [Васька знай рисуй свои картинки, все на что его хватало] и главное с м е л ы й. Борис был только рад, когда они росли здесь, в его тогда еще едва отстроенном дворце, а после в загородных умениях. Он позволял наследнику сидеть на своих коленях, залезать на шею, чтобы срывать яблоки [ничего такого Ваське позволено не было], он самолично учил его немецкому, который знал не хуже немчуры, ездить верхом, нашел лучших учителей, да и вообще вкладывал в его юную златокудрую голову все то, что невозможно было втиснуть в белесую головку своего собственного сына. Да что там, даже волосы у Васи были редкие и нелепо курчавые, совсем не то что у Саши.
Сашу он почти что любил [пусть и почитал любовь за слабость и глупость]. Он слишком многое в него вкладывал, слишком многому учил и на слишком многое надеялся. Так что сейчас, глядя в честные французские глазки, он приценивался, чтобы не продешевить – не за тем столько сил в Александра Петровича он угонял. Иногда он думал, наблюдая за тем, с какой легкостью своей изящной руки наследник разбивает сердце то одной петербургской красавицы, то другой, почему бы самому окончательно свое положение не закрепить, выдав свою дочь за цесаревича. Но потом ловил взгляды императрицы и понимал, что никогда она не позволит «холопу» породниться с императорской фамилией до конца. Таково правило – любой, кто ниже императора всегда х о л о п. Будь ты хоть в триста раз богаче. Чертова романовская спесивость иногда приводила в неистовство, но он хорошо это чувство прятал.
Его дочь, впрочем, вышла куда милее, старшенького. Из всех из с Прасковьей детей выжило только двое, но любил он из них только Надю. Во всех отношениях младшая дочь выросла такой, какой он хотел ее видеть – точно знающая, что следует нужно говорить и делать, а что нельзя. Настоящий ангел по характеру – тихая, начитанная, а главное удивительно добрая, словно полная противоположность мстительности брата. Ее любили крепостные, любили в с е. Представляющая собой идеал девушки своей эпохи, тихая красота его дочери не могла не радовать. Хоть что-то в его жизни удалось. Она никогда не перечила ему, что тоже было важно, а еще совершенно влюбленными глазами провожала каждое движение цесаревича. Борис не без удовольствия полагал, что если бы тот предложил ей прыгнуть в костер, чтобы стать его женой – она бы прыгнула. От части тут он сам был виноват – всегда сводил их вместе, они вместе росли. Васька ходил за цесаревичем мрачной тенью, тоже хватая каждое его слово, а Надя просто была рядом. Впрочем, была у Александра Петровича одна отвратительная черта – на такие мелочи он внимания не обращал.
Разбить сердце это у Романовых – пожалуйста. Им ведь все можно простить – красивые, властные и сверкающие. А еще невероятно удачливые. Им можно.
Поговаривали, что Александр Петрович увлекся Натальей Арсентьевой, но серьезно Борис Федорович к этому увлечению воспитанника не относился. У него таких увлечений было целый табун – что же теперь предполагать, что он женится на них всех? Право, глупость. Если уж можно было увлечься бесприданницей, то уж точно можно было бы обратить вниманию на его дочь. А раз этого не произошло, то и опасности в лице всегда холодной Натальи Алексеевны он не видел. Пока.
— Что же, вы несомненно правы. Для любой девушки это будет блестящая составленная партия. Разумеется, сама девушка безусловно должна соответствовать. Наш цесаревич ибо заслуживает самой лучшей жены.
Маркиз приосанился, в его глазах заиграл нетерпеливый блеск, очевидно говорящий о том, что канцлер на правильном пути.
— Кардинал полагает точно также. А если бы дружеские отношения России и Франции могли быть закреплены… — он замялся, а после выдал напрямик. — … свадьбой, то это принесло бы невероятную выгоду всем заинтересованным сторонам.
На слове «всем» он сделал явный акцент.
Апраксин неторопливо направит увеличительное стекло на крылья бабочки, расправляя с величайшей осторожность все складки на них. Не хватало только порвать. Он долго не отвечал на это смелое высказывание. Пусть понервничает. В голове же уже составлялся примерный план действий. Сколько выгоды в действительности принесет этот союз? И не только России, но и семье [и ему в том числе?]. Союз с Францией не понравится Австрии и Пруссии, а хотя черт с ней, с этой немчурой – уж больно условий в последнее время. Конечно, может Петру Алексеевичу и не понравится, что он, Б о р ь к а [что бы не делал, но всегда остается им в минуты гнева, остается мальчишкой-писарем подобранным, о чем Борис Федорович предпочел бы не вспоминать] такие дела сам решает, словно это он здесь царствует, но сейчас у императора другие заботы, в первую очередь о своем собственном здоровье. Да к тому же что плохого в том, чтобы прощупать, что называется, почву? Не понравится – всегда можно дать заднюю.
Апраксин снова приценивается.
— Аpilio machaon, — неожиданно замечает он, наконец, не отрываясь от своей работы. — Удивительной красоты экземпляр. Работать с таким нужно особенно аккуратно – уж больно редкая. А знали ли вы, милостивый государь, что в греческом мифотворчестве Махаон - сын Асклепия, вместе с братом, унаследовавший от отца искусство врачевания. Собственно, Был князем Трикки в Фессалии. Они с тридцатью кораблями, возглавив ополчение из городов западной Фессалии и северо-восточной Этолии, приняли участие в походе против Трои, где братья были врачами греков и храбрыми бойцами на поле битвы. Гомер повествует, что Махаон был ранен стрелой Париса, но потом снова участвовал в сражениях, пока не погиб от руки царицы амазонок Пенфесилеи. Князь, знаменитый врач и умер из-за женщины. Какая досада, — маркиз кисло усмехается. Апраксин продолжает. — Удивительная история получается – как легко можно расстаться с жизнью. А? Кем бы ты ни был – бабочкой, дипломатом или…князем.
И убить тебя может и простая женщина.
И какой-то там холоп.
— Жизнь, штука хрупкая. Вот и я с ней аккуратно обращаюсь. Здесь ведь, господин де Россе нужно осторожнее быть. Одно неверное движение, — он накалывает бабочку на иглу неожиданно быстро, резко пришпиливает, протыкает тельце. — и все. Так и с судьбами. Можно оборвать – можно склеить. Как рука повернется.
Лицо посла перекашивается и белеет. Борис Федорович удовлетворенно кивает сам себе, добившись нужного эффекта. Пусть не думает, что его так просто купить – не на того напали.
— Что касается, вашего предположения, что добрый брак залог хороших отношений, что ж…не могу не согласиться. Но, знаете, я не сторонник насилия над юными сердцами. Надеюсь, цесаревич женится по любви, — внимательно следит за лицом посла. — впрочем я со своей стороны хотел бы сделать все зависящее, чтобы выбор этот был сделан исключительно верный, который бы укреплял страну, которой я имею честь служить.
Француз быстро закивает. Так быстро, что его парик того и гляди съедет на бок.
— Разумеется-разумеется, брак по любви, mariage d'amour, прекрасен. Мы лишь надеемся на мудрость Его Императорского Величества и вашу. Молодым иногда действительно требуется добрый…совет. Франция, как я уже упоминал добрый друг Российской Империи, поэтому мы никогда не станем скупиться на благодарности…
Если он и не хотел [а Борис Федорович почти не сомневается, что хотел], то фраза вышла весьма двусмысленной. Благодарности в денежном эквиваленте безусловно относились к его персоне. Петр бы на смех их поднял. А может выпнул бы за дверь с руганью – и такое было возможно и вполне вероятно за такие вот предложения. Де Россе и Апраксину не нравился на самом деле ни капли, но мысленно он волей-неволей подсчитывал сколько можно с этого выиграть. И не только денег, но и влияния. Да и к тому же союз с Францией не так уж и плох в отношении торговли, а где торговля там и процветание для страны. Как ни посмотри – а ничего дурного он не совершит.
— К тому же, у вас прекрасная дочь. У нашего короля есть брат, как вы знаете. Франция приобретет вдвойне, если такой цветок поселится в наших оранжереях.
А вот это еще интереснее. Породниться лично с иностранной королевской семьей – вот уж неплохо. Герцог Орлеанский, правда сватался к цесаревне, но ему ли, вырастившему непоседливую, буйную [всю в отца] Елизавету не знать, как она к таким предложениям относится. А Надя…Надя никогда против не будет, не может быть. Тем более что, с цесаревичем все одно ничего не выйдет.
Светлые глаза вновь уставятся на маркиза де Салиньяк.
— Я напишу Его Высокопреосвященству. Мы ценим добрые отношения с Францией.
Они раскланиваются, за маркизом закрывается дверь. Он подходит к окну, поглядывая на то, как Василий пытается сбить хотя бы одну чертову ворону и конечно же ни в одну не попадает. Провожает взглядом карету посла, прикидывая, станет ли его дрожайшая супруга изменять ему еще и с ним, или же нет. Позвонит в колокольчик и из соседней, скрытой за гобеленом изображающим падение Помпеи, покажется сухонькая фигура Кротова. Кротов своей фамилии соответствовал полностью – он удивительным образом умел становиться невидимкой, его маленькие глазки неприятно обшаривали твое лицо, а уж шпионить он умел получше канцелярских дуболомов. И главное – делал это с удовольствием. Он знал все и про всех, что было удобно. А придет время – избавится, уж больно Кротов много знал, да и самого Бориса Федоровича иногда пугал. Но пока он был слишком уж полезен. Такие вечно что-то вынюхивают, вечно кого-то в чем-то подозревают. Кротова он вытащил из Тайной канцелярии и после этого, тот был обязан ему жизнью и бесконечно предан. Домашним он на глаза почти не попадался, а если попадался то скорее вызывал тревогу - все же горбун.
Еще бы – станешь тут преданным, хотя бы один раз взглянув на чертову дыбу.
— Чего изволите, Ваше Превосходительство?
— Проследи за нашим маркизом. Если будет какое-то письмо я должен его прочесть первым. Мало ли чего учинит. И скажи ты этому остолопу, чтобы прекратил вопить! Смотреть тошно, — он презрительно кривит губы, кивает на топающего ногами сына и плотно захлопывает шторы.
Все приходится делать самому.
____________♠♠♠____________
— Саша, право, ну прекрати ты дуться! И потом, разве такая уж плохая вышла забава? Я даже твой перстень тебе оставила, вот уж спасибо бы мне сказал!
Лиза возбужденно мерит шагами просторную гостиную – одну из немногих, где величие дворца отступает перед милой и уютной домашней обстановкой голубых стен, мягких диванов и теплых отсветов свечей в настенных канделябрах. Огонь весело потрескивает печи, покрытой изысканными изразцами, выполненных под гжель и изображающих тот или иной мифический сюжет. От танцев языков пламени танцевали и их тени, дергаясь и извиваясь на стенах. За окнами бушевала вьюга – добрая погода простояла всего лишь пару дней, а на третий день охоты пришлось спешно возвращаться назад, потому что в такой буран никакое животное и близко носу не покажет. Да и охотники из дворян в последнее время были никудышные – повезло тому, кто к концу второго дня от бесконечных увеселений и вина держался на ногах. Горе тому человеку, который попадется под ружье такому бедолаге.
Ветер снова забрасывает снег в окна, таинственно воет над Петербургом, касается златоглавых соборов своим ледяным дыханием. От этого находиться в тепле даже как-то приятнее.
Лиза вновь сверкнет глазами в сторону Саши, который, уткнувшись в свою книгу, у которой за весь час пребывания в гостиной кстати ни разу не перевернул ни одной страницы. Старший брат и не подумает на это отвечать, сохраняя на красивом лице абсолютное равнодушие к ее попыткам извиниться [если их таковыми можно было назвать]. И чем больше он упрямился, тем больше она злилась. Действительно – что она, собственно такого сделала? Ну, помешала им с одной единственной косулей. Ну не предстала перед его дражайшим Кириллом в образе древнегреческой богини красоты, так что же с того? Ни один из этих поводов Лиза не видела удачным, для такого открытого байкота с его стороны. Лицо у Саши было непроницаемо – кожу лица сбоку золотило пламя огня, она внимательно следила за его движениями, но он оставался неподвижен. Иногда тяжело вздыхал, но больше не произносил ни слова с тех пор, как все вернулись во дворец с этой треклятой охоты.
Лизе, выносить Сашины обиды всегда оказывалось тяжело. С самого детства они почти никогда и не ссорились, по крайней мере надолго. Всегда было достаточно чмокнуть старшего брата в щеку и он прощал ей все, даже собственные сломанные игрушки или то, что она всегда вмешивалась в его, мальчишеские игры с е г о друзьями.
Хотя как таковых друзей, у него, кажется, никогда и не было. Это у Лизы была Варя с ее иногда кошачьими глазами, смелым нравом и готовностью ринуться в первый омут с головой. Это у Лизы была Наташа – спокойная, выдержанная и всегда знающая, как нужно правильно поступать. У Саши она конечно тоже была, потому как только она попала под стены Зимнего дворца он сразу объявил со всей мальчишеской серьезностью, что будет ее защищать. Но Наташа для него была чем-то совсем иным и так было всегда. Это совсем не то же самое, что у Лизы, которая могла заснуть прямо у той на коленях жалуясь на случайного [но такого глупого] воздыхателя, рассказывая про очередную книгу или предаваясь мечтам о том, какой бы могла быть ее жизнь, определяй она ее самостоятельно. У Саши же было совсем иное к ней отношение. То он беспрестанно умудрялся флиртовать, на что она с удивительной и свойственной только ей стойкостью не реагировала, то неожиданно и почти по-братски ухаживал за ней с несвойственной себе аккуратностью в словах. Лиза, считающая, что в любви кое-что понимала считала дни, когда сможет назвать Наташу действительно своей сестрой [как только, разумеется, они повенчаются] и не видела для этого никаких преград.
«Вы очень похожи, с цесаревичем, Ваше Высочество», - сказала ей однажды Наташа, задумчиво глядя на стайку голубей, взметнувшихся в небо.
Она часто называла ее на «вы», впрочем, также часто в минуты хорошего настроения или когда они были достаточно далеко от дворца, переходила на простое «Лиза». И пока Лиза не успела возмутиться, что для нее, для Наташи, никакое она не «Высочество», она продолжала:
«Вы оба ни в чем не видите препятствия. Для вас все ни по чем. Все можно у вас решить, побороть. Вы и море могли бы перейти и горы перелететь. И они, быть может, расступятся перед вами».
«Разве это плохо?» - искренне недоумевает Лиза, склоняя голову на бок.
Наташа не отвечает какое-то время, мягко и как-то грустно улыбаясь, она смотрит своими удивительными глазами в небо, словно хочет выспросить у него что-то.
«Нет. Вам так повезло, что вы их не видите. Может потому, что они перед вами по-настоящему не вставали. А если бы и встали вы оба их бы перепрыгнули. А я так…не могу».
Как бы там ни было - Наташа для Саши может и друг, но не в первую очередь. А что касается всех остальных молодых людей, что крутились вокруг них плотной толпой, то они так же быстро исчезали, как и появлялись. В основном из-за того, что по началу им что-то непременно было нужно от Саши: повышение, продвижение, знакомство с какой-то барышней, а Саша за это относился к ним примерно с той же легкой небрежностью, с которой менял перчатки и барышень. Был, конечно Вася, который скорее для них был привычным хвостом, тенью, причем иногда весьма навязчивой. Для Саши – объект нескончаемых шуток, за которыми он иногда не следил [сам по себе не обидчивый и «толстокожий» Саша считал, что раз он не обижается на шутки, то и другие не могут]. Для нее – надоедливый некрасивый мальчик, который неизменно провожал ее воловьими глазами. Но тем не менее этакая семья, вместе с Наденькой. Да, именно Наденькой, потому что иначе ее называть было никак нельзя. Хрупкая, красивая и милая Надежда Борисовна Апраксина была объектом всеобщей защиты. Саша считал ее второй младшей сестрой, заботился почти трогательно [возможно даже перестарался], а Лиза глядя на нее прикидывала, что именно такой она должна была бы стать, чтобы называться образцовой: одетой по последнему писку моды [с этим проблем не было], скромно молчащей, когда говорят мужчины или старшие, не высказывающей своего мнения даже если оно есть, не показывающей остроты ума, всепрощающей. Почти святой. Надя отличалась от Наташи тем, что улыбалась гораздо чаще, пусть и весьма неуверенно. И если Лиза во всех отношениях была яркой, цветущей и ужасно колючей розой, Наташа – камелией, то есть розой без шипов и запаха, кажущейся слишком холодной, но от этого не менее прекрасной, то Надя казалась ромашкой – чистой, невинной и позволяющей затоптать себя, если так будет надо. Иногда Лизу это злило, Надя тихо оправдывалось перед пылающей праведным гневном цесаревной: «Я ни капли не расстроена, Ваше Высочество!». А в карих глазах-вишнях так и стояли хрустальные капли. «Ну да, как же! Скажи мне, кто виноват? Снова из-за Саши? Снова с кем-то кокетничал на твоих глазах? Ох, Надя, брось ты его – мой братец иногда редкостная дубина!».
…а еще совершенно тебе не подходит.
Но этого она не говорила – разбираться в безответную влюбленность в свою персону, влюбляющую в себя невольно всех и каждого, должен был именно Саша. Да и ранить такую хрупкую Надю суровой правдой она не хотела. Хотя, видит Бог, иногда так и подмывало с суровым видом сказать простое: «Прекрати». Словно вокруг не было достойных молодых людей.
Ну, если уж честно, вправду их было маловато. В последнее время все молодые люди, выходцы из дворянских семей, все чаще заботились о своем внешнем виде, нежели о характере. Их всех интересовали одни и те же вещи и, если закрыть глаза и выслушать двух разных людей, можно подумать, что это один и тот же человек. Азартные игры, романы, дуэли, вино, охота. И так по кругу. Читать книги мужскому полу считалось чем-то позорным – лучше поскакать на лошадях и бездумно пострелять в первую попавшуюся добычу. Пошлые комплименты, устоявшаяся мысль о том, что женщины создания настолько хрупкие, что их следует посадить под замок, ну а главным их предназначением разумеется является рождение детей. Желательно каждый год. Женщина не может знать как лучше – когда она принималась обсуждать политику или же историю, ее кавалеры, выходцы из старинных родов, князья и графы, снисходительно фыркали и того и гляди очень хотели погладить ее по голове: «Как прелестно вы рассуждаете, но право, вам куда больше идет петь и танцевать».
Надя куда лучше Лизы поняла этот закон – женщина украшение. Трофей. Драгоценность в ожерелье мужских побед. Не больше и не меньше. И вроде бы звание почетное, а вроде бы не то. Мужчинам, с которыми она пересекалась на приемах, балах, ассамблеях, маскарадах, в коридорах дворца и в дворцовых садах, было мало интересно о чем она думает [возможно ей и не нужно было д у м а т ь]. Не интересно о чем мечтает. Нет, ей безусловно льстило внимание, которое ей оказывали. Ее внешности, точнее. Ей нравилось чувствовать на себе восхищенные взгляды всего высшего света, когда она пела какую-нибудь арию из итальянской оперы или танцевала, наряженная в невероятной красоты платье. Но этого было мало. Словно все сговорились вокруг и влюбились в оболочку.
Может поэтому она так страстно привязалась к Ивану Дмитриевичу. Уж он-то ее всегда с л у ш а л и слушал с неподдельным серьезным интересом! Так в ее окружении делал разве что только Саша.
Так и повелось, что они друг у друга были, почти не ссорились, а теперь ее брат решил изображать оскорбленную невинность, словно это впервые было, когда она из шалости переодевалась в мужское платье или же срывала его собственные забавы. Да и кажется, все не так уж плохо и вышло, даже в отношении Сашиного обожаемого Кирилла, к которому ее брат по-видимому действительно питал невероятно теплые чувства. И это было почти удивительно, словно он действительно нашел для себя такого друга, которых у Лизы набралась целая маленькая команда.
Наташа, когда о ее выходке узнала [а Саша конечно же не преминул нажаловаться именно ей в первую очередь, обвинительно тыкая пальцем в сторону сестры, которая состроила ему в ответ недовольную гримасу, оттягивая нижнее веко, заставляя Наташу прямо таки затрепетать от ужаса такого поведения] приподняла бровь и осуждающе покачала головой, но больше нотаций она от их общей «совести», их Мельпомены [иногда древнегреческая муза Трагедии Наташе подходила как нельзя лучше] не услышала и это можно было считать за удачу. Наташа вообще после приезда с охоты ходила какой-то странно задумчивой, так что можно было предположить, что ей снова что-то кто-то сказал. Может, матушка. Может кто-то из придворных дам. А может, кто-то из этих жутких дородных куриц-наседок, которые вились вокруг своих дочерей, защищая от каждого неправедного взгляда в их сторону. От Наташи подробностей конечно узнать было невозможно, она мужественно молчала.
Надя восхищенно [и с каким-то ужасом] всплеснула нежными руками, пребывая в пограничном состоянии, в каком она пребывала каждый раз, когда дело касалось выходок Лизы. Вроде бы и никогда не повторила бы сама – больно боязно и уж конечно неприлично, но с другой стороны так смело, что хочется поклоняться.
«Неужели тебе не страшно было…на дерево залезать?» - со смесью обожания и испуга спрашивала она в тот день, когда Саша раздосадовано поведал их компании о шалости младшей сестры.
Лиза махнет волосами, те свободной медовой волной рассыпаются по плечам. Дернутся завитки-завлекушки на висках.
«А чего бояться? Взяла да и залезла?».
«Да уж действительно, взяла и залезла!» - едко передразнивает ее Саша и погружается в сумрачное молчание. После следует мрачный взгляд, брошенный в сторону ее пажей, который не сулил ничего хорошего лично им. Иногда Саша бывал до ужаса невыносим.
«Вы же сами говорили, Ваше Императорское Высочество…», - начинает Паша, осекаясь замечая взгляд голубых глаз, поддернувшейся опасной ледяной коркой.
«Ага, говорил. Но я же не говорил, что при этом не буду против, если ее идеи и капризы невероятно нелепы? Она попросит помочь ей утопиться, а вы ей камень на шею найдете что ли, а?».
В этом же гневном раздражении он находился и этим вечером, раздувшись словно какая важная птица, хмуря красивое лицо и обиженно поджимая губы. И от чего с мужчинами иногда так сложно бывает? Как дети, честное слово!
Лиза упирает руки в бока, останавливается напротив него всеми силами привлекая к себе внимание, вздергивает подбородок.
— В конце концов, если все дело в том, что хотел меня подсунуть своему другу новому, то зачем меня покрывал тогда? Сразу бы и представлял!
Саша нарочито медленно поднимет взгляд от книги и уставится на нее выжидающе и словно оценивающе. Оценивающе, что же еще она может выдать в свое, с позволения сказать оправдание. И от такого взгляда прохладного январского инея неожиданно хочется задохнуться от негодования. Иногда, Саша невыносимо упрям. Иногда – обидчив и капризен, словно малый ребенок. Он захлопывает книгу, выпрямляется на стуле, складывая руки на груди и от этого его поза становится все более обвинительной.
— Да, так бы и представил, — он передразнивает ее, качая головой. — Вот-де, это сестрица моя. Ей батюшка, царь-император сказал сидеть во дворце, а она обрядилась в одежду своего пажа, ускакала одна на лошади, обозвала тебя трусом, охоту испортила, а еще по деревьям как белка лазает или как матрос по мачтам! Прошу любить и жаловать! Нечего сказать - отличная рекомендация! – и он снова опускает взгляд в книгу, очевидно случайно взятую с полки, обиженно выпячивая нижнюю губу и не желая мириться ни при каких условиях. Хуже батюшки, иногда.
— В первый раз будто… - бурчит тихо Лиза, осознавая, что момент для знакомства и правда вышел не удачный, а Сашу стоит поблагодарить, что не выдал. Не выдал, впрочем, никому кроме близкого круга, приказав прислуге случайной молчать. Иной старший брат наверняка бы все рассказал. Очевидно, познакомить ее со своим другом, столь внезапно в их жизни появившегося, оказалось для него важным. Искренне важным. Об этом она не подумала – у Саши обычно все несерьезно. Что барышни, что друзья. А тут.
Лиза некоторое время еще постоит перед ним, прежде чем сдаться, обойти со спины, повиснуть на плечах, отказываясь больше спорить или ссориться. Длительных ссор с Сашей было все равно не вынести – это виделось чем-то неправильным.
— Ну Сашенька, ну правда, прекрати! Ну откуда я знала, что это именно твой Кирилл? Ну хочешь, я все исправлю? Скоро ведь маскарад именинный! Постараюсь, чтобы твой дорогой друг остался доволен, только прекращай сидеть с таким видом! Обещаю, останется в восторге!
Лизе не видно ее лица, но она готова, что он прячет улыбку, а может и вовсе улыбается во всю ширь. Саша кашлянет, для порядку еще помолчит, прежде чем похлопать ее по руке, которая обнимает его за плечи и бодро вскакивает с места. Теперь его не узнать – снова сияющий, довольный цесаревич, которого все прощают за одну только эту улыбку, что бы он не натворил.
Лиза мгновенно мрачнеет.
— Смотри! – сияя удовлетворенно сообщает Саша. — Пообещала! Уж расстарайся!
— Ты… - пока она подбирает правильное слово, старший отходит к двери. —…нарочно! Маленький злодей! — вырывается первое, что пришло в голову и возможно не слишком подходящее. Она пускает в него пуховую подушку с кисточками, сгоняя с нее материнскую кошку. Та с обиженным «мяу» дает деру. Снова все придворные дамы станут ее искать. Подушка до предательски усмехающегося лица не долетает, он перехватывает ее. Слишком высокий. Слишком несносный. — Ты же специально строил здесь трагедию Софокла!
— Нет, я правда был расстроен до глубины своей братской души! – он прикладывает руку к груди, прежде чем увернуться от второй подушки, выпуская из рук первую.
Наташа с вышивкой появится в дверях, несколько недоуменно остановится, осматривая место баталии, а после Саша неожиданно прячется за ее спину, при этом нежно удерживая за плечи.
— Наталья Алексеевна, ваша подруга хочет моей смерти! Вы обязаны меня спасти!
— Нет, Наташенька! Не надо этого предателя защищать!
Наташа спрячет улыбку, прежде чем Лиза успеет придумать, чтобы еще такого кинуть в этого «предателя».
Как их можно, собственно, не любить? Этих царских детей.
____________♠♠♠____________
—…ну, так какой он?
В ее личных покоях пахнет терпким запахом духов, недавно привезенных из Парижа вместе с другими подарками императору. Духи, как и тончайшие изысканные кружева, несколько десятков модных платьев, тонких чулок – все это Лиза забрала себе и никто даже не спорил. Теперь вокруг нее витал мягкий цветочный аромат, источаемый изящным флаконом, стоящим подле зеркала. Флакон был выполнен в белоснежных и синевато-голубых оттенках с хрустальной прозрачностью кристаллов, сияющих на его крышечке. Прозрачные синеватые кристаллы в виде лепестков цветка на этой крышечке напоминали то ли розу, то ли дикий шиповник.
Аромат магическим образом сочетал в себе сладкие ноты цветов свадебного букета с душистыми оттенками свежих груш и яблок, которые обычно летом в избытке изобиловали на столах императорской семьи. Ближе к сердцу композиции запах становился только богаче, соединяясь с нежностью жасмина и бархатистостью персика. А где-то в шлейфе ощущался легкий отзвук розы и ландыша. Французский посол тогда сказал, что в аромате этом есть уникальный цветок, выращенный в теплицах версальского дворца – голубая роза и даже преподнес его Лизе. Хотела бы она в этот момент обернуться, да посмотреть на лицо Ивана Дмитриевича, когда она аккуратно уложила невероятной красоты цветок в волосы. Глаза от цвета этой розы из зеленых стали почти что бирюзовыми. Но, увы, в тот момент повернуться она никак не могла. А ведь могла поспорить, что выглядела прелестно!
Сегодняшний маскарад был традиционным отцовским подарком к ее Дню Рождения. К тому же в этом году он обещал быть особенно пышным и наполненным всеми теми вещами, которые она так любит: разноцветными фейерверками, всевозможными сладостями [Лиза ждет не дождется увидеть, какой будет торт, который держали в большой секрете], разумеется самим балом, на который каждый год все придумывали себе самые невероятные костюмы. Подарочек этот батюшка обычно называл «маленьким», утром всегда следовали поздравления и подарки от родителей и обязательное чтение писем от всевозможных королей и королев, которые зачитывались ею вслух [а еще ведь необходимо было писать ответные любезности, вот уж скука!]. Народу позволяли гулять в столице допоздна, празднуя заветные именины царской дочери. После праздничной литургии ставили столы, где всякому можно было поесть и выпить за здоровье цесаревны Елизаветы. Кому повезло находиться у собора непременно бросали монеты. Били пушки Петропавловской, возвещая о столь радостном событии горожан и гостей.
Иной солдат или матрос, поднимающий очередную кружку пива непременно замечал: «А царевна у нас что надо выросла! Красавица говорят!», словно это и вправду они ее вырастили или имели к этому самое непосредственное отношение.
Вечером все непременно проходили посмотреть на освещенный тысячами огней Зимний дворец – зрелище поистине чарующее. Кто-то твердил, что для младшей из дочерей на веселье царь уж точно не поскупится.
Лиза этот праздник и любила по большей части благодаря красочному веселью и подаркам, которые не заканчивались вплоть до следующего дня, но и не любила она его точно также, потому что именно в этот день под всеобщим вниманием, красуясь в том или ином наряде, она чувствовала себя красивой диковинкой, которую все обсматривают. А в этом году, так особенно.
Нет, батюшка сменил гнев на милость после злополучной охоты, даже не поднимая тему замужества, но она отлично знала, что она продолжала домокловым мечом висеть у нее над головой. Более того, возможно герцога Голштинского на этот маскарад даже позвали, а следовательно от этой идеи он не отказался. И единственное, о чем Лиза молила Бога, придирчиво оглядывая собственное отражение в зеркале, пока Марфуша под бдительным присмотром Вари колдовала над ее прической, это о том, чтобы герцог в принципе до окончания танцев ее не узнал.
Так что вопрос, который так некстати задала Варя, сначала пролетел мимо нее, она рассеянно уточнила:
— Кто?
Варя усмехается, выгибая бровь, всем своим видом показывая, что не поверила подруге относительно ее непонимания.
— Ну, тот, ради кого ты так расстаралась, раз тебе живые розы срезали? Вот кто. Вряд ли это герцог Голштинский, а? — ее глазах играет лукавство, а Лиза хмурится, стараясь при этом сидеть смирно, чтобы вплетаемые в рыжие волосы розы не дай боже у пали. Марфа уже несколько раз колола пальцы. Еще немного и у ее камеристки их и вовсе не останется.
— Ты про Кирилла? Такое чувство, что он уже родной мне, — Лиза невесело усмехается. — Вот так часто я про него слышу. И для него в том числе конечно. Я Саше пообещала. Он, кажется, очень к нему привязан. А значит – он неплохой человек. Большего не скажу.
Да, Лиза действительно постаралась над нарядом на нынешний маскарад. Хотя с виду могло показаться, что платье невероятно простенькое для цесаревны и именинницы. Все ведь ожидают увидеть ее в блеске золотой парчи, которая так подходила бы к волосам, в образе какой-нибудь грозной богини или самого солнца. Но ведь смысл маскарада в том, чтобы оставаться неузнанным хотя бы первое время [впрочем во дворце все друг друга знают и ходят на маскарады и балы исключительно для того, чтобы завести связи, чтобы о тебе не забывали в высшем свете или чтобы послушать сплетни]. Но наряд, который она выбрала был лишь обманчиво прост. На самом деле трудились над ним долго и кропотливо, аккуратно пришивая к тончайшей ткани нежнейшего розового цвета маленькие сверкающие бриллианты. Они образовывали на ткани сложную композицию из все тех же роз, которые теперь покрывали ее волосы, падающие двумя тяжелыми локонами на лицо. Розы были живые – в конце концов дурной тон прийти на маскарад с искусственными цветами в голове! Вышивка сверкающими камнями шла и по рукавам, где ткань казалась прозрачно-невесомой. Варя, когда увидела этот наряд мгновенно окрестила его «нарядом богини утренней зари». Лиза же до конца не решила – роза она, королева среди цветов или Аврора, которая каждое утро появляется на горизонте. Так или иначе простой с одной стороны наряд оказывался невероятно необычным и притягивал взгляды.
— Но вы ведь встречались. А мне страсть как интересно послушать о новом друге нашего цесаревича. Или новой игрушке? – Варя склоняет голову на бок, Лиза дернется из-под рук Марфы, которой определенно понадобится после помощь все той же Вари.
— Перестань, Варя. Иначе мы поссоримся, а я не хочу. Саша может и не идеал, но в людях хорошо разбирается.
Варя пожимает плечами, лишь подтверждая тот слух, который ходил по двору: цесаревич ни с кем долгих отношений не водит. Ее лицо впрочем остается спокойным, Лиза спустя мгновение другое тоже отходит, милостиво позволяя Марфе и дальше колдовать над своими волосами.
— И все же тем более мне интересно какой он. Каков внешне? Вы так таинственны в его отношении, Ваше Высочество, что мне все интереснее и интереснее!
Лиза тяжело вздыхает, воспроизводя в голове образ недельной давности. И неожиданно легко оказывается вспомнить удивительные глаза, которые несколько секунд так пристально всматривались в ее, подернутые необычно-длинными ресницами. Неожиданно легко всплыл в памяти этот серьезный образ и серьезный тон, которым он обращался то к Саше, то к ней. Удивительно прочно остался он в ее памяти, несмотря на то, что виделись они всего-то пару-тройку мгновений и толком не поговорили. Да и вообще, пока Кирилл Андреевич [она часто мысленно произносила это сочетание про себя, словно пробуя на вкус] считал ее просто дерзкой девицей [наверняка] черт знает откуда появившуюся в лесу, испортившую охоту и ускакавшую толком не попрощавшись. С одной стороны – к лучшему. А с другой, словно заразившись этим от брата, Лизе ужасно мешало чувство, словно она о б я з а н а произвести лучшее впечатление. Крутились в голове шальные идеи очаровать, словно кому-то на зло [к тому же стоило бы Ивану Дмитриевичу поревновать], вызвать восхищение, с которым все к ней и относились. Впрочем, она быстро отказалась от этой идеи – подло это как-то. В конце концов его вина лишь в том, что Саша уж слишком к нему привязан. Ну и еще в том, что он вообще ее п о й м а л. Сам виноват – надо было дать уйти и всей этой нелепой ситуации не было бы.
— Не знаю я. Высокий. Чуть выше Саши. Саша говорит отменный боец. Из дворян, но в столице о них мало кто слышал, — Лиза подумает еще немного, наблюдая за скучающим лицом Вари. Ну да, эти подробности можно узнать от кого угодно. — Упрямый, — неожиданно ворчливо вырывается из груди. Лиза вспоминает, что вместо того, чтобы оставить ее в покое на чертовой сосне, ему вздумалось бродить вокруг нее, дожидаясь Саши. — Глаза у него интересные, — с неохотой добавляет Лиза в итоге снова и снова возвращаясь к короткому мгновению их переглядок. А после резко обрывается, как только Варя расплывается в весьма неприличной улыбочке.
— Красивый значит?
— А этого я не говорила! – Лиза вспылит мгновенно, надувая губы, словно ребенок и фыркая, лихорадочно подбирая в голове что бы такое сказать, чтобы развеять совершенно неправильное впечатление относительно персоны Сашиного друга. Неправильное ведь! — И вообще, может он медведь неуклюжий. Где бы он в своей глуши танцевать обучился? Обтопчет мне все ноги, а я ведь пообещала Саше!
— Полно, Лиза. Он ведь дворянин, пусть и не знатный. А если дворянин, то простенькие танцы знает – это в крови. А может он тебя и удивит, — Варя сверкнет глазами в зеркало. — Ну, а если что могу забрать, — улыбка на красных губах становится по истине лисьей и Варя еще больше становится похоже на неземное существо. И существо явно коварное. Было в ней что-то неуловимо цыганское, но о происхождении княжны Вяземской и без Лизы ходило масса слухов. Матери своей Варя все равно не помнила и подтвердить и опровергнуть их не могла. Впрочем, это было ниже ее достоинства обращать внимания на чьи-то злые языки. От чего они становились лишь громче, впрочем.
«…могу забрать».
Лиза в другой бы раз махнула рукой и милостиво разрешила – Варя часто так выручала, когда кавалер становился невыносим. Но здесь соглашаться не торопилась: во-первых, кавалер как таковым невыносимым просто не успел стать, а во-вторых… если все точно так, как говорит Саша, значит он хороший человек, а хороший людей грех обижать.
В итоге Лиза ничего лучше не придумала, как неопределенно пожать плечами и пробурчать свое привычное:
— Я Саше обещала.
Оказывается, это даже удобно.
Как только с прической оказывается покончено, Лиза грациозно поднимается, взмахнет руками, оглядит себя в зеркало.
— Ну? Какова? — она покрутится перед камеристкой и подругой, а те дружно задержат дыхание.
— Как обычно, сегодня пара сердец будет твоя, Лиза, — наконец тихо говорит Варя. — Последний штрих, — она аккуратно пристегивает к жемчужной подвеске на голове тонкую вуаль, скрывающую лицо вместо маски. — А вот теперь точно все!
____________♠♠♠____________
— А я говорю наденешь!
Этот спор продолжался уже слишком продолжительное время. И если сначала он Сашу забавлял, то теперь он готов был связать несносного Волконского, насильно надеть на него предложенный костюм и выпихнуть вон. Или просто выпихнуть вон. Это же надо было родиться таким несговорчивым ослом! Саша сердито [теперь уже по-настоящему сердито] смотрит на друга, который очевидно отказывается понимать, что идти на маскарад, тем более здесь, в Петербурге, даже не в Москве, в обычном мундире, совершенно неприемлемо. Саша даже раскраснелся, а камергеры и прочие слуги опасливо отходят в сторону.
— Да пойми же ты, болван, что это м а с к а р а д. И нарядиться надо как можно лучше! Здешние барышни совсем не тоже самое, что ваши березовские, мой милый друг! Да в конце концов цесаревич я или шут гороховый?! Сказал надевай и это мое царское повеление! А коли не будешь, то переодену тебя в арапчонка, только рожу сначала углем намажу! А сначала повелю связать и поверь меня послушают! Так что выбирай!
Саша, уже полностью переодетый в свой костюм черно-золотой недовольно фыркает, складывая руки на груди и всем своим видом показывая, что не выпустит его отсюда, пока он не приведет себя в порядок. Приведение в порядок означало в том числе и бороду, которую с таким усердием пытались налепить на его лицо.
Саша в принципе сразу все придумал – придумал старорусский костюм, без сомнения ему подходящий. Нашел необходимую ткань для этого и заставил упрямого Волконского принять тот факт, что костюм он, Саша, ему д а р и т [сошлись на одолжении]. И вот теперь он крутится перед зеркалом, словно привередливая девица, в итоге они теряют драгоценное время и бесконечно опаздывают.
Сам Саша особенно над своим костюмом не думал. Все равно его узнают – под маской или без нее, так что и над костюмом можно было не задумываться долго, это же в конце концов не имело значение. По черному, бархатному, сюртуку змеей вились золотыми нитями вышивки, изображающие солнце. Цесаревич-солнце, так его называли, так пусть так и будет. Черный, цвет затмения, Саше тем временем ужасно шел, делая незримо выше и слегка загадочнее.
Убедившись, наконец, что его послушали и соизволили переоблачиться, он выдыхает уже дружелюбно хлопая по плечу несчастного, которого втянул не просто на какой-то бал, а сразу на маскарад при дворе. От части Саша даже жалел, но лишь немного. Куда сильнее хотелось познакомить его как можно скорее и с Лизой и, разумеется, показать Наташу. Может даже представить отцу – отец любил добрых и смелых молодцов. Так что придется Кириллу хотя бы немного, но потерпеть. Потерпеть тот свет, под которым изо дня в день живет сам цесаревич. Потому что Саше можно сказать жизненно необходимо было, чтобы он вытерпел. Справится, привыкнет, научится и может у него, наконец появится тот самый товарищ, как в свое время у отца с кем можно будет страну держать и строить. Тот, кому доверяешь. В свои грандиозные планы, Его Высочество, впрочем, Волконского еще не посвящал, но отчего-то не сомневался, что тот против не будет. В конце концов, все ведь для его «единственной любви» [тут Саша традиционно глаза закатывал] – России.
И нет, сам цесаревич страну свою любил. Но любовью особенной, далеко не слепой и не безоглядной. Страна, хотелось бы сказать ему Кириллу [но он мгновенно получит полный праведного гнева взгляд] не умеет любить в ответ. Эта любовь всегда будет в одну сторону. Страна требует любви, как жестокая красавица, которой нравится играть с тобой пока ты не положишь к ее ногам душу. А после этого, ты ей внезапно наскучишь. И она отопнет твою душу куда подальше. И в конце концов [что наверное самое что ни на есть главное] страна уж точно не обогреет тебя в постели, не поцелует и не родит детей [хотя Волконский решил, что дети ему не нужны, в отличие от Саши, который-де, обязан. В тот момент Саше отчаянно захотелось треснуть по этой твердолобой голове пару раз]. Впрочем, сегодняшний вечер может все и изменит и непоколебимая уверенность его друга в том, что единственное его призвание это положить душу на алтарь Отчизны несколько пошатнется.
В главном огромном зале, украшенном особенно пышно цветами, источающими дивный аромат уже давно собралась вся знать Петербурга, да и не только. Дамы в причудливых шляпах [графиня Шуйская, а это ведь точно она, изображала сегодня лебедя и учитывая то, каких она была дама пропорций и размеров, выглядело это весьма забавно], обмахиваются веерами, их кавалеры стоят поодаль, рассуждая очевидно о политике, что дамам не интересно, а может и о дамах самих, что последним бы уже скорее не понравилось. Снова пышная круговерть, карусель бесконечного праздника, которая так контрастирует с удушливым запахом разложения, бинтов, взрывов ядер и криков умирающих где-то там, на войне. Саша улыбается как обычно вежливо и легко присутствующим, чувствует шепоток [всегда его чувствует, как иной чувствует щекотку] и взгляды, впивающуюся в его фигуру и невольно в фигуру Кирилла.
Фигуру новую. Кирилл может и не подозревает, может и не услышит и не поймет, а Саша знает точно. Он теперь эти «маски» интересует ничуть не меньше.
«Какой интересный молодой человек, рядом с цесаревичем… Кажется, я слышала о нем, его отец князь, да точно, наверняка, только не могу вспомнить имя…».
«Никакой не молодой, это иностранец, которого цесаревич с войны притащил, ему лет 40…».
«Ба, Николай Никифорович, а не наблюдаем ли мы рождение второго Апраксина при дворе, а? Может заранее познакомиться стоит?».
«Бог с вами, одного кровопийцы вполне достаточно. Еще услышит».
И Сашу обступают плотным кольцом, кто-то осведомляется о чем-то, кто-то поглядывает через плечо его, так что Саша понимает, что где-то там уже стоят отец и мать. Взгляд отца он тоже всегда ощущает спиной. И на какое-то время приходится оставить Кирилла в толпе, забирая на себя внимание. Впрочем, все здесь скорее пытаются найти главную виновницу торжества. Которая, впрочем, всегда появлялась в нужный момент.
Поделиться82024-05-20 20:38:58
Наташа стоит в толпе придворных, в толпе князей, графов, иностранных послов, ощущая себя лишней на всем этом празднике жизни. Да, она не могла не прийти – тогда бы расстроила Лизу, которая прежде чем заняться своим нарядом битые часы промучалась с ее, уговаривая ее послушаться так, что Наташа в итоге сдалась [под их с Сашей напором вообще сложновато не сдаться]. Но она чувствует, з н а е т, что приходить не следовало. Тем более в таком виде. Серебряно-белое парчовое платье, имитирующее русский сарафан, который расстелила на постели Лиза, сияя от предвкушения того «как он будет смотреться на тебе, Наташенька!», действительно было великолепно. Ткань шуршала в руках, сверкала серебряными нитками, воротник оказался отстрочен жемчугом, как впрочем и каждая пуговица оказалась маленькой жемчужиной. Но особенно прекрасным оказался кокошник. Невероятной красоты и богатства украшения, весь состоящий из жемчуга и серебра, он тонкими жемчужными нитями свисал на ее лоб. Длинные золотисто-каштановые волосы были заплетены в простую косу и, пожалуй, это нравилось ей больше всего. Да, она вроде бы как и графиня, но графиня лишь по названию. А наряд этот едва ли был не самым красивым во всем зале и, как запоздало она догадалась, предназначался Лизе, а вовсе не ей. Но Лиза передумала в последний момент, а теперь Наташа казалась себе ужасно неуместной здесь. Следовало бы одеться скромнее, нет не так, не следовало вообще приходить. Можно было поздравить Лизу отдельно и не показываться на глаза. Особенно после охоты. Особенно Ее Величеству.
На охоте она была с Наташей неожиданно мила и впервые за долгое время она почувствовала от этой властной, холодной на первый взгляд женщины то материнское тепло, которая она дарила своим детям. Она справилась о ее здоровье, окутанная мехами и теплым запахом нагретого вина. А пока они говорили, в императорский шатер зашел немолодого вида человек, разумеется дворянин [она поняла это и по его взгляду, властному взгляду и по одежде и в конце концов по тому, что кому попало в шатер заходить дозволено не было]. Императрица приветливо распахнула ему объятия, они поцеловались словно бы давние друзья, и тогда она узнала его имя.
Князь Николай Юсупов. Вдовец.
«А это, князь, та девушка, о которой я вам говорила. Наша Наталья Алексеевна девица в высшей степени достойная. Дочь покойного Алексея Григорьевича».
И в тот самый момент, когда его все такой же властный и оценивающий взгляд скользнул по ее фигуре, она, почувствовав себя совершенно обнаженной, хотя и была одета, неожиданно поняла, что дверца клетки за ее спиной захлопнулась. И пусть ничего конкретного сказано не было, императрица ничего ей не говорила и даже не звала к себе, чтобы отчитать в очередной раз, Наташа все еще чувствовала и этот взгляд и то, как отчаянно кидается на решетку клетки, из которой не выбраться…
Вот поэтому и не стоило приходить в таком виде. Она готова была поклясться, что императрица следила за ней, да и не только она. Решат, что она понятия не имеет, где ее место. Решат, что нарочно. И все же… И все же. Она соврет если скажет, что наряд совсем ей не нравился. У нее дух захватило только от одного взгляда на саму себя в зеркало. И промелькнула шальная, смелая мысль, которая свойственна Лизе, но вовсе не ей: «А пускай! Пускай думают, что хотят! Пускай…». Уверенность эта, впрочем быстро пропадала как только взгляды становились все красноречивее. К ней уже подходила пара братьев Голициных, таинственно улыбаясь и спрашивая кто она. Словно и так не знают. Но таков ритуал. Впрочем, никто из молодых людей, явно любующихся этим нарядом, не стремились ее приглашать. И это еще одна жестокая шутка двора.
«Она не нам принадлежит, а е м у. Не хотелось бы перейти дорогу будущему Императору в погоне за фавориткой».
Жестоко. И правдиво. Все полагали, что если между ними с Александром Петровичем и нет связи, то она все равно непременно будет. Наследникам как и императорам в их желаниях не отказывают. Так не отказывала ни одна придворная дама желаниям его отца. Да и благодарной следует быть ей, бесприданницы, что столь высокая особа обращала на нее свое внимание. И противно ей бы было [отчасти и было] если бы…если бы она его не знала. Если бы он был отвратительным человеком было бы проще его избегать, ненавидеть за то как серьезно усложнял он ей жизнь. Но она не могла. Слова в горле застревали каждый раз, как только она поднимала голову и встречалась с бездонно-голубыми глазами, которые каждый раз заглядывали прямо в душу. Сколько бы не вела она себя с ним подчеркнуто вежливо и отстраненно – ничего не работало. Каждый раз намереваясь быть скалой, она разбивалась и разламывалась, сдавалась, стоило ему просто сказать свое: «Натали».
Наташа жмется подальше, пытаясь стать невидимкой, но невольно все равно следит за высокой фигурой, облаченной в черно-золотой сюртук, в которой он безошибочно угадывался. Оставалось молиться, чтобы он не заметил ее. Да только как это возможно, как возможно...
Наташа роняет веер, неосторожно натыкаясь на какую-то колонну, но прежде чем успеть подобрать его с дворцового паркета, как сталкивается с теплым взглядом вроде бы незнакомым, а вроде бы который знает сто лет. Она с благодарностью кивнет, заберет веер из рук, а потом синие глаза невольно расширятся.
Кирилл. Тот самый Кирилл, о котором бесконечно твердит Саша, словно нашедший родственную душу. Наташе же отчего-то его жаль. В этом зале они люди чужие. И кажется оба.
— Так вы Кирилл Андреевич! – она улыбается, улыбается неожиданно тепло даже для себя. — Я… – но прежде чем подпоручик успеет узнать ее имя, за спиной буквально из под земли вырастает фигура, от которой ей бы хотелось спрятаться.
И около которой хотелось остаться навсегда.
Он почти силком избавляется от собственного друга, ничуть кажется не сожалея по этому поводу. Наташа спрячет улыбку [как же она привыкла ее прятать] покачав головой. Покачнутся следом жемчужные нити на кокошнике.
— Зря вы так, Ваше Высочество, — укоряет мягко, как ребенка. — Ему здесь все ново, а вы в открытое море…
— А как еще он научится плавать? Да и вот еще – что это он к вам прилип, право слово вкус у него хорош. К тому же, — он теперь смотрит уже не на разворачивающуюся драму прямо перед глазами, где Кирилл нос к носу оказывается с виновницей торжества. Он смотрит на нее, а она не может отвести взгляда от его глаз. Голубые глаза сквозь прорезь маски кажутся необычно-темными. — я отдал его в руки одного из своих самых драгоценных созданий. Вряд ли он будет сильно страдать. Одного из, — он подчеркивает это необычайно серьезным тоном, а она отчаянно надеется, что не надумает краснеть. Нет, из-за белой ее одежды это было бы через чур заметным.
— И почему бы и нам с Вами, Наталья Алексеевна не станцевать? Если вы свободны, разумеется, — он легко кивает головой и протягивает руку. На самом деле он не просит. Он все равно это сделает, он все равно этого добьется. Она чувствует его дыхание совсем рядом со своим лицом. В такие минуты кажется, словно само солнце тебя окутывает золотым светом. Он всегда солнце. Она всегда луна.
Не имеет права. Не должна. Не должна даже мысленно испытывать нечто похожее, что испытывает каждый раз.
И не может.
Пускай…
Она протягивает свою неожиданно холодную руку ему, а он сжимает в своей теплой ладони.
— И между делом могу я просить о подарке?
— Разве сегодня ваше день рождения? – теперь она улыбки не скрывает, уже не обращая внимания ни на полную залу представителей знати, ни на взгляды молнии из того места, где императорская семья находится.
Звучит музыка, все разделяются на пары вместе с ними. Он конечно же превосходно танцует. Шаг. Другой. От него. К нему.
— Нет, но это сущий пустяк, — он перестает улыбаться и становится серьезным. Когда это происходит ей даже становится не по себе – каждый раз, когда он так серьезен того и гляди скажет что-то невообразимое. Пугающее ее тем, как ей хочется чтобы он это повторил. — хотя бы сегодня зови меня по имени.
____________♠♠♠____________
Изучая античную историю ей волей-неволей пришлось изучать и древнегреческий, чтобы читать труды Гомера и Гесиода в оригинальном изложении. Но, так как языки всегда давались ей особенно легко, это было совершенно не сложно. Вместе с обилием древнегреческого к ней, разумеется пришли и эллинские поговорки и пословицы. И одной из них она сейчас становилась прямой свидетельницей. μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης. Между Сциллой и Харибдой. Именно между ними она сейчас и оказалась, беспомощно почти озираясь по сторонам [под вуалью, впрочем, было совсем не заметно], но натыкаясь то на орлиную маску отца, то на спину Саши, который при всем желании не смог бы увести ее от двух кавалеров, ни с одним из которых танцевать она совершенно не хотела, но которые направлялись прямо к ней, минуя бесконечно красиво одетых дам. А ведь она вообще должна была найти для начала пресловутого Кирилла, чтобы исправить всю ту неловкую ситуацию, что возникла между ними. И что теперь прикажите делать?
Смысл маскарада в том, чтобы тебя не раскрыли до официального: «Маски долой». Но, если во дворце есть секреты их непременно рассекретят и доложат о них кому следует. Значит и о ее наряде непременно доложили проворные и вездесущие «уши». Доложили и голштинцу и, прости боже, Васе. Они надвигались на нее с разных сторон – высокий и длинноногий, словно журавль герцог [она узнала его по характерной родинке на подбородке, которую наблюдала на картинах] и Вася в маске, похожей на волчью голову. И если герцог хотя бы обещал быть хорошим партнером, но надеяться на то, что ее несчастные ноги останутся целыми после менуэта с Васей не приходилось. Одна его нога с детства оказалась короче другой, так что он вынужденно слегка прихрамывал и носил обувь на невозможно высокой подошве.
Лиза подавила стон отчаянья, взмолясь Богу, что непременно станет молиться усерднее, усерднее подавать милостыню, только бы он избавил ее от треклятой необходимости танцевать хотя бы с одним из них. Это же ее праздник, черт возьми, так почему ей сразу нельзя было бы потанцевать с кем она хочет? Иван Дмитриевич стоял рядом с креслом отца, как и обычно, она даже не стал маски надевать. Рассчитывать на то, что он при всех подойдет да и пригласит ее на этот танец как-то не приходилось. От отчаянья [кавалеры наступали все быстрее того и гляди кто-то протянет руку] она начала искать глазами Варю – может быть пригласить на танец ее, такое часто устраивали на маскарадах… Лиза натыкается вместо этого на взгляд Саши, хочет было прошипеть «вместо того, чтобы пялиться, пригласил бы сам быстрее…», но тут ее молитвы оказываются действительно услышанными.
Чужой [или не совсем] голос, не принадлежащий ни одному из нежелательных кавалеров, застывших в немом гневе в паре сантиметров от желанной цели спрашивает: «позвольте вас пригласить».
Если бы Лиза могла, если бы это было хотя бы немного пристойным или если бы на них не смотрело столько глаз, принадлежащих высшему свету, то она бы всхлипнула от облегчения и заявила бы нежданному спасителю: «Позволяю. Берите хоть мою руку, хоть ногу и уведите меня от н и х». Но все, что она позволила себе сказать было лишь благосклонное:
— Разумеется.
Она конечно же ожидала, что ее нежданный спаситель знает о том, кто она. Она привыкла, что все знают. Знают, какая честь им оказывается и так далее. Музыканты в скорости занимают свои места, а еще через пару секунд послышатся знакомые звуки минуэта. Зашуршат платья с кринолинами и фижмами. Разойдутся по парам партнеры. А в скорости закружатся фигурами танца по зале под заданный музыкантами темп разноцветные вереницы пар. Они, с ее таинственным бородатым незнакомцев, впрочем, оказались в самом центре. Танец этот сначала напоминает церемонию приветствия, череду поклонов, перемещений, поворотов, реверансов. Они то сближаются, то удаляются снова друг от друга, вуаль проскользит, приподнимется от шального ветерка гуляющего по огромной бальной зале. Особенное очарование танца состояло и в том, что полностью за руку брать было нельзя – разрешалось лишь сжимать кончики пальцев. И в этом движении тоже было что-то трепетное. Минуэт среди дворянства прижился – отец сам когда-то любил потанцевать с матушкой на ассамблеях, пока его здоровье стремительно не ухнуло вниз.
Шаг и еще один. Сближаясь и отдаляясь. Она поднимает изящно руку и, когда оказывается в непосредственной от него близости вдруг у з н а е т. Взаправду узнает в этих глазах, под янтарным светом свечей мгновенно этот свет принимающих в себя, того самого упрямого Кирилла Андреевича, которого, собственно и должна была сегодня найти. Лиза тихонько выдыхает, вуаль вновь приподнимется. В серых глазах напротив светится какое-то узнавание, но он не знает! Он не знает, кто она, вот так шутка!
Лиза вглядывается в его лицо уже с совсем иным чувством и на губах волей-неволей появляется улыбка. Улыбка, обещающая добрую забаву. Прозрачно-травяные глаза переливались хрустальными бликами весенней зелени, когда она, оказываясь вновь слишком близко уже решила, что совершенно точно не станет упрощать ему жизнь. Да и должно же на это балу случиться хоть что-то интересное! Саша хотел, чтобы она запомнилась ему, так что же – она непременно это устроит.
— Так вам «кажется» или мы все же встречались? – выходит почти дразняще.
Она удаляется от него снова, как только он предполагает, что они встречались, ощущая как он неожиданно осторожно сжимает ее пальцы. Правда сказать, придется признать, что танцевать он умеет. «О да, встречались, сударь. Я метко попала снежком прямо вам между бровей!». Ее откровенно говоря забавляло [пусть и было это может несколько неправильно], что он, подозревая в ней девицу с охоты все еще не подозревает в ней цесаревну, что уже давно разгадали все присутствующие. Такая наивность в здешнем обществе…скорее подкупает и удивляет. Словно свежий ветерок в затхлом и душном помещении. Лиза вдруг понимает, что он среди них совсем д р у г о й. Кто-то бы сказал неиспорченный светом. Неудивительно, что он и не подозревал, пожалуй, сколько языков сейчас должно называть его выскочкой, наглецом и сразу уж подлецом за то, что увел желанный т р о ф е й из рук. Но за спасение от нежелательных партнеров она все равно оставалась ему благодарна, даже несмотря на то, что отчасти все еще тяготилась всем этим знакомством.
Рядом друг с другом они смотрятся на удивление гармонично. Она на его фоне становилась еще более хрупкой и удивительно не высокой, все более напоминая розу. А он, в своем кафтане, с этой бородой [пусть она отлично помнила его без бороды] казался могучим-могучим деревом. Того и гляди сломает. Но нет, неожиданно аккуратно он держит ее за кончики пальцев, неожиданно осторожно подходит, когда этого требует фигура танца б л и ж е. И продолжает допытываться. А она продолжает быть таинственно-нема к его мольбам. Только продолжала загадочно улыбаться.
— Встречались ли? – эхом вторит ему она, отвечая вопросом на вопрос, немедленно упархивая назад и постреливая в его сторону лукавыми зелеными глазами из которых того и гляди вырвутся наружу проказливые бесенята.
Вуаль надежно скрывает ее лицо, подергиваемая их плавными движениями. Остается гадать, кто же нарядил его так. Очевидно, что Саша, который так надолго задержался. Нарядил к слову сказать хорошо, ему даже шло, пусть Лиза и отвыкла видеть кого-то поблизости кроме батюшек, епископов, да митрополита с растительностью на лице. Лиза улыбается всем его догадкам, предпочитая оставаться таинственной дамой в розовом до самого победного конца. Они меняются партнерами. Где-то мелькнет белое платье Наташи а следом и черный камзол ее брата, значит, воспользовался все же моментом.
— Сударь, вы пришли сюда исповедовать меня или танцевать? – она чуть присаживается в реверансе, их руки скрещиваются, а в голосе ее прозвучит насмешливая озадаченность. Она не называет своего имени, которое здесь знают все, потому что хочет оттянуть тот миг, когда из девушки из леса, незнакомки на лошади, в конце концов дамы в розовом платье, она станет цесаревной Елизаветой Петровной, дочерью всемогущего императора. Было в этом недолгом неузнавании его что-то…счастливое. — Если я вам скажу, кто я, это будет слишком легко. Я позволю вам угадать, — улыбка не сходит с ее лица, пока они вновь не оказываются рядом друг с другом толком даже не заметив тех партнеров, с которыми танцевали.
Танец выходит каким-то сложным спектаклем, полем битвы и тонких намеков.
И тут, его словно осеняет и губы трогает улыбка. Неужели же этот человек умеет улыбаться. А она рассеянно, словно по инерции думает о том, что эта мимолетная улыбка словно преображает молодое лицо, делая его неожиданно-симпатичным. Нет, не так – делая его красивым и это придется признать. Лиза удивляется собственной мысли, но правда сказать слишком запоздало, даже как-то не успевая ответить на его неожиданно правильное и смелое предположение. А все же упрямый – другой бы просто дождался окончания маскарада, а ему нет-нет, но требуется догадаться самому и ничего его не отвлекает.
«Вы та самая девица…».
Услышал бы кто из придворных или матушка мигом бы возмутились – никто не может называть ее д е в и ц а. А отец бы рассмеялся, пожалуй. Но эмоции ее батюшки были скрыты его маской и ей только гадать оставалось, доволен он или же нет. в конце концов это не она пригласила Волконского [запоздало приходит на ум его фамилия, которую столь часто упоминал Саша], а он ее.
Лиза кашлянет, сохраняя вежливую улыбку. Кирилл же напротив, весьма обрадован. Что ж, значит Саша зря переживал. Кирилл вот счастлив встретить свою девушку из леса. Можно было и вовсе не устраивать этот маскарад.
— А вы внимательный. Или сообразительный. Еще не решила. Тот самый молодец, — губы расплывутся в улыбке куда шире предыдущей. — который долго выцеливает, — танец подходит к концу, маски почти сорваны. Она делает последний реверанс. — Я бы сняла свою маску, ведь вы почти угадали. Почти, но не до конца. А так не считается, сударь, — а после растворится в пестрой толпе людей, пропадая в вереницы следующих за минуэтом контрдансов, гавотов, англезов.
Вот это действительно вышла забава!
Разорвет томную тишину бодрый голос, повелительно требующий от всех – будь ты хоть императором, хоть простым офицером, снять маски. Послышится шуршание, радостный смех узнавания, зазвучат на разные лады голоса. В первые мгновение после этого бальный зал буквально заполняется до основания голосами. Голоса отскакивают от зеркал, теряются где-то под потолком. Тут и там слышится: «Ба, ну что за костюм, право? Вы в этом году расстарались!» или же: «А я сразу вас узнал, князь! Вашу походку трудно, право скрыть!». В общем-то, это тоже некий церемониал – картинно удивиться и начать восхвалять чужие костюмы, утверждая, что в этом году костюм уж точно лучше и изысканнее предыдущего. И так из года в год.
Матвей, отделяясь от друзей, следует к Варваре Григорьевне. В спину слышится сдерживаемые [и весьма плохо, к слову] смешки Семена и Паши. На самом деле молчали бы оба – все это время подпирали стены бальной залы. Один – несчастными глазами провожая свою «звезду» Елизавету Петровну. Другой – постоянно крутил своей курчавой [такой же как и у Матвея] головой, выискивая слуг с подносами с шампанским и тарталетками с гусиной печенью. Всем известно – знать хоть и кушает от пуза, но не тогда, когда танцует. Ведь еще сам Петр Алексеевич сказал однажды [читайте повелел]: «Яства употреблять умеренно, дабы брюхом отяжелевшим препятствия танцам не учинять». Вот они и не учиняли, вместо них этим занимался Богославский. Так или иначе – партнерш у них не было, да и на маскарад они официально приглашены не были, они как и Кречетов были п р и господах. Но сейчас, когда официальная часть закончена чем черт не шутил. В общем – уж кому кому, но точно не им было его обсуждать.
— Варвара Григорьевна, — щелкнет каблуками начищенных сапог, отдаст ей поклон. Вяземская скользнет по нему кошачьим неторопливым взглядом, да и только. А потом фыркнет, уже совсем как кошка, изящно взмахивая веером из павлиньих перьев. — позвольте сказать, что сегодня вы выглядите обворожительно!
Она позволит себе обернуться к нему, взмахнуть веером еще раз, потом резко его захлопнуть.
— Правда? – певуче растягивает слова. — А разве не вы сегодня так мило беседовали с той…краснощекой барышней, которая Елизавете Петровне чай приносит? Я полагаю, она выглядит не менее обворожительно, нежели я.
Осечка, было дело. Но он наивно полагал, что никто не заметит, его общения с Глашей, да и потом обычно княжна ведет себя так, словно его не существует в природе. А вокруг слишком много красивых дам, что тут поделаешь.
— Так вы за мной следите, Варвара Григорьевна? – лицо расплывается в обаятельной [так все дамы говорили] улыбке. — Или ревнуете?
Она закатывает глаза и вздыхает так тяжело словно ей на грудь опустили камень. После, сочувственно почти похлопает его плечу. Почти по дружески.
— Строганов. Нет – значит нет. И даже не надейтесь. Свободны, — она вновь распускает свой невероятный веер, прячет издевательскую усмешку за ним, а ему ничего не остается, как вернуться к ехидно хихикающим друзьям. Обычно это его прерогатива, а тут…
— Не печалься, мой милый друг. Если ты умрешь в одиночестве, обещаю прийти на твою могилу, — Семен веселится вовсю.
— Благодарю, князь, — он всегда его князем зовет, чтобы позлить. — правда боюсь, скорее это я буду вынужден посещать вашу одинокую и бесхозную могилу. Ведь у цесаревны, кажется новый ухажер. Кирилл Андреевич, если не ошибаюсь.
Лицо Семена вытягивается и каменеет одновременно. Того и гляди хватит припадок.
— Эх, Бесстужев. Не везет в любви – повезет в картах.
— Да нет, в картах он тоже проигрывается, — замечает Паша тем временем. — Но и тебе сегодня не повезло.
— Увы, но еще не вечер.
— Вот уж точно, — окрысивается Семен. — уже ночь.
Лизу окружает толпа нарядных князей, княжон, графов и графинь и все в один голос восхищаются кто ее платьем, кто умением танцевать. Разумеется каждый видит своей задачей поздравить ее с Днем Рождения. На щеке то и дело остаются чопорные поцелуи, некоторые вполне искренние, а от некоторых так и разит холодом. А после, толпа расступается, расступается сама, словно отхлынувшая волна. Все еще расступается перед н и м императором, пусть и опирающемся на руку жены, но все еще высоким, могучим и некоторых до сих пор пугающим.
Отец снял свою маску с видимым наслаждением, а теперь, протягивая ей руку проводит кругом по залу – этакая традиция. И с одной стороны, когда отец сжимая ее маленькую ручку в своих больших ладонях проводит по кругу чувствуешь не бывалую гордость. По крайней мере раньше. А теперь же проскальзывает странная мысль, которую поспешишь запрятать куда подальше: «Словно дорогую лошадь перед продажей рысью пускают…». Они останавливаются в центре, отец целует ее в лоб.
— Дочь, — коротко, как всегда, но в глазах поселится теплый светлячок. Он часто на нее так смотрел, как ни на кого более. — Господа – сегодня я вместе с вами радуюсь этому чудесному событию, рождению моей дочери. И из года в год я не устаю благодарить судьбу за такой редкий дар. Будь счастлива, Лиза, — называет по имени, а после этого поздравления зал взрывается криками, смехом и ответными пожеланиями. Все также желают долгой жизни самому императору, а то глаз Лизы не утаивается, не может утаиться ироничная усмешка, которую прячет отец. Словно не верит.
К ней подходит Борис Федорович – он носил красную носатую маску, от которой как и отец очевидно был рад избавиться. На его лбу выступила испарина. Она радостно протягивает к «дядюшке Боре» обе руки, а тот нежно целует каждую.
— Вот смотрю на Вас, Елизавета Петровна и не налюбуюсь. Не верится, что такая красота по миру ходить может, — канцлер с отцовской любовью вглядывается в ее лицо. — И ведь с каждым годом краше, а, Ваше Императорское Величество?
— Ну что вы, Борис Федорович. Куда ей краше. Смотрите – нос задерет, — мама в темно-алом, винном платье подходит почти неслышно. Она также целует ее в лоб, поглаживая прохладной пухловатой рукой по щеке. Не часто она позволяла себе такие нежности прилюдно. — Будь счастлива, милая. И не забывай о почтительности, — она выгибает бровь, а Лиза не удержится от хитрой улыбки, присаживаясь в подобии реверанса, мол, всенепременно.
— Эх, егоза, — отец качает головой, но без какого либо осуждения. Это он в дочери всегда и любил.
— А теперь, Елизавета Петровна, вы просто обязаны нам спеть! – Борис Федорович хлопает в ладоши, словно только что это вспомнил. К нему мигом присоединяются еще десятки голосов придворных, которые тоже непременно жаждут это услышать. Все любят, как она поет. Она не покривит душой, когда скажет, что многие специально даже для этого приходят, находя ее голос дивным и завораживающе чистым. Впрочем, кто же посмеет сказать императорской дочери, что она отвратительно поет? Даже ее отцу нравилось ее пение, он словно молодел, увлекаемый чудным голосом младшей дочери и заявлял, что всегда чувствует себя лучше. — Ну же, уважьте стариков.
И ото всюду слышится: «Уважьте!», «Просим, Елизавета Петровна, просим!».
Она для вида поотказывается, потому что сразу соглашаться нельзя – все решат, что ты только этого и ждал, сочтут это вульгарным и неприличным, но в итоге легко сдается. К тому же сегодня у нее сразу несколько особенных слушателей. Соглашается она сразу после того, как послышится неожиданно ласковое от отца: «Спой, Лизетка, спой».
Она останавливается перед позолоченным, гладким роялем – пока еще не прочно вошедший в их жизнь инструмент многим казался по началу чуждым. Вот арфа или может свирель! Собственно говоря таким же чуждым, как и все то что привносил в их жизнь Петр. Но как привыкли они ходить без бороды, носить европейские платья, так и к роялю с пианино они привыкли. Тем более что царская семья оказывала этому инструменту особенные почести, а следовательно задавала тон.
Невидимые слуги загасят половину свечей, опуская зал в таинственный полумрак. Рассядутся важные гости, опустится в величественное кресло отец. Она найдет глазами Сашу, тот ободряюще кивнет. А после, взгляд мерцающих в темноте изумрудами глаз, коснется лиц поочередно – сначала Ивана Дмитриевича, застывшего неподалеку от отца, а после и Кирилла. Уж теперь-то он должен был догадаться до конца, кто посмел испортить его охоту. Лиза улыбается.
— Что же, господа! – взмахнет руками, заставляя всех прислушаться к своему таинственному голосу, звонким колокольчиком зазвеневшим над притихшей залой. — Тогда я спою песню, о которой услышала от персидского звездочета. Его среди прочих привезли в Россию после Персидской компании. В Персии любят легенду о соловье, влюбленном в розу. Итак… — кивнет придворному музыканту, прежде чем тихим и мягким голосом не запеть строчки, вычитанные в книге.
Разумеется, никакой звездочет ей эту песню не подсказывал и не рассказывал. Она в глаза не видела персидских пленников, но придумала это на ходу, для большего эффекта и была права. Все мгновенно представили себе эту восточную легенду. На самом деле, она вычитывала в книгах восточных поэм много отрывков о любви соловья к розе. Но во всех них, кроме этого одного-единственного, написанного неизвестным, роза не представала в виде капризной и жестокой красавицы. Она представала в виде той, кто всеми силами пытается спасти влюбленного в нее, отталкивая, чтобы тот не погиб. Но все тщетно. Тщетно увещевать пылко влюбленное сердце от того, что неминуемо его убьет. Это все одно, что увещевать мотылька не лететь к свету свечи. Возможно, любовь стоит этих страданий. А что остается розе? А розе остается лишь память о возлюбленном, которого не смогла уберечь от своих же шипов.
Песня оказывается невероятно грустной. Лизу влечет за собой мелодия, влечет все дальше и дальше от сюда, в какие-то звездные сады, наполненные благоуханием роз самых разных оттенков. В те самые сады, где несчастный соловей поет свою последнюю, но такую красивую песню, истекая кровью на колючих шипах… Поет песню своей любимой.
Стоила ли роза этого? Для соловья, пожалуй да. Так кажется Лизе. Но каково же розе жить с такой жертвой? Не лучше ли тогда и самой засохнуть. Она бы, пожалуй, так и сделала.
Лиза поет, зал замирает, загипнотизированный этим голосом, голосом, как говорили самими ангелами подаренным.
Если бы она тогда только знала, что песня эта окажется пророческой. Если бы только знала, что ей суждено стать такой розой, неминуемо ранящей тех, кого любит. Если бы только знала – никогда бы ее не выбрала. Но у судьбы на все свое мнение.
Влюбился в розу соловей прекрасную порой.
И кружит день и ночь над ней, как будто заводной.
В любви признания дарит ей, а роза все молчит.
Ведь знала та, что соловей, себе лишь навредит.
А наш герой все шибче к ней, обнять ее спешит.
И в миг влюбленный соловей у ног ее лежит.
Уж много крови утекло и сердце не горит.
Уж много дней с тех пор прошло, а роза все скорбит.
Влюбился в розу соловей прекрасную порой.
И кружит день и ночь над ней как будто заводной…
Наташа прислушивается к дивному пению Лизы, но не может оттолкнуть от себя гнетущее чувство, которое поселяется в душе, когда смысл ее доходит до сердца. Соловей любил свою Розу. А она всегда знала, что это только ранит его, а возможно и убьет и не отвечала взаимностью. Так он и умер, не добившись ответного чувства, но желая остаться с ней. Невольно бросит быстрый взгляд на макушку Саши, наверняка улыбающегося и гордящегося своей сестрой. А потом снова, словно молнией взгляд, пущенный откуда-то сбоку. Она чувствует этот прожигающий взгляд и по телу мурашки пробегают. И улетучивается куда-то то искрящееся сверкающее счастье, когда никого не видишь кроме голубых глаз под маской.
Себе лишь навредит.
Себе лишь навредит тот, кто не видит преграды в том, что шипы розы проткнут его грудь и убьют.
Себе лишь навредит тот, кто предпочтет смерть, только быть со своей Розой.
Нет, нет, Наташа. Нельзя. Если любишь никак нельзя даже допустить, чтобы он это сделал. Нельзя.
Саша умудряется громче всех и кажется первее всех закричать свое «браво», а за ним стройно подтянутся и иные голоса. Все как и обычно в восхищении. Оборачивается на шепот Волконского, вопросительно выгибая бровь на его: «В менестрели идти».
— Нет, не готов, я отвратительно пою, — усмехается Саша, пожимая плечами и внутренне торжествуя. Никто и никогда перед Лизой устоять не мог – если не поддавался ее собственному обаянию, то непременно падал жертвой ее пения. Иногда он шутил, что коли случится династии пасть, то сестра его точно не пропадет и пойдет в бродячие артистки вместе с цыганами, которых все больше и больше становится. — А я что тебе говорил! – кажется, он только и ждал чтобы сказать эту фразу. Голубые глаза загораются от мальчишеского восторга. Наконец то эта фраза правдива, а не нелепа, словно он просто болтун, желающий сестру выставить в выгодном свете. — Только дурак, говоришь? — Сашины глаза лукаво блеснут в темноте залы, а после начнут зажигать свечи одна за другой и теперь уже он бодрой походкой устремится к сестре, захватывая ту в объятия, прокруживая ее по зале. Лиза смеется своим переливчатым счастливым смехом. И в эти мгновения кажется, что и вправду всегда будет т а к – смех, счастье, свет.
____________♠♠♠____________
— Что же, Кирилл. Разреши представить, моя сестра. Цесаревна Елизавета Петровна. Прошу любить и жаловать – как обещал, — Саша сжимает ее руку в своей, шутливо кланяется, а Лиза бросает на него внимательный и смешливый взгляд. Как обещал, значит.
Она милостиво кивнет головой на его уже официальное приветствие. Маски сброшены, теперь нет никакого смысла скрываться. Теперь они официально – цесаревна и подпоручик Преображенского полка. И странное дело – мерещится ей или нет, но в удивительных глазах напротив, теперь посветлевших и сделавшихся просто серыми, ей чувствуется… р а з о ч а р о в а н и е? Словно он бы предпочел, оставайся она сумасшедшей девицей, которая скачет по лесу. Чувство это, впрочем, перекрывалось как и у многих здесь восхищением. И все же…все же никто еще не разочаровывался узнавая, что имеет дело с цесаревной. Правда сказать – совсем другой. И неожиданно безумно захочется узнать лучше, узнать в с е об этом странном и неловком человеке, временами таком серьезном, а временами улыбающемся безумно красиво.
Протягивает руку для поцелуя, отметая накатившее чувство.
— Мне тоже очень приятно наконец то иметь радость с вами познакомиться…лично. Столько про вас слышала, что кажется, правда, что давно знакома с вами. Друзья моего брата – мои друзья, Кирилл Андреевич. Так что надеюсь, видеть вас чаще, — она неожиданно тепло улыбается.
Вроде бы фразы заученные, которыми всегда обмениваются из вежливости при первом знакомстве. Только вот первое ли это знакомство? И почему кажется, словно и вправду знают они друг друга целую вечность?
Он извиняется. Вновь серьезно зазвучит приятный мужской голос, и так искренне, словно нанес ей когда-то страшное оскорбление. Еще немного и придется уговаривать не вставать на одно колено. А Лиза была уверена, что если понадобится, то встанет. Другой на его месте бы, пожалуй, отшутился. Иные не любят вовсе признавать своих ошибок, тем более таких несущественных. Даже Саша, пожалуй что забыл бы о такой оплошности на следующий же день. И у Лизы волей-неволей вырывается:
— Что вы! Это Саше следует прощения просить, — она сердито смотрит на ухмыляющуюся физиономию старшего брата. Вот уж точно, кто виноват во всем – нет, чтобы портрет ее показать, или же просто мимоходом описать ее внешность. Да-да, виноват все же Сашка, а вовсе не…хотя чего это она вдруг решила его выгораживать, если неделю еще назад называла упрямым медведем? Но слова сами собой вырываются, не возвращать же их назад. — вы же…не знали, как я выгляжу, а я не знала, кто вы, в конце концов это мне стоит просить прощения за свой невинный, — напирает на это слово. — розыгрыш. Впрочем, из-за него вы упустили добычу. Для мужчины это страшная трагедия, полагаю? – тонкая улыбка коснется губ, а после того, как он признается, что ему понравилось как она поет бросит победоносный взгляд на брата. Мол, обещала же, что не останется в обиде. Вот тебе, пожалуйста. — Я надеялась, что вам понравится, Кирилл Андреевич, — взмахнет ресницами, в зеленых глазах забегают пестрые огоньки. Может она позволила себе немного пофлиртовать. Но что с того? Тем более, если он недурен собой. А в общем то кажется неплохим человеком.
— Но-но, так ты совсем засмущаешь моего друга, Лиза! Его сердце я на твое очарование не отдам, а то смотри, он даже вежливо заговорил! А передо мной ты не извинялся! – Саша цокнет языком, нарушая неожиданно эту хрустальную атмосферу, повисшую над ними. Он обвиняюще, почти капризно тычет пальцем в сторону Кирилла, а после, совсем уж по-братски забрасывает руку на плечо. Они и правда одного роста. И правда как братья. Как они с Наташей. И от этого как-то теплеет на душе и она уже совсем по-другому смотрит на Волконского, принимая безмолвно в их узкий круг. И совсем уже нет настроения что-то ему припоминать. — А теперь, господа и дама, я предлагаю покинуть сие место, оставив стариков допивать вино и веселиться. В конце концов я не подарил тебе свой подарок! Да и тебя, – тут Саша посмотрит на Кирилла с неожиданной таинственностью и серьезностью. — нужно официально кое-кому представить. Так что вперед, вперед!
***
Императорский дворец всегда выделялся на фоне остальных построек в Петербурге и так, пожалуй и должно было быть. Из года в год его величественный, но в то же время воздушный фасад неуловимо изменялся – подстраивались новые галереи, облицовывались стены. Вечерами, воды Невы подсвечивались веселым светом из окон Зимнего, который в этот день полностью оправдывал свое наименование. Родись Лиза летом, как Саша, то непременно бы праздновали все в Петергофе с его многочисленными монументальными фонтанами самых разных размеров и форм, отсвечивающих в глаза посетителям золотом, парками и лестницами. Но она родилась зимой, всегда проводила этот праздник здесь, под хмурым небом новой столицы, да и впрочем Зимний и вправду был самым что ни на есть роскошным дворцом. Роскошным и… не самым уютным.
Бесконечные картинные галереи, украшенные картинами известных мастеров и вышитыми гобеленами, анфилады и залы с предметами античного искусства, кабинеты и будуары со стенами, покрытыми красным шелком и украшенные золотом от чего кружилась голова – он был огромен и неприютен, заставляя тех, кто не привык к роскоши чувствовать себя в нем менее значительным. Возможно, на это и был весь расчет. Но были в этом дворце и такие комнаты, которые больше походили на комнаты какого-то богатого усадебного дома, а следовательно именно в них любила находиться семья. Золотые комнаты с кричащим практически убранством предназначались в основном для встречи послов, иностранных гостей и прочих чужих людей – чтобы опять же показать величие и заставить смотреть на семью другими глазами.
Лиза упала на мягкий диванчик гостиной, обмахиваясь руками и выражая полнейшую усталость на лице, как только двери комнаты тихо закрылись за их спинами. Это была и х комната, далекая от шума бальной залы, крикливых гостей и прочих. Уже какое-то время они находились здесь, попивая вино из латунного графина, играли в карты и периодически, все же, вспоминали о том, почему они здесь собрались. Саша свой подарок все еще держал от нее в неведении, таинственно улыбаясь и отказываясь отвечать на вопросы что там. В итоге все присутствующие сошлись на мнении, что там наверняка слон. А если там не слон, то зря вы, Александр Петрович, устраиваете весь этот спектакль.
Наденька расположилась прямо у ее ног, у весело трескавшего поленьями камина на огромной подушке. Где-то в тени как обычно сидел Вася и она постоянно ощущала на себе привычные взгляды сына Бориса Федоровича. Если бы ее так не разморило тепло комнаты, непринужденные беседы и терпкое душистое вино, она бы пожалуй попросила его «прекратить смотреть столь трагично». Впрочем, Лиза думала, что Васе просто как это обычно бывало не нравилось слишком близкое нахождение рядом с ними людей н и ж е. Даже если это «ее мальчики», на которых он то и дело презрительно фыркал, а они без зазрения совести отвечали ему тем же. Хотя сегодня, пожалуй, у него появился новый объект для изучения. И он явно ему не нравился.
Наташа сидит на противоположном диване [строго говоря потому, что Лиза в своем уже не маскарадном платье заняла весь маленький диванчик], вынужденная мириться с соседством Саши, который осмелел видимо после танцев настолько, что улегся прямо на ее колени и заявил, что он так устал и вымотан, что она просто не имеет права его выгонять. И вряд ли бы она успела запротестовать, потому что Саша не дожидаясь особенно разрешения улегся на спину, положив голову ей на колени. В таком виде он мог смотреть на ее лицо сколько угодно, даже если бы она отвернулась. Но в этот вечер Наташа и не протестовала.
Огонь весело играет на картинах, изображающий сцены охоты где свора собак несется на всех парах за ездоком на белой лошади с горном, на гобеленах, где фавны танцуют под флейту Марса, его свет мягко касается молодых лиц, падает на персидские ковры, касается фортепиано в углу.
Все они, тесной группкой сидели в этой гостиной, едва ли вмещавшей столько человек – разные, испытывающие совершенно разные чувства: от слепой и безответной влюбленности до вполне состоявшегося чувства ревности; от осознанной любви до легкой симпатии. А Лиза, опьяненная и вином и весельем собственного праздника, кажется не ощущала тогда ничего. Разве что тепло. Тепло от огня, вина и того, что все кого знала и любила были здесь. Или же, как выяснится позже п о л ю б и т. Все они были вместе в тот вечер. Тот редкий вечер…
1743 год. Зима.
Она откроет двери, те скрипнут неожиданно жалобно, словно их не открывали уже многие годы. А может, так оно и было – эта комната совсем не нарядная, совсем не такая роскошная, как весь остальной дворец, оказалась его нынешним хозяевам совершенно без надобности. Она осторожно, почти крадучись проходит внутрь. Шторы плотно задернутые не пропускают солнечные лучи из-за чего в комнате царит темнота и лишь свет из ярко освещенного коридора падает на прикрытые белыми покрывалом предметы мебели. Огонь в камине уже давным-давно никто не зажигал – в нем осталась только пыль вперемешку с золой. Пыль витает в самом воздухе, комната выглядит совсем заброшенной, совсем не такой, какой она ее помнила. И лучше бы, пожалуй, она о ней и не вспоминала.
Эта комната молчаливым укором, могильным памятником смотрит на нее из своих темных глубин, но она все же проходит дальше. Паркет жалобно скрипнет под ногами, отзываясь скрежетом в душе. Она возьмется за край покрывала, укрывающего диваны, скинет его прочь, поднимая в воздух облако пыли.
Некоторых картин на стенах не хватает. Все те же сцены охоты, где свора собак бежит за трубящим в горн ездоком, а гобелена рядом нет – растащили.
Эта комната помнила тех, кого уже давно не было в живых, сохранившись вроде бы точно такой же, какой и была, но при этом став совершенно другой, чужой и холодной.
Рука сожмет пыльную спинку дивана, сожмет до побелевших костяшек, то ли от нахлынувших чувств, то ли просто чтобы не упасть. На этом диване когда-то полулежал Саша, сверкая весело голубыми глазами-звездами, а Наташа сидела рядом задумчиво перебирая светлые волосы и укоризненно качала головой, когда Лиза неожиданно-громко вскрикивала.
Саши больше нет, а диван остался.
Как горько – мебель переживает своих же хозяев. Мебель все больше начинает напоминать ей могильные памятники.
К горлу подкатывает комок, комната кружится перед глазами, но она не позволяет себе ни плакать, ни тем более упасть. Она в конце концов сильнее этого, слишком многое пережито, чтобы плакать из-за какой-то комнаты и потерь, по которым все слезы давно выплаканы. Поджимает губы плотнее, разглядывая комнату и неожиданно натыкаясь на спрятанное все в том же углу…пианино. Не забрали. Не вынесли. Все такое же, только тоже прикрытое какой-то старой плотной тканью, поэтому издалека и вовсе напоминало гроб.
Ты знаешь, что лучше не подходить. Лучше и вовсе сбежать из этой пыльной, душной комнаты, хранящей лишь воспоминания и с м е р т ь. Ты знаешь, что так лучше, потому что иначе будет совсем уж больно. Иначе будет совсем уж невыносимо, так зачем причинять большую боль, что ты и так испытываешь просто находясь здесь? Но даже понимая все это, понимая что ты увидишь, что почувствуешь, ты все равно на неожиданно ватных ногах двигаешься вперед, сбрасывая на пол тряпицу пианино прикрывающую и открываешь крышку.
До. Ре. Ми.
Оно ужасно расстроено, выдавая гнусавые ноты одну за другой, но как только она начинает перебирать клавиши одну за другой, пальцами перескакивая с черной на белую и обратно, то тело словно прошибает молнией.
Ми. Ре. До.
Ноги подводят, подводит и сердце, когда она с тихим стоном опускается на пол рядом со старым инструментом, прижимаясь горячим лбом к клавишам, которые когда-то давным-давно перебирал самый дорогой человек. И самое страшное, самое горькое, что если бы она тогда, в свои 18 исполнившихся лет это понимала, разве бы теряла она упустила это время? Клавиши от давления тихо и грустно звякнут расстроенными звуками, тупой болью отдаваясь в груди.
— Я опоздала. Как же я опоздала… — шепчет в пустоту, обращаясь ко всем призракам сразу, населяющим эту комнату Зимнего дворца, который теперь снова был ее домом, который снова принадлежал ей. — Никогда не прощу. Никого им не прощу. Никого из вас.
У нее отняли их так же, как забросили эту комнату, посчитав ее ненужной. Выбросили и растоптали. Разве можно это забыть? Да что там – у нее и саму себя отняли, перемололи, искалечили. Разве это можно простить?
Покажется на одну предательскую секунду, что услышит смех Саши, как обычно небрежное: «Ну и до чего же ты грозная!». Но это ведь все обман. Его нет. Их нет. Никого из них. Она осталась совсем одна, вернувшись сюда со всей полнотой власти на которую способен человек, но слишком поздно. Никого не вернуть. Ничего не вернуть. Ни дружбы, ни жизни, ни…любви. Все, что осталось – эта комната, да страна.
Покажется, что кто-то окликнет весело. Она окружена призраками. Только призраки и остались. А она одна. Совсем одна.
— Прости меня. Прости меня.
Почти с нежностью проводит в последний раз по клавишам, по которым порхали е г о пальцы, вытрет случайную слезу, одиноко и предательски все же скатившуюся по щеке. Ткнется в ладонь влажный собачий нос и она ласково потреплет пса по начавшей седеть морде, забираясь пальцами в шелковистую шерсть. Нет, все же одно живое существо осталось.
Спиной почувствует чье-т присутствие позади, в дверях. Выдохнет, развернется со спокойно-каменным выражением лица.
— Ваше Величество. Послы ожидают. Вы решили, что будете делать с этой комнатой?
— Да, — голос прозвучит уже привычно безразлично-ровно. — Надобно отремонтировать. Смотреть больно.
Подарки ей вручали каждый по отдельности. Наташа достала откуда-то прелестную и такую красивую книгу с перечислениями птиц. К каждой из них прилагалась иллюстрация, нарисованная художником с такой невероятной точностью, что казалось будто бы птица возьмет, да и вспорхнет с ветки прочь прямо тебе в руки. Музыкальную шкатулку подарила Надя. Вещица тоже оказалась невероятной – внутри под мягкую старинную мелодию двигались по кругу в замысловатом танце кавалер со своей дамой, они отражались в зеркале на крышке шкатулки, а вокруг них то и дело вырастали тонкие деревца и выплывала луна. Вещь волшебная.
Вася же подарил ее портрет. У Василия Борисовича много чего не выходило из того, что выходило почти у всех. Не выходило скакать на конях, драться на шпагах, да и танцевал он совсем уж не так, как умели делать это иные бравые молодые люди. Но рисовал он прекрасно, пусть его отцу это совсем не нравилось и он презрительно называл художества сына «рисульками». Тем не менее, чтобы сын был развит хотя бы в чем-то он нанял ему учителей из Италии и таким образом Василий Борисович к своим годам, возможно, мог превзойти учителя. На портрете она выходила совсем как живая, словно пойманная в момент неожиданной радости: смеющиеся зеленые глаза, сверкающие сочной листвой, ямочки, которые всегда появлялись у нее в момент веселья и распущенные по плечам рыжие волосы – художник подметил все, что было ей свойственно, словно наблюдал за ней постоянно. Портрет этот существенно отличался от всех тех портретов, что у нее были, написанных в классической для того века манере. На них она непременно изображалась в образе какой-нибудь богини и с одним и тем же надменным выражением лица. Лиза даже ахнула в первый момент.
— Вася, когда…как? – она искренне недоумевает. Нет, он и правда рисовал и по многу, но чтобы так.
— Я рисовал его полгода, — гордо заявляет младший Апраксин, а Саша фыркнет со своего места. Лиза бросит на брата гневный взгляд – у Саши талантов нужных мужчине было множество, но творчество в них совершенно не входило. Его лучшим из сочинения стихов был короткий стишок, посвященный графине Юрьевской: «Как бюст Венеры, ты прекрасна; Но, без души и без огня, Как хладный мрамор, для меня. Ты, к сожаленью, не опасна», и пожалуй своими строчками он очень гордился. Впрочем, графиня его восторгов относительно стихосложения не разделяла, отправила письмо отцу, отцу тоже не особенно понравилось и больше Саша стихов не сочинял. Хотя иногда и порывался, но все мгновенно его отговаривали, потому что Сашины стихи сплошное оскорбление как поэтов в целом, так и тех, кому они обычно посвящались.
Видимо, от своего друга Саша тоже отставать не собирался, не желая оставить его в покое, да и к тому же в незнакомом обществе. Если честно, Лиза и забыть успела, что среди них есть кто-то чужой – так просто вписался Кирилл в их компанию [ну разве что не все разделяли это ее мнение]. Она хотела было снова сказать ему, махнув рукой, что мол, ничего страшного, в конце концов подарков у нее сегодня много [хотя закрадывались некоторые сомнения касательно того, что не вышло ли так, что ее любезный друг и вовсе позабыл о том на какой праздник его пригласили], но передумала. В конце концов, сам предложил.
— Разумеется, мне очень интересно… что вы можете предложить, — Лиза довольно хлопнет в ладоши, усаживаясь с царственным видом на диван, ожидая очевидно каким образом Ее Высочество развлекать собираются. Лиза привыкла, что многие пытаются это делать разными способами это уже, увы, было в ее натуре.
Ожидала ли она чего-то великолепного? Совсем нет. В голове все еще прочно жила мысль о том, что Кирилл Андреевич родом из городка столь маленького, что вряд ли там бы нашлись учителя музыки. А даже если и нашлись бы, то чему научили бы? Паре легких пьес, гамм и этюдов, которыми обычно мучают маленький детей, как только дозволяют сесть за инструмент, в России еще совсем не популярный. Но она решила для себя, что все равно его поблагодарит и это окажется благородным и правильным. Так она думала до тех самых пор, пока он не з а и г р а л.
Доминирующая черная масса инструмента, занимающая большую часть пространства, находится в углу гостиной, почти приклеенная к стене. На крышке отражается вертикальная накладка стены. Черное лакированное фортепиано из палисандрового дерева принадлежало Марсиалю Кайботту. Свет от канделябра освещал часть его лица. Черты лица четкие и неподвижные, рот полуоткрыт, мышцы щек расслаблены, только глаза активны и сосредоточены. И в какой-то момент перестает существовать эта комната, все, кто в ней находится. Существует только человек, играющий на фортепиано и она, сидящая напротив и волей-неволей проникающаяся этой мелодией неторопливо расплывающейся по пространству. И она, забывая обо всем [как это часто с ней бывало, когда дело касалось музыки] она тянется за душой, которую так легко было заметить в этой мелодии, что перехватывает дыхание. Если бы могла, если бы ноги послушались, она бы непременно встала со своего места, как зачарованная, просто чтобы подойти ближе. Удостовериться, что играет правда он, что это на самом деле, что звуки эти из дорогого инструмента извлекают те же самые пальцы, что сжимали ее руку. Лиза вздыхает и забывает выдохнуть, прислушиваясь к этим волшебным звукам и настолько проваливается в ту волну, музыкой созданную, что даже не сразу в себя приходит, тогда как все остальные радостно вскакивают со своих мест с первым залпом разноцветного салюта.
— Что же мы сидим, идемте, в твою же честь! – Саша первым следует в сторону двери, Наташа приостанавливается тепло смотрит на Кирилла, замечая, прежде чем комнату покинуть:
— Вы прекрасно играете, Кирилл Андреевич, — а после следует вместе с Сашей на большой балкон дворца, откуда виднее всего разноцветные столпы искр, то и дело прорезывающих черноту зимнего неба.
Саша успевает взять ее за руку. Лиза было спешит за ними, чтобы не упустить представления, все еще ощущая странное смятение в душе, не отойдя до конца от мелодии, прочно засевшей в душе, когда ставший уже знакомым голос окликает по имени. И она оборачивается, вновь наталкиваясь на взгляд такой серьезный и почти обеспокоенный, что так и хочется ткнуть пальцем между нити бровей и заявить: «Да все, право, в порядке, вы вдохните». Но не говорит. Он в эту секунду серьезных переживаний о ее сохранности в е е дворце [в котором она ориентировалась и с закрытыми глазами] кажется таким забавно-очаровательным, что отказывать как-то и не хорошо. Другому бы она могла заявить, что темноты не боится, но здесь только улыбается тонко и вкладывает надушенную ручку в чужую крепкую ладонь. И неожиданно оказывается приятно, когда так бережно кто-то держит за руку, обещая этим простым движением защищать. Так странно.
И так, рука об руку следуют они на балкон, где зимний воздух все еще покусывает за щеки, а она ежится в неожиданно тонком платье, но все еще зачарованно смотрит на небо, где один салют опережает другой и цветы из искр расцветают на небе, заставляя всех, находящихся внизу радостно вскрикивать и аплодировать.
Лиза с восторгом смотрит на небо, также как и другие радостно хлопает в ладоши, когда дают очередной залп. Она так увлекается процессом, что невольно вздрагивает, когда над самым ухом послышится голос Кирилла. По шее, оказавшейся обнаженной из-за прически пробегут мурашки и она оборачивается. Он вроде бы и негромко говорит, но неожиданно оглушает ее, перекрывая залпы продолжающегося салюта и встречается с его лицом. Оказывается, все это время стоял рядом, даже отпустив ее руку.
И снова просит прощения.
— А вам так важно мое прощение? – Лиза усмехается, вглядываясь в это серьезное лицо, которое хочет убедиться, что она точно ничем не оскорблена. Право же, с какими девицами имел он дело, раз из так легко было обидеть?
Ах, все дело в том, что у него добрые отношения с Сашей. Ну да, разумеется. Все ради Саши.
Зеленые глаза неуловимо темнеют, а Лиза в душе сама себя не понимает – что ей собственно не нравится? Он и приехал сюда потому, что они с Сашей как раз в тех самых добрых отношениях и она к этому никаких дел не имеет.
Он хотел бы, чтобы они были д р у з ь я м и.
Иные, в отличие от него, сразу предлагали быть рыцарями, верными спутниками лишь за один ее взгляд. А он сразу говорит, что никакими такими глупостями заниматься не намерен, словно подводя невидимую черту, которую она принимает. Значит будет так.
Лиза пожимает плечами, качая головой и сощуривая глаза. После отворачивается, но не полностью – он все еще мог наблюдать ее, слегка повернувшуюся к нему вполоборота.
— Кирилл Анддреевич, — над головой взлетит новый залп, рассыпаясь на несколько синих и красных с желтым цветов. — у меня много пороков, от которых надобно избавиться. Но поверьте – злопамятность вовсе не в их числе. Я уже давно все забыла уж не то что простила. И я буду рада такому другу, который смог выдержать рядом с собой Сашу на протяжении стольких месяцев! Значит, — она хитро подмигнет ему. — и меня выдержите.
Они постоят еще немного, она похлопает еще паре залпов, а после он снова заговорит. И какой же он, право, вежливый, ей богу! Этот друг ее брата. Ее друг.
— Надеюсь, не последний раз наблюдала вас на наших праздниках и танцевала с вами, — она театрально делает реверанс, хохотнет прозрачным переливчатым смехом-колокольчиком. — И раз уж так, я ведь тоже не сказала… Вы и вправду прекрасно играете! Где вы научились? Я так забылась от того, как прелестно вы играли, что не сказала не слово, а вы заслуживаете их! – и пока она говорит постепенно ее тон становится все более восторженным, она забывается, как и обычно, когда ей что-то действительно любо. Даже за руки его берет, подчеркивая всю глубину своей искренности. Так же за руки брала и Елисеева, так брала за руки Сашу или Наташу. — Постойте, вам непременно что-нибудь причитается… О, придумала! – воскликнет, пока последние залпы не затихнут в отдалении. Вынимает из прически розу, которая все еще сохранялась в ее волосах, оставаясь все такой же свежей и благоухающей. — Возьмите, на память, — открыто улыбается, протягивая цветок, очевидно довольная своей затеей. — Возьмите, не то обижусь! – она настаивает, кладя свою руку поверх его.
Ведь иногда память – все, что нам остается.
Саша вырастает откуда-то из-за спины, как обычно веселый, сияющий и энергичный.
— Ну, прекращайте миловаться, идемте, господа за мной. Мой подарок все еще не подарен!
А когда Лиза отправится обратно в теплую гостиную с морозного воздуха, остановит Кирилла, хитро заглядывая в лицо ему и кивнет на нежный, раскрывшийся бутон розы.
— Ээ, друг. Знаешь, что розовая роза означает? — таинственно светятся голубые глаза. — «premier amour», — на красивом французском ответствует он на немой вопрос в глазах. Похлопает по плечу, скрываясь в дверном проеме и оттуда весело крикнет. — что в переводе означает первая любовь, мой бедный друг!
***
— Итак, прошу внимания! — Саша, который внимание любит не меньше, чем сама Лиза, стоит по центру комнаты, перед собравшимися перед ним друзьями. В одной руке он держит бокал с вином, к которому периодически прикладывается и может именно поэтому он так необычайно весел. И следовательно болтлив. — Я, конечно, идеален, спору нет! – сверкнет глазами в сторону Наташи, а Надя покроется густым румянцем. — Но, как мой друг Кирилл Андреевич играть не умею. А если бы попробовал, то уже не был бы таким идеальным!
— Ой, не, уволь, меня от своей игры, Саша! – Лиза отмахивается от него мгновенно и хохочет громко, неприлично. — Тем более, после игры Кирилла Андреевича!
Он отвешивает поклон шутливый. Все хихикают, пока Саша изображает шута горохового, расслабленные и разморенные этой теплой атмосферой их компании.
— И все же! – дожидаясь пока утихнет все это веселье важно замечает он. — Мой подарок наверняка придется тебе по вкусу, потому что будет напоминать обо мне, сможет с тобой спать, следовать повсюду и вообще на тебя похож!
Он хлопнет в ладоши и, в гостиную раскроются двери, зайдет лакей, а на руках станет держать маленький ворочающийся комок – живой и настоящий щенок. Лиза даже забывает оскорбиться, что брат решил сравнивать ее с собакой, вскрикивает от восторга, мгновенно срываясь с места и забирая пищащее создание себе на руки. Настоящий, чистопородный щенок русской псовой борзой. Смешной, длиннолапый и длинноносый с рыжими ушами [видимо именно поэтому брат решил, что они очень похожи], обещающий впрочем вырасти в красивую аристократическую собаку. Да, у них были свои стаи собак, были псарни, а у матери в покоях жила кошка [и наверное именно благодаря этому несносному созданию кошек Лиза терпеть не могла]. Но своей у нее никогда не было, никто даже о этом не задумывался. А тут живой щенок и полностью принадлежит ей.
— Какая прелесть! Какое чудо! Сашка! – она буквально готова задушить брата поцелуями и своими восторгами, подхватывая щенка с собой и целуя во влажный черный нос [пожалуй о таких милостях мечтали не то что собаки, но скорее все мужчины ее знающие] Тот забавно чихает и, как только его ставят на ковер начинает деловито обследовать комнату.
— Ну, угодил? Ты его только не задуши своей любовью. Как назовешь?
Она отвечает даже не задумываясь, словно заранее уже все придумала.
— Карай будет.
Поделиться92024-05-20 20:39:20
В зеркале отражалось ее лицо, которое она уже и не узнавала. Скорбная складка пролегла у губ и ее уже невозможно было скрыть никакими средствами – она старела слишком стремительно и слишком быстро. Темно-рыжие волосы, цвет которых унаследовала младшая дочь, спрятанные под ночной чепец поседели у корней и потускнели, как впрочем и она сама. Да и что тут поделаешь, когда всю свою сознательную жизнь она только и делала, что боролась, спасалась, выживала то во дворце, то вне его стен, пытаясь быть не убитой случайными заговорщиками, людским бунтом и просто болезнями. На ее руках умерли ее сыновья еще в младенческом возрасте, а после этого все заботы оказывались направлены на выживших своих детей, а так же на то чтобы случайная фаворитка мужа не выбросила ее из дворца. Она потратила свою жизнь на то, чтобы остаться в месте далеком от любви, жестоком и холодном дворце, чтобы быть не сосланной в монастырь. И что заработала? Мигрени, полноту, морщины и отекающие к концу дня лодыжки.
В спальне пахнет бодягой, мятой и березовым настоем. Влажный чад от таза с люто-кипяченой водой создает атмосферу в комнате до того влажную, что хочется открыть окно, чтобы глотнуть стылого воздуха, да только нельзя. В последнее время ноги ее мужа страдают не менее сильно, как и он сам, а холодный воздух и вовсе заставлял его заходиться в тяжелом лающем кашле. Он даже спал теперь полусидя, если вообще спал – в минуты особого беспокойства он садился за свои бумаги, укутываясь огромной вязаной шалью и напоминая вовсе не грозного императора, а согбенную старуху. Что же, годы не пощадили никого из них.
Когда умер Петя, их третий сын, названный в е г о честь, он был в своем летнем домике с этой дурнушкой. От нее она избавилась, впрочем, выдав к слову замуж и вполне неплохо за какого-то отставного штабс-капитана. Да, говорят он ее поколачивал, но по честности говоря, Анна Дмитриевна вообще могла скинуть ее в Неву и ни капли об этом шлюхе не пожалеть. Так что ей еще повезло. Повезло.
Медленно намазывает руки бальзамом, все еще сидя перед этим же самым зеркалом. Они молчат. Собственно говоря, они часто так молчат и иногда так даже лучше и как-то спокойнее. Раньше и спали по разным спальням, но в последние месяцы она настояла на нахождении рядом, особенно в моменты его приступов – кто-то всегда должен быть рядом. Женщина, смотрящая на нее из отражения ничем уже не напоминала ту красавицу из династии князей Пожарских, смеющуюся и ироничную девушку с медной косой, перекинутой через плечо. Нет, ничего в ней не было от той хохотуньи. Иногда она видела ее отражение в дочери, особенно когда та заливалась этим переливчатым смехом, похожий на звонкий колокольчик. Видела и говорила, чтобы смеялась сдержаннее. Ту девушку, которую она в себе помнила, похоронили с первым умершим ребенком, с первой изменой мужа и с годами тревог и болезней в этой стране, которая никого не жалела. Они остались вместе, возможно и ее усилиями непосредственно, ведь когда-то [а она точно это знает] он и вправду подумывал о том, чтобы отправить ее в какой-то далекий скит.
Любила ли она его теперь, привычными движениями каждый раз обтирая спину, поднося стакан воды или прижимая голову к себе в момент припадков? Она и сама не знала ответа на этот вопрос – слишком привыкла она к нему, выполняя свой долг также по привычке. Возможно иногда хотелось полюбить снова, как раньше, как в первые месяцы брака, но жизнь брала свое, а молодость вокруг так и цвела хорошенькими фрейлинами, случайными девками в портах. Верная подруга, которая и не изменяла ему никогда в жизни, пусть при дворе это и вошло в моду. Верность аукалась набатной головной болью, пронзающей виски. Велика цена, нечего сказать.
И даже сейчас, когда страсти улеглись, тревоги вовсе не закончились. Стоило детям вырасти, так их стало еще больше. И подходили они с весьма неожиданных сторон. Хотя, от Саши стоило их ожидать – в этом он слишком походил на своего отца, хотя она в свое время сделала все, только бы благоразумием он пошел в нее. И ей почти удалось воспитать в нем посредством правильных наставников и гуманизм и идеи Просвещения, которые только начинали витать в воздухе, удалось привить любовь к чтению, чего не скажешь было об его отце. Возможно богобоязненности было мало, но что тут поделаешь, если сам император и отец их не стремился посещать службы. И все же недоглядела. Недоглядела с самого начала, с того момента, когда влекомый невиданным альтруизмом ее муж приютил девочку с синими глазами во дворец решив, что воспитываться она будет с августейшими наследниками престола.
И чем красивее день ото дня становилась Наталья Алексеевна, тем чаще хмурилась она и тем сильнее болела ее голова и не правильнее билось сердце. Ведь только слепец не заметит того, как ее сын смотрит на бесприданницу.
Она бросит взгляд в зеркало, в котором позади нее отображается сгорбленная фигура супруга. Она множество раз замечала, что все это «увлечение» Александра переходит в стадию опасную, но он отмахивался, гневился и заявлял, что она «попусту ветер гонит». Да, уж для кого для кого, а для него это действительно была мелочь. Он, наверное, полагал, что это пройдет, как легкая простуда, а «волочиться за юбками для мужчины вообще дело житейское». Всегда ей хотелось выкрикнуть: «Для тебя, пожалуй, но не таким я его растила!», но она молчала, понимая, что вызовет только приступ ярости. Иногда она испытывала странное чувство зависти к собственной дочери, которая от отца получала всю ту любовь, которой не досталось ей самой.
Она тоже думала, что это пройдет. Пройдет, как проходит гроза. Мало ли вокруг него, красавца, было хорошеньких дурочек [видимо вся проблема и состояла в том, что были они совершенным дурочками], которые способны увлечь юное горячее сердце. И увлекали ведь – мало что ли сообщали ей о ночных похождениях старшего к фрейлинам, мало что ли было скандалов с юными но замужними дамами? И никогда ничего серьезного, всегда нечто мимолетное. Его растили с той мыслью, что так или иначе он принадлежит трону царскому, а вовсе не себе, так что он и не видел смысла в том, чтобы испытывать сильные сердечные привязанности. Его отец же сказал – с нелюбимыми проще.
В виске снова заколит, а в груди родится тупая боль на том месте, где должно быть сердце, но осталась только зияющая дыра. Поэтому и к боли этой тупой она скорее привыкла.
Но это не проходило, скорее наоборот из года в год только усиливалось. Он мог увлекаться кем угодно, но никогда это не было серьезным. Она видела, что каждый раз, заканчивая свое увлечение, он стремился к н е й, к своей Наташе, а в глазах поселялось знакомое самой императрице выражение, которое когда-то видела у его отца – упрямое выражение обладания, которое ни перед чем не остановится. Нет, в отличие от своего мужа она хорошо знала своих детей. А еще знала, что такое влюбиться. И любить.
— Это заканчивать надо, Петруша, — вслух говорит она наконец и собственный голос покажется слишком сиплым, словно она молчала несколько лет и вот заговорила. — это далеко заходит и на маскараде все стало окончательно ясным. Эти отношения неприемлемы.
Он на минуту отрывается от карт, разложенных на столе – работа от части успокаивала его. Тяжелый взгляд падает на ее лицо. Прочие всегда отводили взгляд не выдерживая этого мрачного, тяжелого взгляда, но не она. Она лишь молча отвечает на этот взгляд своего не отводя.
— Опять ты за свое, — покачает головой, тяжело отдуваясь и крепче кутаясь в шаль. — глупости это все. Молодой еще – ветер в голове свистит. От чего ж за красивой девицей не приударить? Сашку не знаешь что ль? Пустое, — он снова уставляется в свои карты, давая понять, что разговор этот окончен, но с этим она согласиться не может. Уважать ее мнение как матери детей, раз уж не супруги он обязан. Хватит ей уже молчать, надоело.
— Ты словно находишь в этом что-то хорошее, Петя. Весь двор уже об этом судачит.
— А может и нахожу? — откидывает циркуль и пристально всматривается в ее лицо. В этом взгляде давно не было никакой любви только холодный интерес. — Двору только дай повод они и про тебя судачить начнут и про меня. А может они и без того этим только и заняты. Жалко тебе что ли? Или ты красоте Натальи Алексевны завидуешь? Девица то выросла хоть куда.
Он отлично знает, что этим замечанием укалывает ее самолюбие, но неужели же не знает он того, что давно его не осталось. Она спокойно выдерживает этот укол в свою сторону, пожимает плечами, набрасывая платок на плечи со стула.
— Ты думаешь, что он просто ухлестывает за ней? Как ты за фрейлинами в его возрасте? – холодный голос чеканит слова. — Нет, Петруша, тут другое. Увлекайся он ей, как ты – слова бы не сказала. Да только влюблен он, неужели не ведаешь? Не видишь? Не видишь какими глазами смотрит? Того и гляди не сегодня, так завтра, предложение надумает ей делать!
— А коли и сделает, — он хрипло подсмеивается явно наслаждаясь ее собственными мучениями по этому поводу, изображая на лице святое неведение. — то и что же? Наталья у нас девица умная, красивая. Знакомы с детства. Графиня в конце концов.
— Бесприданница она, Петя. Будь хоть княгиней знатной, хоть графиней с состоянием – можно было бы еще смириться. А тут от графини один титул остался и то замаранный. Ему же править, поддержку откуда-то брать, союзы – как внутри так и во вне. Жена силы придавать должна, а не ослаблять. Ты у Апраксина спроси – то же самое ссоветует. Нельзя глаза закрывать Петя!
Он помолчит, это молчание неожиданно затянется, нарушаемое тиканьем часов по коридорам. Покажется эта тишина вечной, пока он неожиданно яростно не стукнет кулаком по деревянному столу. Пошатнется канделябр со свечами, упадет циркуль, пара свернутых чертежей его любимых кораблей, которые он любил больше нежели ее [да что там – он даже Лизку назвал также, как звали его маленькую шхуну, а еще охотничью собаку]. Она не вздрогнет впрочем, упрямо уставляясь на его лицо.
— А я еще, кажется, жив, матушка, — он шепчет это хрипло и зло, глядя ей в глаза. На лбу мгновенно выступает испарина. — чтобы ты о Сашкином довольстве переживала. Только и ждешь ведь, как сына на трон посадить, думаешь как ты хочешь править станет? Дудки, душа моя! Сашка никого слушать не станет – на это он и мой сын. А пока в этой стране я правлю и императора своего он послушает. Женится на ком скажу. А скажу на Наташке – значит и на ней женится! Не знатная говоришь? Может быть, только отец ее от смерти меня спас – простой солдат, к слову. А твои знатные родственнички в палатах своих отсиживались пока мы у турок Азов отбивали. Я страну все изменял и изменял, а из жены своей старые порядке не вытряхнул. Была бы сила прежняя, я бы!... – но он не договорит, тело зайдется в судорожном кашле, его грудь словно барабан заходится ходуном, а она молча подбегает, выуживая из ящичка на столе микстуру, поддерживая его подбородок, чтобы он выпил все до последней капли.
Погасает в глазах тот бешеный огонь, который горел в них до этого. Погасает и его ярость, которую поглощает болезнь. Болезнь поглощает его с головой и оставляет только оболочку того человека, которого она когда-то знала. Бережно и настойчиво, словно ребенка, в которого он неожиданно превратился, отводит она его в кровать, укрывая несколькими пуховыми одеялами – в последнее время он постоянно замерзал, как бы не старались истопники с каминами и печками во дворцовых комнатах. Холод этого места, этой новой его столицы, проникал сквозь дворцовые стены и накрепко за ними поселился. Именно поэтому она любила больше Большой Петергофский, где наоборот жило солнце. Может, к лету уедут туда и ему станет лучше. Должно стать…
— Отдыхай, Петя… нельзя так себя работой изводить… — она вытирает капли испарины на его лбу платком.
Веки тяжело приподнимутся, дыхание постепенно выравнивается, но становится таким тихим и поверхностным, что приходится прислушиваться.
— Делай, что знаешь… — устало проговаривает он. —…только меня не мучь, душу не вынимай. Сама после отвечать будешь… Сама.
Глаза снова закрываются, она погладит его по уже поседевшим и поредевшим вечно взлохмаченным волосам и вернется на свое место. Она уж ответит. Бог может и простит.
____________♠♠♠____________
Очередной приветственный залп с пристани близ Петропавловской вызывает у толпы дам новый приступ плохо скрываемого ужаса. Лиза смотрит на всех этих девушек и женщин, которые картинно обмахиваются платочками и веерами, постоянно прикрывают уши и жалуются, что «еще один выстрел и непременно упаду в обморок». Почти не сомневается Лиза и в том, что какая-нибудь дама в обморок действительно свалилась, но только для того, чтобы метко попасть в руки какому-нибудь молодому человеку, стоящему поблизости. Постоянно слышится: «Нюхательной соли!», Лиза презрительно пожимает губы, не мало не пугаясь простых пушек с берега и уж тем более корабельных залпов. Она вообще никогда не боялась этого с детства посещая с отцом то казармы, то парады, которые он утверждал в честь той или иной победы. А теперь же, когда вся страна праздновала победу окончательную парад был небывалый. Так что все эти вздохи и ахи, которые слышались от женской половины она не одобряла. Вообще было бы хорошо, чтобы они сидели по своим поместьям и дворцам, но отец обязывал всех высоких господ парады посещать, как делал это сейчас и сам, стоящий на всех ветрах в мундире и вдыхая соленый влажный воздух. Так что ей, находящейся чуть поодаль Саши и батюшки, парад принимающих приходилось терпеть все эти душевные стенания. Она презрительно фыркает, когда княжна Берестова визжит словно поросенок, которого вот-вот зарежут и демонстративно вскидывает вверх руку с кружевным платочком вверх с восторгом встречая корабли и галеры, пришедшие с далекой и победоносной войны.
Перед многочисленными зрителями, собравшимися в тот день на берегах Невы, предстали русские и трофейные шведские корабли с высоко поднятыми Андреевскими флагами. Раньше, когда праздновали они всего о д н у выигранную битву, на одном из кораблей всегда был сам Петр Алексеевич, но теперь он стоял на берегу, приветствуя победителей. Лиза почти не сомневалась, что сейчас отец бы все отдал, только бы оказаться среди моряков, плавно двигавшихся на фрегатах в форватере друг друга. Корабли распускали белоснежные паруса, словно гигантские причудливые птицы и от зрелища этого действительно захватывало дух. Торжественный салют был дан трижды – одновременно с Адмиралтейской, Петербургской крепостей и с командирской галеры.
Особенное внимание всегда уделяли «дедушке русского флота», первому кораблику, построенному отцом еще в бытность цесаревичем. Ботик «святой Николай», уже скорее символ славных побед русского флота следовал в торжественном окружении флотилии частных судов в Петербурге. В их сопровождении ботик перешел к Петропавловской крепости, где и находилась Лиза с семьей, салютовавшей ему 31 выстрелом. В знак приветствия с борта ботика также было сделано три залпа.
В воздухе пахло солью и порохом, но более всего ощущалось в тот день ликование людей, окончившись тяжелую войну, на которую отправляли и ее брат и тысячи таких братьев, некоторые из которых остались где-то там. Кто на суше, а кто и на дне моря. Тем не менее, война, закончившаяся мирным договором, подошла к концу. По случаю этого события в Петербурге гуляли по улицам и катались по воде на баржах и верейках. Лед на Неве уже давно тронулся, поддался мощному течению с Балтики и вот теперь, в Марте, удивительно теплом для Петербурга, все встречали своих победителей.
Корабли были пришвартованы у Троицкой площади в том порядке, в каком они следовали во время Гангутского сражения. На площади вдоль Невы, ограниченной параллельно стоявшим длинным зданием гостиного двора, состоялось построение русских войск и пленных шведов. Затем началось торжественное шествие через город, в котором участвовали 200 пленных шведских солдат, матросов и 14 офицеров, а также две роты преображенцев.
Следом четыре русских унтер-офицера несли низко опущенный развернутый флаг шведского контр-адмирала. Потом шел сам контр-адмирал Эреншельд, а за ним – Петр в качестве контр-адмирала корабельного флота и полковника Преображенского полка. После этого следовало построение, где часто отец лично проходил мимо выстроившихся рот и полков, с кем-то имел обыкновение заговорить, кого-то похвалить за выправку, выслушивая командиров о тех или иных заслугах. Воевавшим жал руку и непременно после жаловали денежное вознаграждение.
Лиза, бодро выскакивает из большой императорской кареты, где уместились они с матерью и четой Берестовых, которые, очевидно окончательно замерзли даже под мартовским ветром столицы. Настя таращит на нее испуганные глаза и от этого становится невыносимо похожей на рыбу.
— Ты что же пойдешь т у д а? Там же солдаты! – она выговаривает это с таким видом, словно там не люди, а как минимум стая голодных собак, которые обязательно ее разорвут. Выговаривает тщательно, пряча руки в горностаевое манто. — Они же… не умеют себя вести! – понижая голос до отвратительного шепота.
Лиза выгибает бровь, гадая, насколько она серьезно.
— Ну да, солдаты. И офицеры. И твои братья где-то там, к слову. Не съедят же они меня, Настя. К тому же я всегда с батюшкой хожу – я даже цветы вчера срезала целую корзину. Не глупи, Настя, — она фыркнет, ухватываясь за наполненную цветами корзину и выпархивает из кареты в сторону ликующей площади, вслед за отцом и Сашей, прохаживающихся между выстроенными солдатами.
— Оставьте, Анастасия Николаевна, — твердым голосом летит ей в спину материнское решение. — отец ее всегда с собой брал. Люди знают, кто перед ними. Да и оранжерею она обобрала – пусть сама и разбирается.
Лизе среди гвардии всегда нравилось. Нравилось потому, что это вроде бы батюшкино детище, а следовательно и к ней прямое отношение имеет. Гвардейцы, они вроде как свои. Да, иногда порядком неотесанные, но зато всегда добрые, всегда восторженно делающие комплименты, да и в конце концов беззаветно отцу и семье ее преданные, а значит всегда необходимо было их за то благодарить. И Лиза благодарила одним своим появлением обычно, радостно взмахивая рукой, протягивая им стебли «варварски срезанных», как причитал садовник, цветов, иногда просто протягивая руку кому-нибудь, не испытывая какого-либо отвращения по этому поводу. Иные девицы, кажется, свалятся в обморок как только их руки коснутся чьи-то мозолистые ладони. И какая же это, право, глупость!
Строй гудит, шумит, а они двигаются дальше, пока отец не останавливается снова около какого-то гвардейца, в котором, окончательно раздав все цветы из корзины, она безошибочно узнает Волконского. Саша тоже, конечно узнает, но [и это делает ему честь] вида особо не подает, не желая вставать между отцом и другом и уж точно не имея малейшего желания своего протеже выгораживать. Лиза как-то интересовалась у брата, почему бы не зарекомендовать перед батюшкой Кирилла, в конце концов все равно рассказывал пусть и не официально. Служит он хорошо, дворянин настолько, что кажется таких и не бывает [ну право, сейчас всех скорее интересуют должности и развлечения, а не какая-то призрачная дворянская честь, по крайней мере ей попадались именно такие]. На что Саша замахал руками: «Нет, Лиза, если я хочу друга себе сохранить, то этого точно делать не стану. А то он мне голову отрубит и в Неву скинет», - поймав ее испуганный взгляд он смеется и поправляется. «Ну или учинит мне нравственную беседу о том, что он всего-де сам должен добиться за Россию-матушку горой стоя. А я этих бесед вон как наслушался». Насколько тут Саша был серьезен понять было сложно.
Лиза прячется за широкой отцовской спиной, хитро выглядывая из-за плеча и поглядывая на Кирилла, стоящего прямо напротив императора, но все же оказываясь ниже него – ее отец и вправду был гигант.
— Волконский значит… — из-под треуголки внимательностью светится отцовское лицо. Он уже устал, она чувствует это незаметно беря его под руку и ощущая, как вес его тела отчасти перемещается к ней. Отец давным-давно не предпринимал таких долгих прогулок, требующих от него таких заметных усилий. Он что-то прикидывает в голове. — Кирилл Андреевич, стало быть? Как батюшка твой поживает? Помню-помню, — неожиданно заявляет император, откашливаясь и вглядываясь в молодое лицо супротив себя. — как с тобой с ним тогда беседовал, только я моложе был… — голос станет тише и задумчивее. — Хорошим был солдатом своей страны Андрей Григорьевич, коли не ушел бы в отставку и до генерала бы дослужился. Так что и ты наследие отцовское не посрами. Стране добрую службу сослужи, такие как ты молодцы ей всегда нужны. О подвигах твоих, я, впрочем, наслышан.
Саша отрицательно мотает головой, мол, я конечно рассказывал, но для отца это все пустые байки. Лиза делает «страшное лицо», выглядывая из-за плеча отца и так и хочет сказать: «Ну не съест же батюшка его». Всегда веселило, впрочем, с какой серьезностью и страхом к отцу относится и с какой легкостью она через это переступала.
Отец, тем временем продолжает.
—…от генерал-фельдмаршала Борис Петровича Шереметева. Добрую службу сослужил, подпоручик. А посему, — коротко махнет рукой и из ниоткуда словно появится человек, держащий длинный короб, из которого отец достает славно сверкнувшую на солнце шпагу. Нет, разумеется не ту, которой обычно награждают генералов с золотым эфесом или же украшенную драгоценными камнями. Такие шпаги обычно носили скорее для красоты или когда подходило время для церемоний. А то и вовсе вешали на стену и заставляли гостей любоваться. Эта шпага была одной из тех, которые вручают особо отличившимся в боям офицерам – тонкая, хорошо колющая, удивительно легкая, с почетной короткой надписью разве что: «За храбрость!». Отец всегда добрую службу поощрял. Если не повышением в звании, то по крайней мере наградами. Впрочем с ними предпочитал не борщить – того и гляди за обилием наград некоторые дворянские дети начинали лениться и не видеть дальнейшего смысла что-то делать. — держи шпагу. Шпагу береги. У нас говорят: «Без шпаги, что без жены». А шпага дай бог и тебя сбережет в ответ.
И он идет дальше, усталый, но все еще величественный император России. Саша нагоняет его, бодро интересуется:
— Хорошо, что ты не сказал, что от меня это услышал.
— Дурак я тебе что ли? – хмыкает он, направляясь к императорской карете. — Твою болтовню слушать. Справки навел. Да и потом знаю я такую принципиальную породу. Отец его думаешь иной был? А впрочем – люблю таких.
***
— Кирилл Андреевич! – она приветственно взмахнет рукой, мигом оказываясь рядом, как только толпа радостно гудящая разойдется. Родители и свита уехали во дворец, праздновать заключение мира, а она с Сашей остались среди празднующего Петербурга, охваченная нетерпением. Позади нее сияют купола Александро-Невской лавры, а шпили Петропавловской сегодня выглядят особенно торжественно и даже и не напоминают о мрачном предназначении крепости. Повсюду реют флаги, на мокрой и все еще отчасти снежной земле валяются остатки пестрых лент, которыми размахивали девушки и женщины, радуясь окончанию войны и приращению территорий вместе с остальными. — Пойдемте с нами, на пристань! Я бы такое вам показала! Вас ведь наверняка теперь отпустят сегодня ведь у всех, в конце концов праздник! – она в радостном нетерпении пританцовывает на одном месте, заглядывая в лицо с таким выражением просящих зеленых глаз, что отказать бы не смог даже камень. А Кирилл вроде бы камнем не был, хотя за то недолгое время, что удавалось ей общаться с другом своего брата ей порой думалось, что вполне мог за него и сойти.
Лиза, спустя мгновение спохватится почти разочарованно.
— Ох, а вам не хватило цветов… Их так быстро раздала совсем не заметила. Но вы не расстраивайтесь, хорошо?
Саша усмехается, стоя чуть поодаль, поправляя треуголку на голове. Безупречная парадная форма ему очень к лицу. Весеннее чуть теплое солнце мягко отсвечивает в голубых глазах.
— Ну что ты, Лиза. Кирилл Андреевич теперь важная птица со шпагой. Еще чего и не будет с нами водиться. Идем-идем, а то не отстанет, уж наверняка тебя отпустят – сегодня всех отпустили. Гулять вдоволь и пить за здоровье Государя, — он хитро подмигнет, Лиза мгновенно нахмурится с подозрением уставившись на брата.
— Ты напиться что ли решил его утащить?
— А что, нельзя? Это мужские дела, а ты бы во дворец ехала, там говорят твои любимые пирожные с кремом подают, — он запрокидывает руку на плечо Кирилла и усмехается, отлично зная, какой реакции следует ожидать. — Ты это свое «чудо» уже всем показывала. Все уши прожужжала. Ты не поддавайся Кирилл – я такое место хорошее нашел… — он заговорщически подмигивает, словно место и впрямь злачное и куда лучше Лизиного. Она же почти не сомневается в том, что это очередной трактир с какими-нибудь пышногрудыми итальянками или немками с кучей пива и дрянных выражений.
Она, недолго думая, совершенно по-собственнически хватает Волконского под руку, как обычно всегда делала, прогуливаясь куда-то с братом и прислоняясь головой к плечу с вызовом смотрит на Сашу.
— А я тебя и не зову – хочешь иди себе пьянствовать. Я Кириллу Андреевичу покажу лучше. К тому же, это не далеко, на верфях. Пойдемте? — и она снова заглядывает в лицо почти моляще, улыбаясь так широко, что заиграют ямочки на щеках. Отказать здесь и вправду не выйдет, Саша это понимает, понимает что неумолимо проиграет перед силой женского обаяния, пущенного в ход. А Лизе непременно всем нужно похвастаться, да и к тому же когда речь заходит о том, чтобы на своем настоять она куда сильнее оказывается.
Он недобро воззрится на своего друга, обвиняюще складывая руки на груди, хотя в глазах сохранится озорной блеск. Он и сам Лизе никогда отказать не мог, так что и теперь не сможет. Но для порядка заявляет:
— А если я так глазками похлопаю и скажу: «Ах, Кирилл Андреевич, не хотите ли вы пойти со мной выпить?» ты тоже так быстро согласишься. Эх, — махнет рукой, подставляя вторую для Лизы и очевидно сдаваясь. — предатель, ей богу.
Лиза хохочет, окруженная двумя кавалерами, которые выше ее на голову, довольная тем, что как обычно победила, спешит вперед, туда, где высятся островерхие мачты кораблей, вставших у пристаней, слышатся перебранки матросов и ветер путается в белоснежных парусах, только бы показать свое «чудо».
Чудо ее спущено на воду было не так давно, но она не могла нарадоваться на трехмачтовый фрегат, белые бока которого облизывали волны. Да, он еще не был закончен до конца – могучие паруса, которые позже словно крылья огромного лебедя будут раздуваться, натягиваемые мощными порывами ветра, еще не были натянуты, а где-то высоко на мачтах ловко прыгали плотники, повисая на канатах и веревках. Вообще на палубе было все еще в относительном беспорядке. Подтягивали ванты, ослабляли штуртросы, чистили клюзы, переменяли кливер, просмолили палубу, вычистили компас, открыли, чтобы проветрить и вымести трюм от щепок и запаха краски. Но все же это был корабль, что отличался от всех стоящих рядом уже сейчас, как только к нему подходишь. Хотя бы тем насколько белоснежным оказывался его борт и палуба, тогда как иные корабли имели цвет теплого коричневого дерева.
Лиза, наконец оторвавшись от рук своих сопровождающих подходит к молчаливо-величественно покачивающемуся у пристани фрегату, кладет ладонь в перчатке на деревянную обшивку. Корабль словно отзываясь покачнется сильнее. Потом, с сияющими от восторга глазами обернется к ним.
— Вот оно, Кирилл Андреевич, — Сашу она намеренно игнорирует, в конце концов он действительно и корабль видел и слышал о нем много раз и своим скучающим выражением лица и вовсе все портит совершенно бессовестно. — Мое чудо. «Звезда Петра». Корабль, который мне батюшка с детства на чертежах и рисунках показывал. А теперь он здесь, настоящий! – юркнет под мощные тросы, поддерживающие корабль, восторженно задирая голову к верху, щурясь от слепящего солнца, до которого кажется доходили мачты. — И названный в мою честь представляете? — она улыбается открыто, хохочет, а солнце слепит, золотит рыжие волосы. Саша ткнет Кирилла в бок: «Ну и, стоило оно того?», очевидно ожидая, что тот скажет нет, но Лиза и внимания на это не обратит.
Она и вправду считала этот корабль своим, пусть никто и никогда бы так и не позволил бы ей на нем хоть куда-нибудь отправиться. С самого детства, сидя на коленях у батюшки и разглядывая разложенные по нему чертежи и карты она видела этот корабль и готова поспорить, что он даже приплывал к ней в ее красочных сновидениях. Она тыкала пухлым пальчиком в мачту или киль и спрашивала отца: «А это что?». Отец трепал ее по волосам, а после неизменно отвечал одно: «Будет жемчужиной флота этот кораблик». Тогда он не называл его названия, а когда придумал тут же сообщил ей, что это судно назовет в ее честь. И пусть звали корабль не «Елизавета», но вышло даже еще лучше.
— Ох, Кирилл Андреевич, что бы я только отдала, чтобы на нем поплавать! Все бы отдала! Хотя бы в море выйти! А сколько стран можно на нем посетить! – мечтательно выдает Лиза, прокрутившись на одном месте, полностью захваченная этой идеей и мечтой, которой никогда не суждено сбыться. Ведь верно – женские мечты мало кого интересуют, да впрочем как и мужские зачастую. А она все равно мечтает, то и дело поглядывая на Волконского, потому что если уж Саше все надоело, то он наверняка уж слышит это впервые. — Идемте, подниметесь, я вам больше расскажу, — не дожидаясь согласия берет за руку, сжимая в своих похолодевших от соприкосновения с холодной обшивкой ладонях чужую руку и тянет за собой по узкому и шаткому деревянному помосту, по которому неожиданно впрочем легко взбирается.
Белая палуба слепит глаза, начищенная до блеска и еще совсем новая. И Лиза не умолкая рассказывает о том, где что здесь располагается или только будет располагаться, рассказывает и о том, куда бы она на этом корабле отправилась и какие бы товары с собой привозила. Она рассказывает взахлеб, восторженно, светится от этого обожания, а соленый воздух продолжает пьянить, продолжает манить шальной свободой и все тем же ощущением виктории или п о б е д ы. Лиза шутливо командует: «Свистать всех наверх!», а после подходит к самому борту, вглядываясь в далекий горизонт. С этой высоты видно далеко-далеко. Где-то там плещется море, где-то там тысячи неизведанных земель. Ветер ерошит волосы, забрасывает в лицо, она запоздало обернется и закатное солнце блеснет в зеленых глазах, рассыпаясь янтарными каплями.
— Вы простите, Кирилл Андреевич, я наверное много болтаю, а это ведь все глупости, пожалуй, — она смущенно заправляет за ухо прядь медовую, задумчиво глядя как чайки вылавливают из Невы мелкую рыбешку и тревожно кричат. Солнце расплавленным золотом падает на палубу. — тем более для девицы, — улыбка выйдет несколько кривоватой. Поведет плечами, стряхивая нахлынувшую печаль, которая тяжелым одеялом укрыла плечи. Станет прохладнее. И так каждый раз, когда осознаешь, что твои мечты остаются мечтами, остаются навсегда, а где-то на горизонте маячит лицо очередного жениха, который уедет ни с чем, впрочем, но сколько еще она сможет так отбиваться? Лиза мужественно, тем не менее улыбнется. — А что, Кирилл Андреевич, пошли бы в мою команду? Саша вот сказал, что ни за что, — смешно надувает губы, сбрасывая остатки своей печали. Еще чего удумала – грустить!
— И не собираюсь отказываться от своих слов! – Саша стоит и смотрит на них, прислонившись к гордо взлетающей вверх мачте и пожимает плечами, как только о нем имели несчастье вспомнить. Они спускаются вниз, на оживленную верфь. — И вообще, Лиза, вот ты говоришь, что корабль в твою честь назван, но где же тогда звезда?... — и в голубых глазах запляшут хороводом бесы.
Лиза, особенно долго не размышляя хватает уже изрядно подтаявший снег весь в черных прожилках и бросает в него, попадая точно в шляпу, сбивая ее и смеясь, прежде чем спрятаться за Кирилла, потому что немедленно на этот раз следует отмщение. В Саше все хорошо, но если уж честно, даже несмотря на армейскую жизнь, которая вроде бы должна была приучить его к некоторой непритязательности относительно грязи и внешнего вида, этого не произошло. Он все еще на самом деле терпеть не мог пачкаться, а весенний снег чистотой не отличается. Благо, живой щит в виде Кирилла у нее имела, а Саше, притворно-грозно требует «врага выдать». Они, словно малые дети перебрасываются этими нелепыми уже снежками, забывая обо всех проблемах, заботах, которые нависают над головами, как все те же тучи, что на закате набегают на град Петра.
В этой снежной баталии, впрочем, достается всем без исключения, потому как Саша видимо решил, что двое против одного это как-то не честно, вот и играл в полную силу, окончательно промочив и перчатки и сапоги. Сбивает и треуголку у Кирилла, а на платье Лизы сияют некрасиво влажные пятна. Она выдыхает, поглядывая сверху вниз на Волконского [уж слишком высокий] и неожиданно всплеснет руками, столь непосредственно, что волей-неволей улыбнешься.
— Так у вас волосы вьются! – те и правда курчавились мягкими каштановыми волнами и ее отчего-то свое новое открытие такой детали внешности привело в восторг. Ведь если честно всегда такому серьезному Кирилл Андреевичу казалось кудри бы никак не пошли. Да и с образом его никак не вязались. — Совсем как у моих мальчиков! – словно это должно было быть комплементом, но она по привычке не особенно задумывается над тем, как прозвучит та или иная фраза. Волосы у него очевидно вились потому, что капли растаявшего снега на них все же попали. — Какая прелесть! – недолго думая взъерошивает волосы, которые и вправду от части напоминают волосы ее пажей – по крайней мере у Саши и Матвея волосы действительно кудрявятся постоянно и она всегда находила эту особенность милой.
Посмеется немного, хитро поглядывая на него из-под шляпки, которая тем временем сама съехала куда-то на бок. Спустя пару мгновений, впрочем, улыбка делается чуть мягче и чуть серьезнее, если улыбка вообще может быть серьезной. И они смотрят друг на друга и его серые глаза на фоне серой Невы кажутся еще темнее, как, впрочем и ее.
— Отчего вы так мало улыбаетесь. Вам же идет, — сообщает она, прежде чем Саша возникает между ними двумя неожиданно некстати.
— Ой ну все, руки прочь! Устроила на его голове Гангутское сражение, кто ж его такого полюбит теперь? – Сашино веселье становится почти лихорадочным. — Он теперь за мной идет, а за тобой пришлю карету!
Лиза закатывает глаза, но милостиво разрешает этим двоим заниматься своими очень важными мужскими делами [какой вздор!], бросает прощальный взгляд на белую громады «Звезды» прежде чем отправиться по мощеной булыжниками дороге к присланной карете.
____________♠♠♠____________
Красные отсветы падают на лицо императрицы и делают его каким-то мистическим, словно бы принадлежащим к другому миру. Это все можно списать на эффект этого самого будуара, в котором теперь она находилась. Посетителя этого места окружают причудливые орнаменты из позолоченного резного дерева и металла. Их обилие, а также зеркала и живописные вставки создают мир грации и капризной изменчивости. Здесь царят хрупкие изгибающиеся ветки растений и завитки раковин, неустойчивые формы и линии. Здесь неуютно ужасно на самом деле и Наташа всегда невольно задавалась простым вопросом как императрица может находиться здесь на протяжении хотя бы минимального времени. Может поэтому у нее и болит постоянно голова.
Позолота эффектно сочетается с шелковой отделкой гранатового цвета стенных панелей, мебели и драпировок на окнах и дверях. Зеркала на стенах и потолке создают бесконечные отражения, что приводит пространство и чувства в состояние зыбкой неопределенности. Все здесь подчеркивает изысканность и богатство хозяйки. Все здесь нарочито кричит о том, насколько твоя фигура ничтожна даже в самом роскошном платье. Что уж там говорить о скромном мятном платье Наташи, фигура которой бесконечно отражается в этих зеркалах.
Молчание давит.
Ее позвали внезапно эта хмурая тощая женщина, фрейлина Львова. София Александровна. Она всегда тенью следовала за императрицей, вечно одетая в чёрное, словно какой-то призрак, для которого лишний раз улыбнуться кажется чем-то невероятным. Саша утверждает, что она и не человек вовсе, а самая настоящая мумия. А может, переодетый Кощей Бессмертный. Она обычно на такие фразы качала головой, но если уж честно Львова здесь столько, сколько она себя помнит во дворце и ни капли не изменилась: все такой же скелет с желтоватой кожей натянутой на череп. Наташа почти не сомневается в том, что Львова знает о непристойных шуточках, что ходят о ней по дворцу [да она вообще все знает этот черный призрак]. Вроде того что: «Вот какими становятся девушки, если долго в девках просидят!». Львова и вправду никогда не выходила замуж, оставаясь подле императрицы безмерно преданным стражем. Наташа только гадать могла из чего исходит подобная преданность, но в голову ничего не приходило, кроме опять же туманных сплетен, которые она предпочитала не выслушивать. О ней, о Наташе, тоже ходили самые разные слухи, но уж точно ни один из них не оказывался истинным.
Она сцепит руки перед собой ещё сильнее выпрямляя спину гадая, что же сделала не так и что могла узнать императрица. Фигура Львовой в зеркале делается до старости осуждающей этакий скорбный ангел. Рассеянно подумает о том, что быть может Львова отлично зарекомендовала бы себя на службе Тайной Канцелярии. Почему-то легко и просто представилось, как она с каменным лицом наблюдает, как людей бьют и истязают. Так что же она, Наташа все же натворила? Или же не дай боже, императрица узнала… Но нет, они так тщательно скрывали это, что вообразить будто бы кто-то заметил немыслимо.
Но Наташа забыла. Позволила себе забыть о том, что во дворце и у стен есть уши, а за каждым поворотом и вазой скрывается соглядатай. Без ведома царственных особ здесь не происходит ничего. Они полагают это порядком. Наташа позволила себе забыть.
— Вам следует расстаться с цесаревичем, — коротко и без лишних вступлений отрезает императрица и Наташе вдруг померещилось, что ее лицо приобретает на фоне этого красного цвета ещё более жуткие очертания.
Вот так просто. И даже слова употребила нарочито казённые, словно советует какой наряд надеть или говорит о том, что не следует ковырять в носу. Сказала как отрезала.
Мир перед глазами – этот красно-золотой и богатый мир покачнется, а фигура Наташи в зеркале разобьётся кажется на тысячу таких фигур. Разбивается и сама Наташа, безотрывно болезненно вглядываясь в равнодушно-холодное лицо напротив. Но оно остаётся безмолвной маской.
Слова, хриплые и какие то чужие вырвутся из собственного горла.
— Я не понимаю…
Она царственно поднимет руку, приказывая замолчать. Да, она никогда не просила. Не станет просить и сейчас, Наташа не сомневается. Голубые глаза, которые достались ее сыну пронизывают ледяным январским холодом. Нет, у Саши совсем другие глаза – живые, яркие, а не заледеневшие под могучими льдами. Саша пока ещё живой, а здесь все мертво, мертво!...
— У вас много хороших качеств, Наталья Алексеевна и среди них я всегда выделяла честность. Врать вам не к лицу. После бала-маскарада вы стали видеться гораздо чаще, нежели раньше, неужели я не права?
Фигура Львовой теперь кажется отвратительным черным вороном, который ещё немного и начнет кружить над головой, каркая и предвещая беду. Конечно же это она – больше некому! Это она следила за ними, скрываясь за голыми кустами сирени, сливаясь с мраком ночи. Это она наверняка перехватывала записки, которыми они обменивались после бала, когда она п о з в о л и л а себе попробовать. Она бережно хранила его письма между страницами дневника. Совсем короткие, но через каждую строчку в них прорывалась душа, живая, е г о душа. Он писал ей: «Приходите. Умоляю, приходите. У старой беседке, что в парке. Только приходите. Я замолчу навеки, если не придете, но если все же в назначенный час решите предстать передо мной не будет на этом свете мужчины счастливее…». И она пришла. И то счастье, искреннее и неподдельное мелькнувшее в его глазах просто не могло не заставить сердце томительно-сладко биться в груди. Она все ещё помнит, как он сжимал ее руки в своих. Она помнит его голос. Помнит томительное ожидание ночи, только чтобы увидеться с ним. И записки, которые она передавала через Лизу, неужели… нет, немыслимо Лиза бы никогда не стала так поступать, Лиза первый человек, кто желал им счастья. И все же об этом как-то и узнали, пусть они и меняли места встречи, пусть скрывались. Все равно узнали, узнали, узнали.
— Ваше Величество, мы не делали ничего, что порочило бы…
И она снова нетерпеливо прерывает ее. Наташа в своем полусне замечает, как вздулись вены на ее висках, открытых в высоко зачесанных волосах. У не очевидно снова болела голова и Наташа только усугубляла ситуацию.
— Не сделали пока . – безжалостно отрезает и смотрит на нее с усталой жалостью. — Вы плохо знаете мужчин. Однажды невинных свиданий под лунным светом станет недостаточно, Наталья Алексеевна. Что тогда станете делать? Я знаю все, что происходит и всегда знала, поэтому говорю что. Вам. Следует. Расстаться.
Взгляд синих глаз Наташи тускнеет окончательно. Она чувствует, что рассыпается и ничего не могла с этим сделать. Она всегда не любила сказок, в отличие от Лизы, ведь в сказках всегда хороший конец. В жизни все иначе, в жизни всегда все иначе. В жизни тебя не спасет прекрасный принц или царевич, просто потому что его самого запрут в высоком тереме без окон без дверей, а тебе придется так и остаться спать в хрустальном гробу, пока богатый проезжий рыцарь в летах не увезет тебя с собой как очередной трофей.
— Это цветы? Но помилуй, откуда ты их достал?
— Не все ли равно. Я бы и звезду достал, если бы ты захотела.
— Нет, оставь звезды на небосклоне, а мне отдай цветы.
— Я говорю о том, станете ли вы его любовницей или нет? — жестоко, не смягчая красок. Видя, что ещё немного и Наташа пожалуй упадет в обморок [ее лицо совсем уж побелело] она выдержит паузу продолжит чуть мягче. — Я говорю так прямо, потому что вам следует понять ситуацию. Для вашего же блага. Он никогда не сможет на вас жениться, — буквально припечатывая этим никогда. — и вопрос лишь в том хотите ли вы всю жизнь посвятить незаконнорожденным детям и постепенно охладевающему к вам супругу… - на ее лице появится странное выражение, которое она быстро прячет за прежней холодной вежливостью.
— Отчего вы…— Наташа судорожно сглатывает, не чувствуя ни себя ни своего тела от этого разговора, который кажется далеко не закончен и самое страшное ещё не сказано. Кажется, будто ее просто к этому страшному готовят. Она тем не менее мужественно поднимает голову, встречаясь с немигающим взглядом напротив. — …не скажите это Его Высочеству? Отчего он сам не оставит меня?
— От того, что он любит вас, — просто отвечает она и замолчит надолго, впрочем торопиться им явно некуда. Это «любит» звучит как приговор и тем не менее она это признала! Она даже не сомневается в этом и все равно говорит о том, что им следует расстаться! Как жестоко! Невыносимо жестоко. Императрица видимо читает это в ее взгляде, поэтому качает головой. — Но ему нельзя любить вас. Эта любовь погубит его, ослабит его и ничего кроме себя самой не даст! — тут она позволяет себе хотя бы какую-то эмоцию и восклицание это выходит почти что отчаянным.
— А разве этого… мало? — печально спрашивает Наташа и голосом эхом улетает в потолок к великолепной люстре.
— Для будущего императора да! — в ее голосе в ответ прозвенит гнетущая, рвущаяся наружу тоска. — Для императора брак это связи, это усиление влияния, это в конце концов новые союзы и союзники! Да, — горько вторит она самой себе. — да, мой сын пожалуй и сделал бы вам предложение, — в ее устах это звучит как приговор настолько горько выплёвывает она эту фразу. — он никогда вас не отпустит сам, поэтому вам следует сделать это самой, Наталья Алексеевна. Отпустить его.
На бледном лице Наташи изобразится ужас. Она неверящими глазами всматривается в это безжалостное лицо, словно никак не может представить себе, что императрица серьёзна. Но чем дольше смотрит, тем сильнее в этом убеждается. Тем беспощаднее для нее становится это лицо.
— Вы хотите чтобы я… заставила его разлюбить меня?
— Я хочу чтобы вы дали ему понять, что не намерены продолжать эти отношения. На самом деле вам п р и д е т с я это сделать, — она хмурит брови, словно вспоминает что-то неприятное и холодные мурашки забегают по позвоночнику. Вот-вот, вот-вот это случится и что же тогда … — Князь Юсупов посватался к вам, — наконец сообщает она. — очевидно, вы приглянулись ему. И я склонна принять это предложение.
Один. Два. Три.
Она не чувствует, что сердце бьётся. В ушах прилетает ураган и голос императрицы звучит как далёкий крик чайки. Она не слышит. Не видит. Не чувствует. Покачнется, как березка на ветру, чьи то цепкие руки подхватят, усаживая ее на кушетку. Голоса звучат будто сквозь толщу воды. Замуж. Предложение. Выйти. Согласиться. Перед глазами разверзается целая пропасть без начала и конца, в которую она должна шагнуть и уже понимает, что непременно в нее шагнет.
«Себе лишь навредит…».
Кто же в этой песне Наташа? Роза? Соловей?
— Я отвечаю за вас после смерти вашего батюшки. И князь делает вам честь своим предложение м. Вы сирота и у вас нет приданого в достаточном объеме. Князь вдовец и полагаю, что хотел бы, чтобы у его детей была мать. Он не так стар, как кажется. И я дала свое благословение. Князь герой войны, он влиятельный человек и хорошо служит стране. Я бы не хотела его расстраивать.
«И у вас нет выбора».
Никто не любит огорчать таких особ.
Это все, что Наташа слышит. Холодная ладонь, пахнущая какими-то травами неожиданно опустится на ее руки. Оказывается, Наташа все ещё сжимала их, впиваясь ногтями в ладонь. Странно, боли даже не почувствовала. Наташа поднимает глаза, пошатываясь даже сидя, императрица сжимает ее руки.
— Я могла бы заставить вас. Могла бы приказать. Но нет. Я прошу вас. Саша не станет меня слушать, бросится в огонь и не подумает о том, что за этим последует. Может наделать таких глупостей, что уже не спасёшь. А вы можете. Вы можете! Я прошу об этом не как императрица, а как мать, у которой родился наследник престола в этой стране. Понимаете ли вы это? Ваш брак даже если он состоится принесет очень много боли – вы к этому готовы?
Готова ли она смотреть, как он истекает кровью из-за нее? Нет. Готова ли смотреть на то, как счастлив без нее? А ведь она знает, действительно знает, что ее упрямый Саша никогда не бросит ее сам. Он не отказывался от нее тогда, когда она всеми силами его отталкивала. Он тот соловей. Она та Роза.
— Он будет несчастен. Вы к этому готовы, Ваше Величество?
— Видишь вон то созвездие на небе?
— И как оно называется?
— У него самое красивое имя на свете. Натали.
Целая палитра пронесется на лице императрицы в этот момент. От сожаления, до злости. Но на снова справится.
— Мы все здесь такие.
Наташа медленно поднимется и удивится самой себе. Не падает. Ее жизнь разрушена, потеряла смысл, но она умудряется стоять на ногах. Нет, упасть в обморок перед императрицей теперь – она не доставит такого удовольствия. Никто не останавливает ее, не требует сделать реверанса и Наташа с горечью осознает, что никто даже не сомневается в том, что она согласится. В конце концов она уже разбила ему сердце. Она уже невеста. И не его.
Остановится у дверей сама. Не разворачиваясь лишь спросит:
— Почему вы так меня ненавидели?
— Потому что он вас любил, — быстро, не раздумывая, словно только и ждала этого вопроса и заранее знала свой ответ. Возможно, она всегда его знала. — Не будь у меня сына, я бы, наверное, полюбила вас ведь вы никогда не расстраивали меня, — ее голос потеплеет на долю секунды. — Но я мать. Однажды возможно вы поймёте меня. И даже простите.
Наташа обернется таки взглянет на нее в последний раз.
— Я понимаю Вас. А простит вас Бог.
____________♠♠♠____________
Лиза останавливается в который раз за сегодняшнюю ночь, объятая этим неясным и непонятным страхом, который ужасно, впрочем, на нервы действует. Она ведь никогда и ничего не боялась: ни скакать во весь опор на лошади, ни вообще лошадь, пусть даже такую громадину, как Плутон, ни звуков пушек и вот уж дудки, темноты она тоже никогда не боялась! Ограждает рукой пламя от свечки, которое то и дело норовит потухнуть едва Лиза делает несколько шагов – не зря их старый камергер вечно стонал и жаловался на то, что по дворцу гуляют сквозняки. Портреты на стенах кажется в этой таинственной полутьме и вовсе за ней следят и Лизе волей-неволей хочется ускорить шаг, только бы поскорее пройти эту чертову галерею и оказаться на месте. По телу то и дело пробегают мурашки – и до конца понятно дело ли в том, что она вышла из комнаты своей лишь в одной ночной белой сорочке, накинув на плечи мягкий изумрудный платок с бахромой, или же в том, насколько оказывается пугающе мрачен дворец, когда большая часть его жителей проваливается в сон.
А вообще во всем оказывалась виновата Варя. Ну и Марфа вместе с ней. Это Варя, с которой удалось проехаться верхом вдруг завела речь про гадания, за которыми ее отец застал крестьянок недавно. Крестьянок разумеется высекли, но они до последнего божились, что «суженого в зеркале видали» и крестились. Лиза конечно же заявила, что ничего такого быть не может и чего глупые люди только не выдумают – никогда она не верила ни предсказателям, ни астрологам, ни уж тем более гадалкам-цыганкам, которые по руке будто бы способны были нагадать кучу всего, что с тобой произойдет [в зависимости от того, сколько золота ты ссыплешь на смуглую руку]. Варя, зарывающаяся в научные книги с головой не верила тоже [пусть среди ее книг и находились какие-то древние фолианты каких-то травниц и знахарей], но не упустила возможности, впрочем подначить:
«Но одной, ночью перед зеркалом сидеть и суженого призывать это, согласись, не каждый сможет».
Лиза, которая уловку мгновенно заглотила махнула рукой и самоуверенно, даже через чур самоуверенно заявила:
«Отчего же? Что же в этом страшного?»
«И не забоишься?»
«Ничего я не забоюсь!»
«Тогда давай условимся…».
Так и условились, что этим же вечером по отдельности после полуночи станут гадать. Гадать вообще-то запрещено было за что крестьянок и высекли, потому что почиталось происками бесов, но народ все равно гадал, не взирая на такие мелочи.
Условились они на сегодня и по той причине, что стояла полная луна, а гадать как известно нужно именно при ней.
И Лиза до вечера ничего и не боялась, предвкушая эту затею как очередное веселое развлечение и не ожидая от него совершенно ничего, если бы Марфа, помогающая ей переодеваться ко сну, вдруг со всей серьезностью в голосе, узнав о ее затее, не заявила, что ее сестра так мужа своего увидела. И что явился он к ней из зеркальной темноты весь лунным светом покрытый. Бледный что смерть. А еще Марфа с таинственным видом поведала, что бывает можно мертвеца в зеркале увидеть и тогда это значить будет, что твой ненаглядный умрет едва вы поженитесь. И чем дольше страха нагоняла ее камеристка, тем неуютнее становилось Лизе и веселая затея переставала таковой являться. К ночи она вообще окончательно пожалела о том, что в это ввязалась.
«Как к зеркалу подойдете следует волосы распустить», — наставительным тоном поучала ее Марфа. «И непременно вам нужно находиться одной, чтобы не помешал никто. Возьмите две свечи и перед зеркалами поставьте. Когда полночь наступит их зажгите. Зажечь надобно так, чтобы в отражении получился зеркальный коридор. Потом Ваше Высочество сосредоточьтесь и произнесите три раза: «Суженый-ряженый, приди и покажись мне!»».
Потом по ее словам зеркало помутнеет, оттуда покажется лицо суженого и так далее. Лиза, у которой воображение разыгралось совсем уж не на шутку, в итоге в конец разозлись, заявила, что все это глупые суеверия и зеркало может помутиться только от того, что гадающая перед ним уснула от бессмысленного ожидания не ясно кого. Марфа вроде как обиделась, но обращать на это внимание Лизе было уже не досуг.
И вот теперь стояла она со свечой рядом с темной музыкальной комнатой, где два огромных зеркала словно созданы были для гадания и раздумывала, не повернуть ка ей назад. Нет, ничего скорее всего и не случится, ну а если… а е с л и она там кого увидит? И этот кто-то чего недоброго окажется совсем не похож на Ивана Дмитриевича? Лиза сердито саму себя одернет. Что за вздор? Ничего не случится, потому что ничего и не может случиться. И храбро шагнула в темное, зияющее своей темнотой пространство музыкальной гостиной. Нельзя было оплошать перед Варей, в конце концов. Она ведь наверняка все поймет, да и потом как можно вообще было струсить? Перед самой собой потом противно станет.
Лиза осторожно ставит свечку на подставке перед зеркалом, зажигая от нее вторую. После, садится перед ним сама с каким-то облегчением не обнаруживая в нем ничего кроме своей слегка побледневшей физиономии. Из окна отсвечивает прозрачный лунный свет, серебрит распущенные рыжие волосы, пышной гривой покрывающие плечи. Благодаря ним по крайней мере хотя бы не так холодно, как могло бы быть.
Она сама в этой гостиной в своей белоснежной ночной рубашке с рюшами напоминает скорее призрака. Если бы кто случайно сюда зашел наверняка бы креститься начал. Но Лиза нарочно такое место выбрала для гадания – кабинетец этой кроме нее редко кем-то вообще посещался, поэтому никаких свидетелей было быть не должно.
Всматривается в зеркальную глубину, смотрит безотрывно и произносит послушно три раза, как и заклинала Марфа:
— «Суженый-ряженый, приди и покажись мне!».
Запоздало вспоминает еще одно страшное предупреждение Марфы: «Через зеркало это, Ваше Высочество сам черт пройти может, говорят. Он облик жениха принять может! Так что вы долго не глядите! Не всматривайтесь! А как только рассмотрите сразу скажите: «чур сего места!». Ну, а если не забоитесь, отважитесь на него дальше смотреть, то черт вам какую-нибудь вещь суженого показать может, перстенек, например али носовой платочек или карманный ножик! Он вам протянет её из зеркала и положит на стол. Коли перекреститься и произнести фразу, которую я вам уже говорила, то уже после этого, чёрт исчезнет, а вещь останется в нашем мире. И в этот момент у мужчины, предначертанного вам судьбой, действительно эта вещь исчезнет, а когда они встретятся, он непременно свое узнает!...».
Голос Марфы зловеще в голове разливается, луна светит все немилосерднее. Это ведь теперь до последнего здесь сидеть придется, не краснеть же перед собственной камеристкой, она ведь на утро тут же спрашивать начнет видала она черта или нет! И Лиза готова от отчаянья застонать, но принуждает себя оставаться на месте, вглядываясь в безмятежно ровную зеркальную гладь, отражающую все что угодно, только не черта.
— «Суженый-ряженый, приди и покажись мне!».
Может и не будет ничего. И правда – все это вздор. Все эти черты. Вздор и в конце концов грех! Вот уж если бы Саша узнал, то на смех бы поднял. И Лиза приободряется от мыслей о брате и о том, что это все п у с т о е, но все же решается посидеть еще немного. Уже и вовсе весело произносит последний третий раз: «Суженый-ряженый, приди и покажись мне!», и тут неожиданно покажется чья-то фигура в зеркале. Лиза скрывает испуганный крик, потому что таинственного гостя спугнуть совсем не хочется, принуждая себя оставаться на месте.
На самом деле фигура совсем и не размытая, хоть лунный свет и серебрит плечи. Во тьме и волосы можно заметить, разве что цвет во тьме не разглядеть [но и то хорошо суженый ее совсем не лысый]. Фигура с армейской выправкой не похожа и на старческую, а значит быть суженому молодым. Она во все глаза впивается в нее взглядом, подсчитывает пуговицы на…мундире? Значит гвардеец… но как странно, Иван Дмитриевич не служил. Может будет? Что черту мешает в конце концов будущее показывать?
А потом, только успевает она обрадоваться, фигура дернется, дернется по направлению к ней, от чего она испуганно вздрогнет, уж больно все это реально и уж больно близко фигура оказывается и в ней она уже без всякой ошибки неожиданно узнает…
— Кирилл Андреевич? – не веря ни зеркалу, ни своим глазам восклицает Лиза, а потом вскрикивает совсем уж по-девичьи испуганно, вскакивает со своего места, свеча падает на пол, а она плотно закрывая глаза наугад машет рукой, ожидая то ли того, что черт уйдет просто от ее беспорядочных махов, то ли просто решит, что она сдвинулась умом, а значит она ему вроде как не нужна. Да и исповедовалась она давно, а в ад как-то не хочется.
Лиза отбивается, и в пылу этой битвы вдруг замечает, что руки, которые ее удерживают на копыта черта не похожи. Они просто похожи на…руки. Она замирает, прекратив испуганной птицей биться в этих руках и поднимает глаза.
— Кирилл Андреевич, — тупо повторяет она, но уже без вопросительных интонаций. — Кирилл Андреевич?! — когда до нее доходит вырывается уже совершенно возмущенно. Она мгновенно отходит от него, кажется озадаченного не меньше и обвинительно грозит пальцем, пытаясь заодно поправить спавший с плеча платок. Ну да теперь, когда весь страх прошел, она вдруг вспомнила, в к а к о м виде перед ним, перед м у ж ч и н о й стоит [пусть это и всего лишь Волконский]. — И как вам не стыдно? Что вы вообще тут делаете! Я подумала!... Я решила что вы… — задыхается от возмущения и на самом деле облегчения. —…черт! Что вы по ночам шастаете? И вообще приличный дворянин такого бы не допустил, это вас Сашка испортил это в его стиле выходка! И чего вы там стояли, могли быть дать знать!... Заблудились вы что ли? Что же, по крайней мере вы не призрак. Все эти гадания чушь.
Действительно чушь – ведь отражался в нем вполне реальный человек, а никакой не суженый. Ведь так? Напустилась она на него может зря.
Он, наверное и давал, раз двигался к ней, не кричать же на весь дворец. И про приличия не ей рассуждать. Она сердито сдует рыжую прядь волос со лба, хочет было прочитать дальнейшую возмущенную тираду о том, что так пугать молодых девушек не хорошо. Но тут с еще большим ужасом, чем за несколько секунд до этого перед зеркалом, слышит чьи-то шаги в их сторону. Наверняка кого-то разбудили! Еще чего не хватало матушке снова не спится – тогда уж не избежать чего недоброго розг. А в худшем случае запрут в комнате. Матушка никаких суеверий не терпит, а гадание это оно и есть.
— Тсс! – совершенно уже ни о чем не заботясь прикрывает ему рот ладонью, сама оборачиваясь на двери. С двух сторон – не сбежать, не уйти. — Поймают! И меня и…вас! Идемте за мной! – крепко хватая незадачливого «черта» за руку и тянет в сторону плотной синей шторы, надежно скрывающее залитое лунные светом окно. За ней еще довольно много пространство, по крайней мере для одного. Для двоих, пожалуй, тесновато, но шаги уже совсем близко и выбора нет, остается переждать.
Облегченно выдыхает ему в грудь куда-то, куда и утыкается переводя сбившееся дыхание постепенно.
— Может уйдут, только переждем… — шепчет как можно тише.
Лунный свет из окна освещает лица, делает кожу жемчужно-белой и сияющей, падает на плечи, с которых снова упал непослушный платок, но в такой тесноте не поправить — того и гляди колыхнешь нечаянно штору. Лиза сглатывает, стараясь дышать как можно тише, поднимает голову слегка, встречаясь с его глазами и невольно замирает, смаргивая с ресниц лунный свет. Кто знал, что посмотрев на человека один раз, никогда не сможешь стереть его образ из головы? Вот и у нее никак не получалось с того самого раза. Не получалось и до конца объяснить самой себе, почему этот человек казался неуловимо… и н ы м? Не как Кречетов, или Саша. Просто другим. И почему так раздражала теперь своя собственная глупость именно перед ним, если твердо решили, что он Сашин друг. А значит и ее? Стыдятся ли друзей? Важно ли, что они подумают, глядя на вот такую глупую тебя в ночной сорочке, испуганную глупыми страшилками крестьян? Почему это имело значение?
Серебристые из-за лунного света глаза видели ее словно насквозь; она попыталась представить, как он смотрел бы, случись ему полюбить. Взгляд был мягким, отчужденным, порой слегка укоряющим — и всегда недосягаемым. Не вина этих глаз, что им открывалось так много.
Зеленые глаза замерцают прохладной зеленой зеленью, она смаргивает это странное наваждение, выдыхает тише, замирая в таком положении на некоторое время, прислушиваясь к неясным движениям и тихим голосам за шторой. В итоге, когда шея окончательно затекла, не выдерживает, осторожно наклоняет голову на чужую грудь, устраиваясь щекой удобнее. И, пожалуй, это было бы совсем неловко, если бы она вдруг не услышала взволнованное и такое знакомое: «Что ты хочешь этим сказать, Наташа?...». Лиза вздрагивает, поднимает снова голову на Кирилла.
— Это же Саша?... — одними губами.
Подслушивать как-то не хорошо, наверняка он сейчас ей об этом скажет, да только и выходить уже поздно и еще более неловко. Так что приходиться замереть с какой-то тревогой в душе, вслушиваясь в два голоса. Что-то было не так. Совершенно не так.
Поделиться102024-05-20 20:39:48
***
—…что ты хочешь этим сказать, Наташа? — если до этого они говорили глухим шепотом, то теперь он говорит уже во весь голос ни мало не заботясь тем, что их могут услышать. Какая к черту разница, если только что она вдруг неожиданно холодно заявляет, что совершенно не представляет как продолжать эти встречи. И более того больше не видит в этом никакого смысла.
Саша помнит, как бежал сюда, как только получил записку. Несколько странным показалось то, что доставила ее простая служанка, а вовсе не Лиза, как это бывало у них всегда. Он бежал сюда, как бежал к ней всегда, словно корабль, несущийся на свет Полярной звезды. И теперь, она стояла напротив него вроде бы совсем близко, но неожиданно такая…далекая. И чужая.
Он силится к ней подойти, но она делает шаг назад, шарахается от него как от чумного. Ее лицо мертвенно-бледное, он смотрит на него пристально, а в душе все переворачивается. Что-то не так. Возможно это он сделал что-то не так.
— Наташа, послушай, если я сделал что-то, что тебя обидело, это ведь можно исправить. Но ты должна объяснить… — свой голос прозвучит неожиданно жалко.
Ее лицо холодная маска, совсем и не ее лицо. Она покачает головой, плотнее поджимая губы и на всякий случай делая шаг назад, словно боится его и то, что он может сделать.
— Как у вас все просто, Ваше Высочество. И всегда было просто. Захотели – все изменили, исправили. А в жизни оно все совсем не так. В жизни так не бывает.
— От чего же не бывает? У меня все бывает! – он пытается улыбнуться, но в ответ не получает никакой ответной улыбки и его собственная тускнеет, как тускнеет солнечный свет, когда его закрывают серые облака. — Что ты такое в конце концов говоришь? Мы же счастливы.
Она глухо рассмеется и померещится ли ему, но смех этот слишком горький, слишком отчаянный. Блеснет в уголке глаз слеза. Он не выносит даже одного вида ее слез, снова делает шаг вперед, а она вскидывает ладонь и он замирает. Сердце пропускает удар.
— Счастья, Ваше Высочество не бывает. А жизнь…она вот она – она такая! Сейчас мы счастливы, а завтра что? У нас нет будущего. Вы цесаревич наследник престола а я… бесприданница. Так только в сказках бывает. Вам сидеть на троне мне – быть благодарной, что не продали в крепостные. Каждому своя барана. Так крестьяне говорят, я слышала. Мудро говорят. У вас невеста будет ровня, а у меня жених. Не хочу всю жизнь чувствовать, что не по себе шапку надела.
Он дергается, словно она его ударила. Почудится ему или нет, но она тоже дернется к нему словно в мучительном желании обнять и сказать, что все не так, но в последний момент удерживается. А может показалось. Он неверящим взглядом смотрит на нее, смотрит совершенно по-новому и собственные глаза постепенно леденеют.
— Неужели ты считаешь, что я когда-нибудь стану попрекать тебя твоим…происхождением? Так ты обо мне думаешь? И давно?
Она замотает головой, обхватывает себя руками, а весь ее вид болезненный и лихорадочный мог бы свидетельствовать о том, что она не в себе. Это бы объяснило все, да только родные синие глаза светятся мрачной решимостью. Нет, не больна. Серьезно. И знает ведь, что боль причиняет, но безжалостно продолжает.
— Это был прекрасный сон, но я хочу проснуться, — шепчет она отчужденно. — Я ведь наскучу вам, – вдруг горько и обреченно промолвит и глаза тускнеют. — наскучу, а что мне после этого делать. Кому нужен будет…порченный товар?
Он в один миг вдруг оказывается перед ее лицом, хватает за плечи, за эти хрупкие плечи, сжимает так сильно, что пожалуй следы останутся и горящим холодным голубым пламенем взглядом всматривается в ее лицо. Сейчас он более всего на бога греческого похож – яростный, величественный, грозящий весь мир расколоть надвое, стоит ей произнести еще хоть слово. Еще раз встряхивает, словно желая привести ее в чувства.
— Ты не можешь так думать! Не можешь! Кто угодно может считать, что я с людьми играюсь, но не ты! Только не ты, не ты… — и он прижимает ее к груди, к бешено колотящемуся сердцу в кажется уже бесплотных попытках разбудить ее, прижимает все крепче, несмотря на все ее слабые попытки оттолкнуть, прижимает только крепче. Прижимается губами к волосам, сохраняющим запах полевых цветов – ее запах. — Не надо Наташа, не надо перестань, только не ты… Неужели ты думаешь, что я как отец?
— Пустите… — тихо шепчет, словно вовсе не хочет, чтобы он ее отпускал и на какую-то долю секунды сдается кажется, а после упрется ладонями в грудь и громче выкрикнет: — Пустите меня! – и выпорхнет из этих объятий, снова обхватывает себя руками.
По телу проходит мелкая дрожь. По ее ли? По его ли?
— Вы никогда не женитесь на мне. И кем буду я? Содержанкой при вашей жене?
— Я даю тебе клятву здесь и сейчас. Я сделаю все, чтобы ты была счастлива, но почему ты так боишься в это поверить?! – выкрикнет он в ответ отчаянно, почти зло, пытаясь докричаться до нее, но эта битва заранее обречена.
Она качает головой, качает все сильнее и все отходит и отходит назад.
— Нет, Александр Петрович. Не сдержите. Я не стану вашей женой. Я не смогу так жить. Не смогу взглядов этих выдержать. Этих придворных. Все языки ведь не заткнешь. Я покоя хочу. Детей хочу! – вскрикивает неожиданно. — Жизни хочу спокойной! Какая из меня императрица?
— Моя? – просто отвечает он, его голос бесцветен, потерявший всякую силу. Вся его фигура сгорбится словно, словно меньше станет. Ее лица не рассмотреть, но если бы он только сейчас мог это сделать, увидел бы. Увидел бы ее глаза, в которых можно было бы спастись от всех грехов. Если бы какой поэт увидел эти глаза, то, пожалуй, непременно заметил бы, что именно так любовь и выглядит. Как ее глаза.
— Мне предложение сделали, — наконец произносит она роковую фразу. — Я замуж выхожу, Александр Петрович.
Он молчит, молчит кажется бесконечно. Душа чернеет, чернеет и он говорит совсем не то, что хочет. Поднимает, наконец, голову, а в глазах его искрится лишь холодное безразличие, с которым он обычно обращается к тем, кто ему глубоко неприятен. Он усмехается, усмешка, с которой он подсмеивается над нелепыми придворными, Васей и Берестовой, неприятно режет губы.
— Что ж, — тянет слова, разглядывая ее. — и кто же этот счастливчик? Юсупов? Наш старик оказывается еще хоть куда. Вкус у него есть, мне было бы что ему рассказать. И что же вас так в нем привлекло, а? Титул? Земли? Имение под Москвой говорят у него великолепное! Говорят, правда, он предыдущую жену в могилу свел? Не боитесь?
Он ненавидит себя в эту минуту за каждое высказанное слово. За каждую усмешку. Примерно также, как ненавидит ее. За сердце кровоточащее.
— А если и титул? Почему мне нельзя хотеть хорошо жить? – она поднимает подбородок, смотрит с вызовом.
— От чего же – можно. Станете княгиней. А любовь – это и необязательно. Его женой быть, очевидно гораздо приятнее, чем моей. Я, признаться, оскорблен, но в конце концов о вкусах не спорят. Я желаю вам счастья, Наталья Алексеевна, — он издевательски склоняет голову в поклоне, щелкнет каблуками. Глаза продолжает холодным пламенем гореть.
Она не ответит, посмотрит на него так пристально, что сердце снова пропустит удар, сожмется предательски. Вот-вот кажется что-то скажет, скажет что это все ложь, что замуж она не хочет и никогда не выйдет, что она его и только его и всегда так будет. Но она молча разворачивается и выходит вон.
Его голос в спину останавливает в последний момент.
— Скажи мне, что любишь его, — он снова зовет ее на ты. Зовет почти жалобно, надтреснуто, моляще. — Скажи, что любишь его, чтобы это имело, черт возьми, хоть какой-то смысл!
Она не обернется, но бросит коротко:
— Я не люблю его, — но мгновенно обрывает любые крылья, которые могла эта фраза подарить. — Но вас я тоже не люблю. Прощайте, Ваше Высочество.
— Ты же понимаешь, что если уйдешь вот так, то я никогда не прощу. Никогда этого не прощу. И никогда не дам спокойно жить, можешь даже не рассчитывать! Слышишь? Слышишь?!
Но она не останавливается даже на его бесплотные угрозы, не останавливается и уходит. От него, из его жизни. Словно кто-то погасил солнце, словно ангел, которым она всегда для него была улетел как ни бывало. Он остается один в музыкальном кабинете, один наедине с сердцем, которое в клочья разорвали, выбросив на пол. Если бы умел плакать, то заплакал бы. Но, увы, Романовых научили всему. Всему, но уж точно не плакать.
Я б хотел глухим родиться - да, да, да,
Я б хотел глухим родиться - не беда,
Но зато бы не услышал - да, да, да, да,
Что меня ты не полюбишь,
Что меня ты не полюбишь,
Что меня ты не полюбишь -
Никогда.
***
Саша уже наверное давно ушел, а Лиза все стояла за той самой шторой, как громом пораженная, совсем растерянная, в таком состоянии еще больше похожая на ребенка. Перестала смущать в некотором смысле даже фигура Кирилла в такой непосредственной близости и свой непотребный вид. В голове лихорадочно крутились мысли одна страшнее другой, мысли в голове укладываться, впрочем, отказывались. В ушах набатом продолжал звучать голос то брата, то Наташи, один громче другого. Она медленно выходит-таки из своего укрытия, не в силах забыть то, чему невольным свидетелем стала. И свидетелем этим стала не она одна.
Лиза заходит взад и вперед, шелестя полами сорочки, напряженно думая о чем то, прижимая руку к губам и нервно грызя ноготь на большом пальце [привычка дурная, от которой пытались отучить многие и многие сменявшие друг друга няньки и воспитательницы, да даже матушка, намазывающая этот палец дегтем]. Бормочет: «Да что же это…» и с виду впечатление производит ни дать ни взять помешавшейся. Замирает, поворачивается к нему и почти жалобно спрашивает:
— Да как же это могло случиться? Как это замуж? – она обращается к Волконскому так, словно он имеет к этому хотя бы малейшее отношение и более того может что-то сделать.
Лиза снова отворачивается, снова начинает мерить шагами комнату уже ни мало не беспокоясь о том, что кто-то ее тут увидит в таком виде, да еще и в присутствии чужого мужчины.
— Нельзя это так оставлять, совсем нельзя! — заявляет она, глаза сверкнут упрямым зеленым огоньком. — Наташа не может так и вправду думать, тут что-то не то!
Но что? Откуда вдруг появилась эта свадьба? И с чего вдруг Наташе давить на самое больное, что есть в Саше – намекать на его крайнюю ветреность и несерьезность? Нет, Наташа, которую Лиза знала так бы не поступила. Да, правда сказать в последнее время она казалась задумчивее некуда, но особого значения этому Лиза придавать не стала, а теперь выходит, что все это время что-то да происходило. И тут, словно молния, пронизывает внезапная мысль, заставляя остановиться, замереть на месте и мгновенно помрачнеть. Лиза в это мгновение из растерянного ребенка словно бы вырастает. Расправляются брови, поджимаются губы, в глазах только полыхнет уже почти яростное пламя. Она вся выпрямляется натянутой струной, поднимая голову и становясь даже будто бы выше. Романовское.
Догадка своя ей совсем не понравилась.
— Вот что, Кирилл Андреевич, — в голове гудит и шумит целое море, так что собственный голос покажется неожиданно властным. — ступайте, найдите Сашу. Не дай Бог что-то учинит. А я пойду к тому, кто мне ответы предоставит. А ответы эти мне ой как интересны, — она недобро усмехается, не замечая за собой даже того, что кажется взаправду начала командовать. Хорошо еще не приказывать. Лиза белой тенью срывается с места, раздраженной походкой следуя вон из музыкальной, намереваясь во что бы то ни стало добиться ответов. Пусть даже от собственной матери.
— Пропусти, — холодно требует [уже совсем не просит] Лиза у часового около материнских покоев. В другой бы раз, может, дождалась бы до утра, но внутри все так и клокотало, поэтому она направилась в них сразу, как поняла, кто ответственен за всю ту боль, которую за какие-то несколько минут пережили дорогие ей люди. И ведь она, Лиза, сама в этом участвовала! Значит записки каким-то образом попадали из ее рук куда не следовало, а значит и ее сделали виноватой! Откровенно говоря, на какие-либо ответы от матери она не надеялась. Может статься [и всей душой она на это надеялась, но в это совсем не верила], что она здесь и не при чем.
Из-за двери лился теплый свет от свечей – Лиза отлично знает, что в такой час мать редко ложилась – обычно или читала, или писала какие-то письма. Головная боль порой оставляла ее только под утро, поэтому она не сомневалась в том, что императрица по крайней мере не спит.
— Так не велено, Ваше Высочество, — словно бы извиняясь проговаривает тот.
Мама всегда выставляла их перед покоями, так и не пережив до конца тот давний бунт и не доверяя дверям, около которых вечно клевали носом лакеи. В случае разъяренной толпы, она говорила, они скорее на колени падут, нежели защищать их станут. И Лиза в душе этого человека жалеет – что с него взять, таков приказ. И в иной раз она бы объяснила все, может попросила бы мягче, но теперь не досуг раскланиваться со всеми.
— Так я тебе велю, — подчеркнуто холодно цедит она в ответ. — или того, что я могу сделать не боишься? А я многое могу. Пусти говорю, — вздергивая подбородок и прожигая во лбу несчастного целую дыру.
Из-за двери послышится усталый голос: «Пусти, Гришка, пусть проходит, коли пришла» и двери перед ней открываются, и она шагает в просторную спальню своей матери.
Императрица, уже приготовившись ко сну откладывает псалтырь, которую читала перед сном, молча воззрится на свою дочь, от которой разве что волны жара не исходят. Взгляды – голубой и зеленый скрещиваются.
Комната эта, принадлежащая к общему ансамблю покоем матушки, так же как и кабинет, будуар, гостиная, где они с фрейлинами раскладывали пасьянсы, была выполнена одним и тем же архитектором, но особенно была матушкой любима. Сегодня матушка предпочла остаться в ней, а не почивать с отцом. Саму спальню — довольно большую и очень уютную комнат, задрапированную бледно-голубым шелком, отделяла комната, в которой они сейчас и находились - здесь матушка отдыхала, переодевалась, проводила утренние и вечерние часы за туалетом. Здесь стоял и письменный стол, за которым императрица работала. Шелком такого же цвета, как и стены спальни – голубым и нежно-сиреневым, украсили мебель, ширму и перегородку, разделявшую комнату на две половины.
— И что же, душа моя, ты ночью в таком виде здесь делаешь? – она спрашивает это как обычно спокойно, перебирая концы шали, укутывающей полные плечи.
Лиза на секунду опускает взгляд, вновь видит ковер с круглыми узорами и снова будто бы оказывается в детстве, когда упрямо в него пялилась, но отказывалась извиняться. Странная робость владела ей каждый раз, когда приходилось с матушкой говорить. Фигура матери словно давлела над ней, придавливала к земле и весь пыл мгновенно куда-то улетучивался. Но не сегодня. Сегодня она себе молчать не позволит!
Лиза вскидывает голову, вздергивает подбородок, смело вглядываясь в обманчиво-умиротворенное материнское лицо. Кошка спрыгнет с коленей императрицы, мяукнет, бросит на Лизу кажется презрительный взгляд янтарных глаз и скроется за дверью только пушистый хвост мелькнет.
— Как вы могли? – это вырвется первым, словно нечаянно и сразу. Голос дрогнул от неприятия, пока всматриваешься в родное лицо и надеешься найти хотя бы каплю сожаления. — Они же были счастливы! Зачем вы вмешались? Я ведь поняла! Кому кроме Вас! Наташа ведь специально все это наговорила, а Сашка дурак, поверил! А я знаю, что это вы, матушка, только не могу в толк взять – к чему? Как вы могли так поступить с ними? – голос сорвется, она повышает голос, пытаясь достучаться, но, кажется, совершенно тщетно.
Ни один мускул на гладком белом лице матери не дрогнет. Она продолжает смотреть на свою дочь, словно ничего она ей и не сказала. В глубине глаз поселится некоторое раздражение, которое бывает, когда над ухом назойливо зудит муха.
— Значит сказала ему, Наталья Алексеевна, что замуж выходит. Ну и к лучшему, — спокойно отвечает в итоге она, даже не думая оправдываться. Она не сказала фальшивое: «Не понимаю о чем ты», даже этого сделать не потрудилась. Лиза хочет как-то это понять и не может. — А ты следила или что в такой час в одной сорочке делала? Или снова на посылках ходила, а, Лизавета? — голос неуловимо холодеет. — Как я могла? Станешь матерью, может поймешь к а к. А ты чего хотела, душа моя? — пристально вглядываясь в лицо дочери вопрошает Анна Дмитриевна. — Чтобы подруга твоя женой его стала? А ты подумала, как к ней относиться станут? Нет, Лиза. Это для простого мужичья достаточно красивой быть и прилежной, да милостыню подать. А с двором не так. Им происхождение подавай. Какой князь безродной дочери солдата кланяться станет? А коли дети народятся? Хочешь, чтобы какой-нибудь Голицын со своей родовитостью или Шуйские мыслить себе начали: «А чего это нам присягать наполовину безродным наследникам? А не лучше ли в свои руки все взять?». И все – бунт, переворот и все, что твой отец сделал коням под ноги! Этого желаешь?
Эта недолгая тирада словно выжимает из нее оставшиеся силы. Она оседает на кресле, прижимая пальцы к вискам. Откуда-то появится мрачная фигура Львовой, которая выходит из-за ширмы [снова подслушивала значит, да вынюхивала – до чего же противно!] появляется с каким-то эфирным бальзамом. Запах у него едкий, но матери всегда помогал.
— Лучше… — Лиза вся дрожит от гнева, непонимания [или ей просто не хочется этого понимать]. От нахлынувших чувств задохнуться готова. —…лучше и вовсе детей не иметь, чем их несчастными делать, матушка! Это жестоко! И бесчеловечно! Я бы никогда так не поступила, слышите? Я надеюсь, что Саша никогда про ваше участие в этом скверном деле не узнает, потому что он уж точно никогда не простит! Никогда я этого не пойму. И понимать отказываюсь. bonne nuit, матушка, — она присядет в коротком реверансе и ураганом вылетит из комнаты, которая вдруг стала безмерно чужой.
____________♠♠♠____________
Лиза просыпается от того, что кто-то очень настойчиво, но впрочем очень неуверенно теребит ее за плечо. Лиза сквозь дрему все же пытается отослать навязчивое существо как можно дальше, потому что и так заснула очень поздно, ворочаясь в постели с боку на бок в тщетных попытках уснуть, а вот теперь кто-то ее сон нарушает. Да и поводов для скверных сновидений у нее было хоть отбавляй.
Наташи она за те дни, после случая в музыкальной гостиной, она видела мало. Можно сказать, и не видела вообще. Теперь она словно избегала и Лизы и уж тем более Саши. Во дворце же при этом к ней начали относиться несколько иначе, возможно с тихим уважением. Шутка ли – будущая княжна Юсупова, будущая обладательница всех этих великолепных московских усадеб, вроде Архангельского, душ крепостных и возможная мать будущих Юсуповских наследников. Но Лизе, которая нет-нет, но натыкалась на одинокую и хрупкую фигуру Арсентьевой Наташа счастливой невестой не казалась – казалась она скорее бледным призраком, который шатается по дворцу и ждет своей смертной участи. Однажды Лизе удалось все же поймать ее в саду, уцепиться за рукав и отказываться выпустить. «Ну так убегите! Убегите, поженитесь – никто уже ничего не сделает! Наташа, к чему эти страдания?». А она ответила односложно отрешенно: «А я не ты, Лиза» и ушла, оставив цесаревну в весьма противоречивых чувствах. Но куда тревожнее было ей за Сашу.
В один день он мог быть необычайно весел, разговорчив до болтливости и энергичен. Он отвешивал скабрезные комплименты фрейлинам, ездил на охоту и громко смеялся, словно и не было ничего страшного в том, что неторопливо шли приготовления к свадьбе. А на следующий день он становился мрачным и угрюмым до невыносимости, придирался ко всем и к каждому [бедняге одному целый выговор учинил за пятно на сапогах], а шутки его становились до того невыносимо жестокими, что доводили многих дам до слез. Бывал и задумчив, впадая в какую-то меланхолию, которая обыкновенно заканчивалась распитием вина и обнаружением его где-то на конюшне в сене, где Плутон, пытался всеми силами расшевелить непутевого хозяина. А после все повторялось в иной последовательности. Лиза все тревожнее и тревожнее вглядывалась в знакомые черты старшего брата, все больше переставая его узнавать. Иногда он засыпал на ее коленях, словно маленький и покинутый всеми ребенок, бормоча что-то о том, чтобы она никуда не уходила. Видел ли он в ней сквозь нетрезвую пелену Наташу или может быть и правда просто не хотел быть в одиночестве? Окружил он себя людьми не менее склонными к такому разгульному веселью, что только ухудшало дело. С ними он мог на весь день ускакать черт знает куда, а после вернуться пошатываясь и распевая какие-то ужасные песни. Отец гневался все сильнее, грозился сослать куда подальше, а Лиза только заламывала руки беспомощно, неожиданно понимая, что дружба с такими людьми как Волконский куда больше шла ему на пользу. Но если уж на то пошло, ее брат видимо намеревался свою жизнь закончить черт пойми где.
Сны ей в следствии того снились крайне тревожные, в них Сашу действительно куда-то ссылали, он смотрел на нее из зеркала неожиданно страшными глазами и говорил, что он черт.
И вот, когда она только провалилась в сон, кто-то решил ее разбудить. И неужели же уже утро?
Лиза нехотя приоткрывает один глаз, ожидая увидеть перед лицом своим Марфу или же Варю, которая пришла помочь ее матери с головными болями. Но нет – в комнате все еще было темно, а значит стояла глубокая ночь. А вместо Марфы на нее спящую во все глаза смотрел Семен, который очевидно все это время и теребил ее за плечо, с которого бессовестно съехала ночная рубашка.
Пару секунд она смотрит на ночного гостя, словно думает, что он ей снится. Мальчики конечно может и были при ней ежечасно, но ночью в покои не заходили и уж тем более не подходили к спальне. Лиза смаргивает, подскакивает на кровати, а Бесстужев на всякий случай шарахнется на шаг назад и правильно сделает – иначе бы залепила ему оплеуху. Кто ж его знает сколько он около ее постели торчать изволил?
— Ты что здесь делаешь в такой час? — возмущенно шепчет Лиза, на всякий случай натягивая одеяло до подбородка и мрачно уставившись в честные Бесстужевские глаза.
— У меня срочное дело, цесаревна, — он словно бы оправдывается, вытягиваясь перед ней и всем своим видом показывая, что ничего дурного уж точно не хотел. Разве что краснеет.
— И какое срочное у тебя дело у моей кровати ночью? – ехидно спрашивает Лиза, облокачиваясь на подушки.
— Мы Его Высочество видели.
— Сашу? И ты поэтому пришел? – она хмурится, но мерзкий червячок уже поселится в душе. Если бы все было хорошо, не пришел бы Семен сюда. Наверняка что-то случилось. И что-то весьма нехорошее.
— Мы видели его в…одном трактире. «Ночная фиалка». Что за мостом… Один он там и, если честно, Ваше Высочество напился так, что идти никуда не может. Матвей с Пашей с ним остались, а я решил к вам пойти.
Лиза застонала, прикрывая глаза и судорожно раздумывая, что ей теперь с этой информацией делать. Оставить все как есть – никак нельзя. Мало ли что он дальше решит учинить? А коли все же после пойдет по Петербургу гулять, пошатываясь и песни распевать? Чтобы потом все только и судачили о наследнике-пропойце. А хуже того, если свалится куда и голову разобьет… А отцу уж точно об этом знать нельзя было – ведь и правда отошлет с глаз долой, а может снова отправит на границу. Нет, нельзя.
— Это ты правильно сделал, что сначала ко мне пришел, — кивает она, вскакивая с кровати. — Подай-ка мне вон ту юбку. Да живее! – деловито командует, намереваясь очевидно отправиться в какой-то далекий и не самый приличный трактир. Ловит удивленный взгляд и закатывает глаза. — Ну не оставлять же его там одного!
Как только переоденется в дорожное темное платье, не без помощи Семена [даром что ли в девицу переодевался], осторожно следует вон из покоев. Обернется, бросит подозрительный взгляд на пажа и сощурится.
— А сами-то вы что там делать изволили? Уж не то ли это место, где женщины… — по краснеющим ушам Семена выясняется, что она все же права. Качает головой. — И как не стыдно, право? – пряча улыбку за оскорбленным тоном заявляет.
— Да что вы, Елизавета Петровна, в конце концов это все Строганов с Богославским, а я бы никогда…
— Да полно, Семен, будто шуток не понимаешь.
Но таких он, пожалуй, не понимал.
***
В таких местах столицы Лиза никогда не была. А если бы попробовала бы попасть, то наверняка получила бы такую взбучку, что никогда бы вообще из дворца не вышла. Собственно говоря, в таких местах не была ни одна приличная девушка, а Лиза может быть впервые в жизни порадовалась тому, что рядом с ней идет кто-то с оружием.
Улицы здесь были нечищеными и узкими, из-за чего столпотворение людей оказывалось куда более обширным. Света почти нигде не наблюдалось, разве что из маленьких окошек покосившихся домов, из которых то и дело летела то ругань, то какие-то песни, содержание которых лучше забыть, как только услышишь. Из ободранных дверей на тебя вполне могли вылить из ведра дурно пахнущие помои, а может и выпнуть какого-нибудь пьянчужку, поэтому люди двигались строго по центру улочки, от чего непременно толкались и вновь ругались. Лотки торговцы отсюда к вечеру убирали и на улицы вываливали подвыпившие солдаты, приказные, работники с верфей, всех их объединял лишь запах дешевых наливок, которые подавались в местных кабаках.
Лиза не может не ощущать на себе пристальных взглядов, пока пробирается в столь добротном для здешнего люда платье вслед за Семеном. У кого взгляд оценивающий, у кого и вовсе весьма пошлый, но близко никто не подходит, словно чувствует, что себе дороже. Хотя нет-нет, но и присвистнет кто-то в спину, получая короткое предупреждение от Бесстужева о том, что дальнейшие «ухаживания» лучше не продолжать. Здешние люди были совсем не похожи на тех добродушных и простых людей в казармах или на параде, когда она могла позволить себе заявить, что «не съедят же они меня». Эти же не проявляли никакой радости от того, что ее видели, так что она старалась просто держаться поближе к Семену и едва ли не всхлипнула от облегчения, когда они, наконец, остановились у деревянной вывески с изображением улыбающейся девицы с фиолетовым цветком в волосах. Если по честности, Лиза готова была скрыться за любой дверью, из которой разливался свет просто чтобы покинуть неприютную грязную улицу и больше к ней не возвращаться. Интересно, как Сашу вообще здесь не ободрали как осинку, да и как он вообще здесь оказался?
Из дверей выходили двое пьяных и, друг друга поддерживая и ругая, взбирались на улицу. Распивочная находилась в подвальном этаже, из-за этого там было душно, и все до того было пропитано винным запахом, что от одного этого воздуха можно было в пять минут опьянеть. На лестнице, необыкновенно крутой и донельзя затоптанной, слышно, как много в кабаке народу, как буйно носятся половые и какой густой, горячий угар стоит повсюду; каких-то рыжих мужиков в тулупах обругивает какой-то очевидно отставной офицер. Казалось бы, какое мучение сидеть в этом чаду, в этой тесноте, среди бесконечных и непонятных разговоров и споров без всякой меры пьющих, закусывающих и пьянеющих людей! Сколько их кругом, этих мужиков, извозчиков, толстых купцов, худых барышников! Сколько красных, распаренных едой, водкой и духотой лиц, потных лбов, лохматых голов, густых бород, чуек, армяков, полушубков, тулупов, громадных сапог и тающих валенок, разводящих под табуретами целые лужи! Как везде натоптано, наплевано, как дико и нелепо орут за некоторыми столиками и как ошалели половые в белых штанах и рубахах, носясь туда и сюда со сковородками и блюдами в руках, с задранными головами, меж тем как спокоен только один высокий и худой старик, строгим и зорким командиром стоящий за стойкой!
Лиза в этом месте кажется совсем уж чужеродной и нелепой – словно экзотический цветок, который выбросили куда-то на свалку. Она старается не замечать всех тех взглядов, которые то и дело бросают на нее местные клиенты, не обращая внимания на своих спутниц, которые сидели то на деревянных грубосколоченных лавках, а кто и вовсе прямо на коленях у подвыпивших господ. Да, были здесь очевидно и люди известные, ведь иногда всем хочется опуститься со своего Олимпа на грешную землю? Лиза старается не замечать и их и скорее не из-за страха быть узнанной, а из-за чувства тошноты, когда бросала на них взгляд. Только выше поднимает голову, только сильнее выпрямляет спину, чтобы никому не показывать, что неприятно, страшно или же противно. Да и не это сейчас важно.
Она останавливается на нижней ступени лестницы, ведущий в общий зал, обводя его быстрым взглядом. Сашу она замечает мгновенно и глаза темнеют, темнеют до черноты возмущения, как только она видит состояние, в котором ее брат соизволил находиться. Паша с Матвеем замечают их сразу же – от них алкоголем не разит [а то уже начинала болеть голова], несколько помятые и растерянные, недовольно глянут на Семена.
— Ты с ума что ли сошел цесаревну сюда притащить? – шипит Строганов, в карих глазах которого поселится невероятное возмущение.
— А что делать? К императору в покои пойти? — огрызается Семен, но Лиза их почти не слушает, все ее внимание полностью приковано к, чувствующему себя очевидно прекрасно, брату.
Саша полулежал-полусидел за столом, подпирая голову рукой. Волосы его находились в сущем беспорядке, слиплись отвратительными прядями на лице, словно он опускал голову в разлившуюся на столе пивную лужу. Он был без камзола или мундира [благо офицерский сюда не додумался надеть – какой позор!], в одной белоснежной рубашке, с парой расстегнутых у воротника пуговицах. Он совершенно пьяно улыбался, не обращая внимания на женщину в наряде столь откровенном, что даже Лизе захотелось отвести глаза. Женщина же умудрялась сидеть на его коленях и что-то шептала тому на ухо. Саша пьяно смеялся, Лиза закипала медленно, но верно от праведного гнева. Ее подняли среди ночи, она отправилась туда, куда в своем уме бы ни за что не ступила, а он и правда сидит здесь в окружении черт знает насколько павших женщин и улыбается! Еле-еле подавив желание, вылить содержимое недопитой кружки ему на голову, Лиза подходит к его столу. Немигающе-тяжелым взглядом смотрит на его с п у т н и ц у.
— Ступай в о н, — раздельно проговаривает она, повторяя на всякий случай громче и повелительнее. — Вон пошла.
Девица захочет было заспорить, презрительно скривив хорошенький ротик, даже его открывает, но осекается, словно словив в зеленых глазах напротив такое выражение, которое заставило ее буквально что ретироваться прочь, испуганно оглядываясь назад, пискнув напоследок: «Как скажите, барышня». Лиза провожает ее до самого входа очевидно в помещении со съемными комнатами. Убедившись, что жрица эта больше не вернется, Лиза уставляется на Сашу, а потом недолго думая дает тому затрещину.
Он вздрагивает, сонно озираясь по сторонам.
— Чего…ик! Дерешься! – обиженно выпячивая нижнюю губу, осоловелыми глазами оглядывая помещение, словно впервые его видел. — А где же…Марта…Или Ида…или как там ее. Но ты не Марта? — на всякий случай уточняет он, прищуриваясь, видимо чтобы сфокусироваться на ее фигуре, а после хлопает в ладоши радостно, по-ребячьи вскрикивая.
— Аа, ты же Лизонька! Моя любимая! – недолго думая вскакивает, захватывая ее в медвежьи объятия, целуя в обе щеки. Лиза морщится от запаха алкоголя, которым от него разит и понимает, что мальчики не преувеличивали. Нет, скорее даже не договаривали.
Он наваливается на нее, а она пошатнется, на помощь подоспеют все те же пажи совместными усилиями усаживая Сашу обратно. На ногах он держался весьма посредственно.
— Ах, оставь, Саша! – досадливо трет щеку от следов таких пьяных поцелуев. Стайка пьянчужек поглядывает на них с любопытством, впрочем, близко подходить не собираются – мало ли что у господ за разборки. Может это невеста пошла высказывать возлюбленному о том, сколь низко опустился. А может и жена. Не их это дело – их дело пить больше, да наливать чаще. — Как не стыдно, право слово!
Саша икнет еще раз, посмотрит на нее, нахмурится и передернет плечами. Не стыдно, мол.
— Эй, любезный! – обращаясь к пробегающему половому. — а принесите-ка мне еще пива… И ничего мне…ик! Не стыдно! Мне может хорошо!
— Очень хорошо, на ногах не стоишь, — едко передразнивает она его, запрещая половому приносить хотя бы еще одну кружку спиртного.
Что с ним делать? Вести во дворец? Но он перебудит всех, учитывая что прямо сейчас начал распевать какую-то песню так, что уши начали вянуть. А перебудит, значит после будут разборки и снова она упиралась в то, что отец этого не простит, терпения у него в последнее время совсем ни на что не хватало. Оставить здесь? Но одного никак нельзя, а мальчиков он даже в пьяном состоянии слушать не станет – это они его обычно слушали. Отвести к Борису Федоровичу, он-то не выдаст, да только кто же ночью в чужой дом стучится и тоже как-то неловко.
Она хмурится от усилия, на лбу пролегли морщины. Только одна мысль в итоге крутится в голове, только один человек приходит на ум. Удивительно, что через секунду другую это и является для нее едва ли не самым правильным решением.
— Достаньте-ка мне бумаги и чернил. Черкну записочку, отвезете кому скажу. И быстрее, родные, пока он пол города своим пением не всполошил.
Даже коты на улице завыли.
Мой друг! Я прошу прощения, что беспокою Вас, но дело не терпит отлагательств. Я прошу Вас, приезжайте. Мой человек Вас проводит. Мы находимся в крайне затруднительном положении, вы и сами сможете в этом убедиться, как только увидите своими глазами. Я прошу Вас, умоляю, мне не к кому обратиться со столь деликатной просьбой! А я знаю, что не откажите. Приезжайте. Вы нужны нам. Мне.
Елизавета Р.
***
Она срывается со своего места к нему так, словно он действительно был ангелом. Ей даже показалось, что он светом окружен, как только вошел. Находиться в этом месте становилось все тяжелее и тяжелее, даже несмотря на то, что старичок у стойки оказался вполне милым, принес им воды и злобно зыркал на прочих постояльцев. Может, все дело в том, что они заплатили за все те увеселения, которым Саша здесь предавался, а может просто почувствовал, что эти господа не такие как прочие. И все же, приход кого-то знакомого, заставил гору свалиться с плеч. Лиза, отчего-то совершенно и не сомневалась, что он придет, как только отправляла Пашу с этой быстро написанной [впрочем таким красивым почерком как и всегда] запиской. Это же К и р и л л, в голове не укладывалось бы будь оно иначе. Он ведь и вправду д р у г – иных у Саши и нет. Иные, скорее всего его здесь и оставили, осознавая, что дело пахнет скверно.
Она все еще выглядит в этом месте совсем неправильно, чужеродно, останавливается перед ним, сама пошатнется от усталости сегодняшней ночи, с благодарностью принимая протянутую ей руку.
— Кирилл Андреевич, простите, право, что среди ночи беспокою вас таким, но что же с ним делать? – она кивает в сторону окончательно развеселившегося Саши. — Его нельзя такого домой. Батюшка грозился уже много раз, да и Наташа…нельзя ей этого видеть, она и без того как мертвая, словно смерти ждет! А я ничего лучше не придумала, как за вами послать! – она говорит быстро, поспешно, мотая головой, заглядывая в знакомые уже за это время глаза. — И стыдно перед вами, но что могу поделать…
Может, после того он тоже стал свидетелем всей этой истории, ей показалось, что он понимает лучше других, а значит стал ближе. Может быть оно и лишнее, но в конце концов он ведь когда-то сам сказал «добрые отношения». Странное дело – ей бы никогда и в голову не пришло ехать к какому-нибудь князю, с которым у нее не менее добрые отношения. Это совсем не то.
Она ни разу не называла его по имени или на «ты», хотя часто такое практиковала с иными друзьями или знакомыми. А тут как-то само собой получается, что всегда уважительное «Кирилл Андреевич», словно язык иначе не поворачивался.
Саша приподнимает голову, раскачиваясь точно маятник, приветственно взмахивает рукой, увидев знакомое лицо.
— О, Кирюша! Мой друг! Мой самый хороший друг! Ты вот знаешь…ик! Лиза! Какой он хороший человек? А я вот знаю! — побьет себя в грудь для верности. — Россию вот любит. Ему хорошо – он только ее и любит! А она его уж точно не отвергнет! Вот знаешь что… — он приподнимается, шатаясь доходит до Кирилла, расплескивая по пути всю ту кружку воды, которую пытались в него влить они до этого. Повисает у него на плече все одно что мешок. —…вот стану императором тебя повышу! Будешь как Борис Федорович. Мм? – заглядывает в серьезное лицо, а Лизе хочется сквозь землю провалиться, только бы этого не видеть. — Опять ты смотришь этими своими глазами…Д в о р я н и н, а Лиза? Чем не жених? Женитесь дети мои и будьте счастливы пока…ик! Я жив!
Лиза почти умоляюще посмотрит на Кирилла, на котором продолжал висеть, периодически сползая на пол Саша.
— Я подумала, не могли бы вы присмотреть за ним до утра…здесь, — заламывает умоляюще руки в перчатках [в таком месте их снимать совсем уж не хотелось]. Неловко даже просить его оставаться в таком месте, но что поделаешь. — Я спросила у Ефима, — кивнет на строгого деда. — он говорит комнаты у них тут есть отдельные…полагаю для… не важно, — крепко зажмурится. — только до утра, пока он не проспится. Его никак, никак нельзя домой и одного не оставишь! А утром я Бориса Федоровича попрошу к себе отвести, чтобы очухался… Сможете? Только до утра. Я бы и сама осталась, да не справимся мы. А ему кто-то рядом нужен, да и Вас он если что послушает! Я знаю, что послушает! – и в ее глазах загорается такая уверенность, что и не поспоришь.
Лизе и вправда отказывать невозможно. В этом ее непутевый брат был, все же, прав.
***
Саша пару раз съезжал по стене вниз, пока дверь отпирали, пару раз ругался, пока его втаскивали в затхлую комнату с кроватью, заправленную пошло-красным шелковым одеялом. В комнате тоже стоял винный чад, но не столь яркий, какой наблюдался в прочих комнатах. Здесь по крайней мере было тише и как-то спокойнее. Мальчики остались за дверью, пока Лиза тщетно пыталась уложить непокорную голову брата на жиденькую примятую подушку. Пару раз он порывался встать, мычал что-то совершенно уж невнятное, пока с него стаскивали сапоги.
Неожиданно ловко Саша вдруг ухватывает Кирилла за рукав, вглядываясь в лицо и качая головой, словно что-то вспомнил. Тычет пальцем, грозит.
— А ты ведь меня…спрашивал, а? Чего не признаешься? А вот я признался и что? И ничего. Не влюбляйся, Кирилл, не с м е й, не разрешаю. Это все пустое, чего недоброго сердце кому разобьешь. Или тебе его разобьют… — отпускает рукав, послушно опускаясь на подушки.
Лиза цокнет недовольно, борясь с желанием надавать ему тумаков, привести в чувство хоть немного, но ничего этого не делает, просто прикрывает это бренное тело этим пошлым покрывалом, а после обессиленно падает на деревянный стул, приставленный к кровати, чувствуя, что вот-вот сама здесь лишится чувств.
— Думаете… - Саша приоткрывает глаза устало, голос зазвучит чуть более трезво, чем до этого. —…я не знаю ничего. Это из-за меня все. Из-за меня за старика замуж пойдет. Не любил бы ее, не выдали бы ее насильно…отстал бы и жила бы себе спокойно. А может она всегда так и думала – что брошу, как отец. Может быть… — глаза его закрываются, а голос становится все более тихим и неразборчивым. Он шепчет еще что-то, но слов не разобрать.
Лиза вздрогнет, покачает головой, выкрикнет в сердцах на него, уже дремавшего:
— Дурак! Какой же дурак! Никогда она так не думала! Как же это все…несправедливо! – она встает со своего места, почти вскакивает, в глазах отчаянно светится зелеными фонариками обида. — Несправедливо, Кирилл Андреевич! Она ведь не хочет замуж – да только кто же спрашивать станет! Все думают, что девушки только и мечтают, что о счастливом браке, а у тебя может совсем иные мечты в голове! А если и замуж, то как же можно за того, за кого ни разу в глаза не видел! Никому и неинтересно, что там у тебя в твоей голове, да и может ли оно там быть! – она вглядывается в его лицо, словно ищет ответы на собственные вопросы, пытливо, пылающе, а после взгляд отводит. — И меня это ждет, просто жених еще знатнее и еще богаче будет… — горько, отчаянно горько. —…прицениваются, как подороже продать. За короля или все же за курфюрста? А я не хочу отсюда уезжать, я не смогу…Там даже птицы иначе петь станут, берез нет, родных нет… — заканчивает совсем уж тихо, словно затухает. — Если бы я только могла что-то изменить, то при мне все были бы счастливы! Всех бы счастливыми сделала! Но я родилась не сыном и даже не первым. А впрочем, пожалуй, это глупости… — встряхивается, неловко заводит руку за шею.
Саша спит и черт знает в каком состоянии проснется. Можно догадаться только что с ужасной головной болью и скверным дыханием. Может и с чувством жажды. Лиза подойдет снова к его кровати, погладит по спутанным от всех его ночных похождений волосам, ласково, по-матерински, а после снова обратится к их сегодняшнему спасителю. Уже и не помнит в который раз за их знакомство обхватывает своими руками его, вглядываясь в лицо:
— Кирилл Андреевич, я могу еще кое о чем вас попросить? Будьте ему другом. Вы его не бросайте, — кивнет на сопящего брата. — У него иных друзей нет. Он может только выглядит так, словно у него всегда все хорошо, а иной раз видите, как оно… х о р о ш о. А ему нужны такие друзья. Вы ведь хороший, Кирилл Андреевич, — взгляд смягчается. — Я однажды уеду, оставлю, так кто же рядом будет? Не спорьте, знаю, что хороший – кто бы еще на ночь глядя сюда приехал по первой просьбе? Будь иначе – вы бы давно всему свету растрепали, как в лесу меня увидели. Не удивляйтесь, у нас и такие есть, поэтому я знаю, о чем говорю.
И она отчего-то знает и верит, что так и будет. Не потому, что она просит – с чего бы собственно ему так поступать? А именно потому, что это о н, откопанный ее братом совершенно случайно, но кажется судьбоносно. Лиза благодарно улыбается, бросает прощальный взгляд на Сашу, прежде чем направиться к двери.
У выхода спросит тихо, скорее для ясности:
— Я ведь могу ожидать, что все это останется в тайне? – могла и не спрашивать, на болтуна он не поход. — Благодарю, — устало кивнет головой. — А если очнется и начнет возмущаться, можете его и ударить пару раз. Не повредит, — слабо сверкнет улыбка на губах, прежде чем за ней дверь закроется.
____________♠♠♠____________
Кричат огоньки из вчерашнего счастья,
Которым сегодня ты веришь отчасти,
Огонькам из вчерашнего счастья.
Прошла Страстная Седьмица, отпраздновали и Пасху. Стремительно наступала на Россию весна, окончательно захватывая в свои нежные руки парки и сады, поля и сердца людей, словно немного последние смягчая. Весной всегда больше свадеб, всегда больше крестин. Вырастают по дворцовым клумбам невиданной красоты цветы, деревья одеваются в нежную-нежную листву, которая отражается в глазах Лизы каждый раз, когда она выходит на прогулку с Караем, подросшим за зиму и теперь представляющим вид неуклюжего олененка, который едва научился ходить.
Саша после памятного случая в трактире больше таких безобразий не учинял. Лизе только гадать оставалось – было ли это следствием разговоров с Кирилла [или может быть того, что Волконский послушался ее совета и все же ударил несносного пару раз] или же он сам взял себя в руки. И пусть, это все еще был вовсе не тот Сашка, каким она всегда его помнила, словно внутри его что-то перегорело и потухло, но все же и не то его подобие, что всех по дворцу распугивало. Он перестал водиться с этими никчемными барчуками, соответственно и не было больше ночных вылазок. Да, он все еще бессовестно флиртовал с дамами, разбивая тем сердца, но никогда это не заходило дальше, он стремительно менял своих обожательниц все также часто, впрочем. Вел переписку с дочерью французского короля, а после бессовестно вычитывал им всем особенно интересные моменты их откровений. В общем-то их компания вновь вроде как восстановилась, но совсем не полностью. Ведь Наташи в ней не было. И не могло быть – будучи в статусе невесты как-то неприлично находиться в образе неженатых мужчин. Да и к тому же Лиза все еще видела, с какой болью каждый раз она провожала стройную фигуру ее брата. Саша же упорно не желал обращать на это внимание. Или делал вид.
Весной стало дышать чуть легче, особенно когда все окончательно позеленело. И Лизе, как и многим тоже хотелось любви. Пару раз они пересеклись с Иваном Дмитриевичем и долго-долго говорили обо всем на свете, а после он позволил себе поцеловать ее руку так, что сердце заходилось в сладостном трепете. Большего они себе не позволяли, к тому же казалось совершенно неправильным позволить себе быть счастливой, когда дорогие сердцу люди совершенно несчастны.
Саша много времени стал проводить с Кириллом, а в отсутствие оного на конюшнях, бесконечно ухаживая за Плутоном или же составляя пары для будущей «романовской» породы лошадей, как он однажды ей и сообщил [и к чему опять-таки привлек Волконского]. Вообще в последнее время эти двое казались ей до нельзя таинственными, Саша говорить, чем они занимаются в пристройке к императорским конюшням отказывался, лишь загадочно ухмыляясь, только распаляя ее интерес к новому предприятию, которое Саша кажется учинил.
***
Саша развернул легким, небрежным движением руки карту, смахнув предварительно стружку и пыль с простого деревянного стола. В первый раз, когда он притащил сюда ворчащего Волконского, он пошутил, что «да, конечно не канцлерский стол, но какие наши годы!». Карта, к слову, была отменнейшей. Он смог достать ее с помощью Дмитрия Павловича и теперь любовался точными рисунками, нанесенными на нее. Вот Россия, что занимает большую часть суши. Китайская империя, а вот моря омывающие ее. Даже течения опасные здесь были обозначены. Правда сказать, новое его увлечение в достаточной мере отвлекало от все еще нестерпимо-тупой боли в сердце. Когда он занимался им, то по крайней мере, мог забыться. Да и было оно явно полезнее, чем тоже самое вино, которое эффект производило тот же самый.
Когда он впервые привел сюда своего друга, он не торопился ничего ему объяснять. Прошелся по давно стоящему бесхозным помещению, пнул ногой пару ведер, поцокал языком, прикидывая где бы расположить тут письменный стол, только потом соизволив наконец объясниться.
«Ну, зато будем помнить как начинали. Рассказывать детям станешь, что судьбу России в сарае около конюшен строить стал».
А после рассказал о своих планах.
«Однажды все равно становиться Императором. Страна большая – дел много. Вот я и задумался, что могу хорошего для нее сделать. А для этого мне хорошие люди нужны. Это все конечно только планы, мечты, но мне нужен на них трезвый взгляд. Ну что скажешь? Будешь первым в моей лейб-компании».
Такое название он придумал их предприятию, в котором пока было их только двое. С головой, со всей нерастраченной страстью ринулся цесаревич в этот омут и не обходилось ни одного дня, чтобы они о чем-нибудь не спорили. Саша злился, настаивал, грозился, а потом соглашался, да и в конце концов спорить ему даже нравилось, сразу было ясно, что результат будет отменным. Волконский умел упираться рогами, поэтому ожидать, что он согласится с той или иной мыслью просто потому, что спорит с наследником не приходилось.
Вот и сейчас, склонившись над картой, Саша упирался как только мог, тыча пальцем в архипелаг, а после возбужденно расхаживая по сараю с видом крайней непримиримым.
— А я тебе говорю, что с другой стороны надо будет заходить. Выход к Черному морю нам очень нужен, это конечно! Батюшка у турок в свое время Азовское отбил, но Черное – это важнее! Выйдем в Черное – там и Средиземное. Только я предлагаю начать с суши, а не моря – потому что как только мы туда сунемся, тут тебе подоспеют англичане, а у них флот помощнее будет. Офицер ты или нет? – сердито интересуется Саша. — И раздавят тебя в этих проливах, как какую-нибудь щепку! У них Азов и Таганрог не укрепленные, мне доносили, да и вообще сейчас османский лев притих, у них свои проблемы, — Саша отбрасывает светло-русые пряди с глаз, вздыхает. — О Франции можно и не беспокоиться, потому что… — резко замолкает, хмурится и не продолжает эту тему.
Потому что? Потому что женишься? Обретешься союзника? Уже решил?
Знает, что Волконский смотрит и еще лучше знает, что мысли его читает, поэтому поспешно и крайне для себя неуклюже меняет тему.
— Корабли нужны другие строить. А для этого деньги нужны. И моя вторая затея, — шуршит забористо исписанными бумажками. Все, что они делают и вправду пока только далекие мечты двух молодых людей и не более того. Но возможно однажды и вправду сбудутся. — Ликвидировать внутренние торговые пошлины в стране. Первыми в Европе. А что? Я подсчитал, благо обучен, что нам они только боком выходят. Да, рискованно, конечно, кто-то скажет, что казна, мол, много потерять может от отмены сборов. У нас этих таможен тысячи, да только по моим подсчетам, от освобожденной торговли мы куда больше получать станем, а значит и флот будет на что строить и гвардию снаряжать. Не смей зевать, Кирилл! – весело присвистнет, как только заметит, что все эти цифры, в отличие от обсуждений батальных сражений вводят товарища в зевоту. Сашу, конечно, тоже, он бы лучше прямо сейчас куда-нибудь ринулся, на какую-нибудь войну.
О войне с турками они тоже спорили. Нужна или нет государству очередная война, но в итоге согласились, что нужна.
Саша постоит над картой еще немного.
Пожмет плечами.
— А может и прав ты и морем оно лучше будет по началу.
Вдалеке послышится чистый девичий смех и Саша вдруг снова вспомнит, как называл случайное созвездие в честь той, которая уже летом, совсем скоро должна будет выйти замуж. Он мрачнеет совершенно незаметно, как ему кажется, вглядываясь в распахнутую для весеннего ветра дверь. Он старается как может. Старается не думать, отпустить, не учинять ей еще больших проблем своим вниманием, чем уже успел. В ушах навсегда застрянет ее голос: «А я не смогу т а к! Не смогу вашей женой быть!», надсадно давит на грудь все та же печаль, которую теперь остается перекрывать делами, разговорами и шутками. Но, как только один остается, снова накатывает. Запускает пятерню в волосы, путает, встряхивает.
— Не спрашивай, Кирилл Андреич, — грустно качает головой. — Вот женюсь на француженке, придется тебе учить его. А то ишь, тяжело ему с произношением. Лизу заставлю тебя выучить. Ж е н а ведь будет. А все что было… - глаза тускнеют. —…было вчера. А вчера – это захлопнутые двери.
А, в общем и целом, конечно, не веришь,
Вчера - это значит, захлопнуты двери.
Но завтра - оно без вчера не настанет,
***
Он сидит в своих покоях, из настежь окна распахнутого льется свет уходящего вечернего солнца. Золотит русые пряди, прыткими солнечными зайчиками скачет по страницам какого-то трактата по стратегии военной, но чтение никак не идет. Слишком хорошо там, снаружи, где поют птицы на озеленившихся деревьях и где-то вдалеке водят хороводы девушки в венках. Саша откидывается на спинку стула, устало прикрывая рукой глаза, балансируя между дремой и бодрствованием, откладывая в сторону опостылевшую книгу, которая столь непонятным языком написана, что даже он едва едва что-то понимал. Ветерок весенний ерошит волосы, путает письма, бумаги, собственные дневниковые записи. Но дело не идёт, не идёт совершенно. Вытягивает вперёд длинные ноги, решая немного хотя бы поспать для разнообразия, а потом может и вернуться к нудной книжице. По крайней мере это все одно лучше, чем постоянно мыслями возвращаться к н е й.
Приоткроет глаза на лёгкий шорох платья и решит, что уже заснул. Или начал видеть миражи, как путник в пустыни, которому неизменно оазисы мерещатся. Он смотрит на нее, окружённую мягким солнечным светом, смотрит на нее в этом нежно-голубом платье [очевидно в одном из многих свадебных подарков] и не может поверить своим глазам. Она стоит в дверях комнаты, такая же прекрасная как весна за окнами, а он не двигается, словно если совершит хотя бы одно лишнее движение, то спугнет дивное видение, то она улетит, растает, а он снова останется… один. Но сколько бы он не смотрел на нее чудное создание не исчезало, продолжая стоять на своем месте вглядываясь в его лицо словно спрашивая разрешения. Да, учитывая то, что он тогда наговорил, пожалуй ей есть чего опасаться.
— Наташа?... — на всякий случай окликает он ее, чтобы убедиться в том, что ему не мерещится. И хочет было дернуться к ней, но все еще боится. Боится, что это все ему мерещится. А как же сладостен такой самообман! А может его останавливает простое слово «обручена».
Но тут, она сама рванется к нему быстрой птицей, падая рядом с его стулом на колени, обхватывая руками колени, прижимаясь щеками к ним и передёргиваясь всем телом. И в первые секунды он сидит совершенно молча и неподвижно, словно громом пораженный, впрочем это замешательство не протянется слишком долго. Словно спадает что-то удерживающее в эту минуту, что до сих пор не позволяло вернуть все на свои места. Саша мягко обхватывает ее за плечи, заставляя подняться с колен [кого угодно он мог видеть на коленях подле себя кроме нее]. Слезы на ее лице, таком бледном и неожиданно измученном [когда появились эти круги под глазами темными тенями пролегшие?...] для него видеть все еще невыносимо. А она продолжает трястись мелко-мелко, ухватываясь за его руки, стягивая плотную ткань камзола, словно он был единственной тростинкой за которую следовало держаться.
— Саша, Саша милый, я думала, что смогу, смогу т а к, а я не смогла! И не смогу. Это все ложь, все неправда, что я сказала. Как же я могу… тебя не любить? Как же это возможно, конечно люблю! – она шепчет это быстро, отчаянно в его губы, а он, удерживая ее чтобы не упала, аккуратно оставляя сидеть на своих коленях. Голубое платье небесной волной рассыпается по полу.
— Посмотри на меня, посмотри, — мягко но требовательно просит он. Она подчиняется, а он удерживает ее за подбородок. Такая хрупкая, такая его. Его Наташа. — откажись от этого договора, каким бы он ни был, слышишь? — умоляюще просит, убирая спутанные волосы-паутинки с ее лица. — я ведь знаю, что он был, не отпирайся. Если я тому цена, то умоляю откажись! Не выходи замуж, не надо, не надо…
Он целует ее, мягко, нежно, едва-едва касаясь лица, а после и она отвечает, тянет вниз сюртук в каком-то трагичном неистовстве момента. И он, сам себе не веря, перехватывает руку, тянувшуюся к пуговице рубашки. «А хорошую выдержку вы воспитали а себе, Александр Петрович». Она ведь так и не ответила.
Не ответила.
И не ответит.
— Знаю, дурак, буду жалеть об этом до конца жизни, — отвечая на ее непонимающий, такой грустный и трепетный взгляд. — Но так нельзя, Наташа и в сама об этом знаешь.
— Нет. Не знаю, хотя бы один раз побыть счастливой, хотя бы глоточек счастья.
Он грустно качает головой, прижимается лбом к ее лбу.
— Это не счастье сейчас Наташа вовсе. Это отчаянье. Этот момент, о котором ты будешь потом жалеть. А я мог бы тебе дать счастье настоящее и совсем не жалкий миг, неужели ты не понимаешь? Неужели не понимаешь, что мне одного такого мига с тобой недостаточно! Мне вся жизнь нужна!
Она вздрагивает, вскрикивает раненой птицей, закрывает лицо руками, ускользая от него так поспешно, словно боялась что он станет преследовать. Но он не станет. И ветер донесет до него тихое: «Только на венчание не приходите, Ваше Высочество».
И исчезнет, словно ее и не было вовсе. А он так и останется сидеть в своей комнате с распахнутым окном и разбитым на мелкие кусочки сердцем.
Лиза распахивает дверь, ведущую в комнату брата, вбегая в нее так быстро, что заставляет того вздрогнуть и выронить чернильницу из рук. Отвратительное фиолетово-черное пятно мигом расплывется по ковру, между прочим весьма ценному, но ей все равно. Она переступает через эту лужу, подходит к Саше, который уже намеревается возмутиться и выпаливает, задыхаясь от бега [она пробежала не мало от подъездной дороги до его комнаты].
— Саша, ее увезли! Я только карету и видела! Увезли насильно ведь Саша!
Он мгновенно серьезнеет, хватает ее за плечи пытливо в глаза всматриваясь. Она переводит дух.
— Кого? Нет, знаю кого. Куда? – она чувствует как искры начинают витать от него к ней. Все сильнее и сильнее Саша гневается. — Только летом венчание ведь!
— Наташу! Не знаю куда, но пожалуй что на свадьбу, Саша! Увозят в загородное имение какое-нибудь, а там и замуж отдадут! Ты обязан что-то сделать, я долго молчала, но так нельзя! А если не поедешь я одна поскачу!
— Ну вот что, — он выпрямляется, отпускает ее плечи. В его душе, что отражается на лице, кажется пролетит столько мучительных мыслей, сомнений и терзаний, что на миг захлестнут. А потом, вдруг, покажется, словно он отпустил что-то. И она впервые за многое время увидела в нем своего Сашку. Своего старшего брата, а не слишком хорошо выполненную копию. — никуда ты не поскачешь. Это я тут Александр – дурак мне и разбираться. Но только подкрепление позову.
Лиза усмехнется, сверкнёт лукаво глазами зелёными.
— Ну, ты может и дурак, но поскачу я с тобой.
***
Пустит камешек. Один. Второй. Третий. Этак он перебудит всю офицерскую казарму, а вовсе не одного единственного Волконского. Оставалось надеяться, что хотя бы окно правильно угадал, а то чего недобро высунется красная рожа Горохова. Но нет, слава богу, на его отчаянные попытки добудиться среди ночи [снова] лицо Кирилла, сном помятое, высовывается из окна. Саша приветственно взмахнет рукой, словно так и надо.
— Эй, Кирилл Андреевич! Одевайся и на выход! Дело можно сказать государственной важности!
На немой вопрос касательно того, как он сюда попал, пожимает плечами.
— Через стену перелез. Это предприятие тайное, знаешь ли.
Словно только и делает каждый божий день, что через стены прыгает. Да и вообще это для цесаревичей обычное занятие.
Плутон нетерпеливо фырчит прямо около стены, бьёт копытом, гнет изящную шею. Саша легко вскочит на него, передавая повод лошади варварски с конюшни уведенной Кириллу. Рядом фыркнет серая Серебрянка.
— Поедем спасать мою любовь, Кирилл Андреевич. Сам видишь дело важное – спасение моего сердца! А ты… - он обращается к Лизе, которая снимает капюшон плаща, снова переодевшаяся в мужской костюм. — А тебя я с собой не звал. Будешь отставать – брошу на тракте. — это конечно угроза пустая. Если что ее на этом же тракте подберёт Кирилл.
Она весело хохочет, цокая лошади языком.
— Словно мне нужно чье-то разрешение! – весело сверкнёт глазами. — Это вы господа будете за мной гнаться! Так что, пожалуй что догоняйте! – лошадь пришпоривает первой и исчезает в весеннем ночном полумраке.
Поделиться112024-05-20 20:42:25
Барабанная дробь пробивается сквозь стёкла окон. Барабанная дробь будит столицу. Вспархивает стайка пугливых воробьёв, прежде плещущихся в лужице. Широко зевает долговязый мальчишка-денщик и конюха прислужник по совместительству, снова заснувший на сене. Из конюшен тянется точно ворчливое, недовольное ржание. Мальчишка протрёт глаза и поплетётся в конюшню, дабы от старшего конюха за опоздание не схлопотать подзатыльника. Указ свыше: лошади кавалеристов повинны быть накормлены, напоены, вычищены и причёсаны. День грядёт поистине особенный, великий. Гвардия будет ослепительно блистать, как один из драгоценнейших камней в короне Великого Императора. Быть может, уже тогда гвардейцы почуяли важность свою, впрочем, не осмеливаясь дерзнуть, заглядывая в будущее. Единственное, на что могли они отваживаться: обругивать сонными голосами человека, которому выпало удовольствие потешаться над остальными. Офицер бодро марширует вдоль череды окон, нарочито, а барабанная дробь продолжает звучать не иначе как родной мелодией. На губах вот-вот заиграет победоносная улыбка.
— Ей-богу, я этого Сафонова придушу! — раздаётся один голос, а следом десятки других разгневанных. Суматоха начинается внутри. Офицеры отрывают головы от подушек, подскакивают с кроватей как по сигналу тревоги. — Опять? Опять он на полчаса раньше за свой барабан взялся? Убью! — и прочие угрозы сыплются в адрес высокого, больно тощего и на вид, аристократичного Сафонова, мечтой которого вовсе не военная служба была, а должно быть, игра на барабанах. Ему бы марши сочинять да плодить книгами собственную библиотеку. Сафонова, впрочем, всем полком ненавидят, потому что подъём объявляет раньше положенного. Гвардейцы подрываются с красными от усталости и недосыпа глазами, готовые ринуться в очередной бой. А ведь, закончился бой. Домой, наконец, воротились. Никаких поблажек ни от командования, ни от Сафонова: плевать хотели на то, что добрая половина преображенцев полгода сна не знала. Заскрипят беспощадно половицы, разнесётся по всей казарме топот, поднимется гул раздосадованных голосов. Одни выходят на улицу, чтобы умыться, а быть может, чтобы проучить Сафонова, ибо мочи более нет; другие просыпаются с мыслью о том, что день великий предстоит и первым делом бросаются начищать сабли да проверять на исправность пистоли. Пять минут назад спящая в неподвижной синеве казарма оживает, а вместе с тем, полки будят Петербург. В разных его закутках да на площадях звучат парадные марши, звучат сигналы к подъёму, лишь подтверждая тем самым, что столица — город военный. Заржут и лошади в конюшнях, забьют копытами, словно чувствуя собственную важность. Украшение кавалерийского полка, видное отличие, каким не располагали другие. Они поистине, самые гордые среди гвардейцев.
Кирилл дёргает плечом, постоянно отбрасывая чью-то надоедливую руку. Барабаны ему нипочём. Водит щекой по удивительно мягкой подушке, — после камней и брёвен подушки в казармах кажутся весьма мягкими, мягче самих перьев. Рука настойчивее теребит за плечо, над ухом кто-то нависает и что-то говорит то ли тихо, то ли громко. Не разобрать. Голос звучит отдалённо, точно за несколько вёрст. Он чуть ли не последний, кто до сих пор в постели валяется, а говоря честно, крепко спит и даже посапывает. Вокруг кровати собираются офицеры, ещё растрёпанные, неприбранные, однако крайне возбуждённые любопытством. Еремей шустро смекает, что никакие вежливые способы не сработают, ежели не подействовала музыка самого Сафонова, который от избытка радости продолжает посреди двора настукивать преображенский марш. Кирилл отмахивается от звуков как от назойливых мух.
— Императорский дворец горит! — выкрикивает Еремей тревожно, как если бы взаправду горел. Стоит отметить, юноша смекалистый, за три года неприступного сослуживца умудрился недурно изучить. Кирилл Андреевич не отличался дружелюбием, пусть и оставался неизменно вежливым, всепрощающим, почти святым, как поговаривали гвардейцы. Однако же, ни одного не назовёт своим другом. Известно только то, что друзья его служат в других полках, и на столь несправедливое распределение Кирилл Андреевич обиду держит. Новые друзья ему будто и не нужны. Еремей довольно улыбается.
— Всем построиться! — невольно вырывается громким, командующим голосом, когда отрывается от подушки. Столь часто он заменял вечно хворающего поручика, что командовать выучился раньше времени. Осматривает полузакрытыми глазами собравшихся вокруг, замечает сквозь лёгкую пелену сна довольные лица и подозрительные улыбки. Они будто в ожидании застыли. Постепенно просыпающий рассудок подсказывает, что никакой дворец вместе с царской семьёй не горит. А за какой-то год сие место стало более чем в а ж н ы м, более чем олицетворение долго каждого, кто присягал на верность. Кирилл тихо выдыхает, нахмуривает брови, ничего хорошего взглядом не суля. Таких, как он, бояться надобно, — получит повышение, всех строить будет похлеще Сафонова. — Ты дурак что ли? — обращается к Еремею, который усаживается на край кровати.
— Не гневайтесь, Кирилл Андреич. Подъём ведь уже, — качнёт головой в сторону окна, откуда слышится теперь более тихий звук барабана и ржание лошадей. Кириллу может быть и становится стыдно, однако не собирается сменять грозное выражение лица на мягкое. — Расскажите нам, а.
— Чего тебе рассказать? — при всём уважении он едва ли мог обращаться к сослуживцам уважительно, когда те, по невиданной причине, звали исключительно на “вы”. Осматривает всех собравшихся. Видимо, послушать какие-то рассказы хотят в с е. Ни одной догадки не проскакивает в голове, будто ничего примечательного в его жизни не случилось. Разумеется, он может рассказать о военном походе, — это единственное, о чём следует сегодня рассказывать.
— Бросьте, вы же видели её! — воскликнет Еремей восторженно. Кирилл только отодвигается назад, недовольный посягательством на личное пространство и личную постель.
— Кого? Её? Что вам приснилось, господа? — продолжает недоумённо упрямиться.
— Царскую дочь! Не отмахивайтесь, Кирилл Андреич. Птичка нашептала, что видели вас во дворце в тот самый счастливый день. Знакомец наш караулил тогда. Расскажите же, какая она. Говорят, она красивее богини, — глаза его горят неподдельным любопытством, юношеским восторгом, словно от рассказов Кирилла предстанет перед ними царская дочь во всей красе. Предстанет, разве что в фантазиях.
Кирилл наконец-то понимает: слухами взаправду земля полнится. Шустро его сослуживцы прознали о новых знакомствах, а сие не к добру. Любое достижение станет восприниматься подарком, благосклонностью. Не видать ни честной службы, ни доброй славы. Разве поверит кто-то в его чистые намерения отказываться от любого проявления покровительства? Быть может, до нарисованный картины ещё далеко и ситуация не столь мрачна, однако Кирилл не собирается выжидать, когда опасения сбудутся. Задирает подбородок, поджимает губы и смотрит холодновато, напрочь отказываясь приветствовать их восторг. Молча выбирается из постели, игнорируя следящий взгляд Еремея. Молча натягивает сапоги.
— Нечего здесь рассказывать. Не в моих правилах слухи распускать, как девица, ей-богу. Стыдно, господа, — посмотрит на них осуждающе, забрасывая на плечо чистое полотенце. Под его что ни на есть армейскими шагами заскрипят половицы жалобно, а сослуживцы будут глядеть вслед и хлопать глазами. “Да разве мы спросили чего стыдного?” — заговорит кто-то, пожимая плечами. “Суровый наш Кирилл Андреич, идём собираться”, — подхватит другой, похлопывая по плечу. Они разбредаются постепенно по своим углам, что Кирилл замечает, заглядывая украдкой в окно с улицы. Пронесётся в голове мысль: помягче следует быть. Отмахивается, зачерпывая из деревянной бочки холодной воды. Честной службы не построишь на мягкости с болтливыми людьми. “А почему болтливые? Будто ты их знаешь”, — отвечает внутренний голос, а быть может, голос с о в е с т и. Никого он здесь толком не знает благодаря своей неприступности. Мотает головой, споласкивает лицо, а вода ледяная. Рассеивается дымка, парящая над двором. Неспешно светлеет синее небо, делаясь тёмно-голубым. Запоёт надрывисто-сипло петух. Бог знает откуда неподалёку петух взялся. Сбежал с рынка, не иначе. Кирилл задумывается над ответом. Какая она? Опускает взгляд на свою раскрытую ладонь, потерявшую сладкий аромат розы, зато сохранившую нежность чужой руки. Она, несомненно, богиня. Этим всё сказано.
Кирилл старательно перед зеркальцем зачёсывает волосы, послушно ложащиеся. Завязывает отглаженный шейный платок белоснежный, прежде успев повоевать за один-единственный увесистый утюг, который почитать можно за орудие убийства. Благо, обошлось без травм. Осторожно косится на сослуживцев, которые, впрочем, отвечают взаимностью. Также к о с я т с я. Надевает камзол, машинально золоченные пуговицы застёгивая. Каждое движение выражает отчаянную уверенность в себе и недовольство слишком любопытными. Надев со всей решительностью наконец кафтан, перекидывает через плечо тёмно-синий платок и резко оборачивается, дабы убедиться в том, что каждый занят тем, чем положено. А положено всем гвардейцам построиться во внутреннем дворе для получения дальнейших распоряжений. К своему счастью, они тем и заняты. Взгляд замирает вдруг на книге, которая покоится на деревянной тумбочке подле кровати. Рядом стоит подсвечник с расплавленной свечой, — гореть ей осталось недолго. На Волконского вечно бранятся за свечи, мол не накупишься. Читает он действительно много и долго ночами, не боясь ни караульных, ни ругани за переведённые свечи. Протягивает руку невольно к книге и открывает на последней прочитанной странице. Строки буквально вобрали в себя лёгкий, бархатно-сладкий аромат засыхающей розы. Проводит осторожно пальцем по нежным лепесткам, взглядом задевает случайную фразу: “надежда украшает нам жизнь.” И впрямь, украшает. Впрочем, очень скоро книга захлопнется и будет отложена на своё место, зажав меж страницами р о з у. Кирилл с небывалой решительностью надевает треуголку, полностью готовый к тому, чтобы достойно встретить день победы.
***
Ликование разносилось повсюду. Барабанные дроби ранним утром — лишь жалкая репетиция, вовсе пустой звук в сравнении с подготовленным великолепием. Торжественные шествия, залпы, ликующие возгласы, — всё слилось воедино. Всё славило Императора и победу. Они неразделимы. Кирилл вытянулся на своём месте струной, ни разу не дрогнув за время, которое предстояло провести в нерушимом строю. Разве что оглушительные залпы, вызывающие только внутреннее благоговение, порой путались со свежими воспоминаниями. Пушки гремят как гремят салюты. Перед глазами разноцветные искры рассыпаются, а чуть погодя, возникает совсем непрошенный, незваный образ. Волконский начинает чуть ли не буквальную борьбу со своим воображением и удачливой памятью, что за удачу вовсе не почитает. Негоже думать о чужих руках, об их мягкости и нежности, когда пушки салютуют кораблями героям столь долгой войны, какую выпала им честь, завершить. Батюшка, должно быть, радуется и плачет в одночасье. Воспоминания о родных, которые наверняка в имении отпразднуют победу, постепенно отгоняют наваждение. Он пытается вытянуться пуще прежнего, словно недостаточно п р я м о стоит, с недостаточной выправкой для офицера. У него, впрочем, всё “недостаточно”. По строю несётся ветерком шёпот, оповещающий о близости самого императора. Кто-то умудряется сообщить, что подле него цесаревна, только Кирилл верить не торопится. Иначе недавно прогремевшие выстрелы снова напомнят о том, что вовсе не должно сидеть в его голове. Им, должно быть, почудилось, привиделось от сильного любопытства и желания лицезреть божественную красоту. Волконский, как положено любому бравому офицеру, смотрит перед собой застывшим, серьёзным взглядом, даже не думая крутить головой. Восторги солдатские, впрочем, подсказывают что слухи могут оказаться правдой. Вскоре эта правда предстаёт перед ним во всём великолепии. Появляется сам Пётр Алексеевич, его болезненно выглядящее лицо, заставляющее затревожиться. Неужто хворает? Неужто сильно? Впрочем, взгляд, не выражающий каких-либо эмоций, метнётся к лицу Саши. Удовлетворение мешается с благодарностью. Саша виду не подаёт, помогая развеять слухи да сплетни среди сослуживцев. Надолго ли? А после, бессовестно застынет на лице, которое не ожидал увидеть, и не увидел сразу, так как она пряталась за отцовским плечом. Несколько секунд кажутся вечностью. И впрямь, цесаревна з д е с ь. Только величественный голос напоминает, что перед государем стоит и смотреть следует в сторону горизонта, а не лица царственных особ рассматривать.
— Ваше Величество, — склоняет низко голову, после чего вытягивается во весь рост. — Так точно, Ваше Величество, Кирилл Андреевич Волконский, — чеканит офицерским тоном, какой у него лучше всего получался. Друзья шутят, мол стихи Волконскому тоже пристало читать тоном армейским. — Батюшка в добром здравии. Благодарю что помните о нём, Ваше Величество, — сердце на мгновение сожмётся. По родным тосковать, — один из его пороков, всё же. Не выдерживает, взгляд переводит в сторону лица напротив. Снова голову склоняет, как бы соглашаясь с тем, что отец хорошо служил, и подтверждая то, что скорее погибнет, чем посрамит отцовское наследие. Однако же, стоит слуху словить одно словечко и взгляд невольно метнётся к Саше. П о д в и г и. Оба развеивают всю важность момента. Особенно цесаревна, на которую гвардейцы любуются с особым умилением и любопытством. Время неудачное для разборок даже безмолвных, сводящихся ко взглядам говорящим. Кирилл возвращается вниманием к Петру Алексеевичу и внимательно прислушивается к его голосу. Награждений каких-либо никак не ожидал Волконский, убеждённый в том, что никаких подвигов не совершил. Впрочем, стоит поинтересоваться, какие поступки он принимает за подвиги. Наверняка, верную смерть.
— Премного благодарен, Ваше Величество! — вновь почтительный поклон. Награду он, разумеется, принимает. Наградой в глубине души гордится. Шпага — полезный подарок, с помощью которого и дальше сможет служить своему отечеству. Не безделушка. Когда император продвигается вдоль строя на некоторое расстояние, кто-то поблизости толкает локтем в бок.
— Будет что рассказать внукам, а? — подмигивает офицер.
— Никогда. Внуки об этом сами должны узнать, уж точно не от меня, — категорично мотнёт головой, просовывая в ножны на поясе боевую шпагу.
***
Кирилл оборачивается на голос точно из своего сна. Сон хотелось напрочь забыть и навечно запомнить. Душа металась, а похолодевший разум приказал — забыть. Однако, снова перед ним удивительно зелёные глаза, в которых вечное лето иль поздняя весна, зима — никогда. Изумрудные ковры на полянах да полях, также выстланные перед берегом залива, малахитовые лесные рощи и кустарники, — это вечное лето для него; это лето в глазах напротив, только лето, которое он любит нежно и всем сердцем, ведь с летом связаны самые милые душе воспоминания. Бросает взгляд через плечо, на генерал-адъютанта своего, в сторону которого и направлялся. Дмитрий Яковлевич, заметив столь высокого положения особу, несмотря на ожидаемые возражения, кивает головой и удаляется. Кирилл снова мечется в душе: ему бы последовать за командиром и не оставаться здесь, играя в опасную игру. Проиграешь и все непременно узнают, все непременно заявят, что не способности, а расположение нужных людей — причина его успехов. Пожалуй, один Волконский на весь Петербург пытается скрыть связь со столь именитой фамилией. А с иной стороны, остаться очень хочется. Дмитрия Яковлевича вовсе след простыл, как и знакомых сослуживцев. Он вновь смотрит на Елизавету Петровну, не успевая толком ответа дать. Право слово, невозможно ей отказать в чём-либо, как и невозможно в полной мере желать вернуться в казармы, лишь бы не быть замеченным. Нет, ему совершенно не хочется уходить.
— Верно, Елизавета Петровна, — он улыбается, соглашаясь с Сашей, — зато у меня есть шпага. Куда уж вам до меня! — произносит играючи и театрально вскидывает руку. — Но в следующий раз я постараюсь встать первым в строю, — тронутый её искренностью, смотрит с теплотой в глазах, кажется вобравших в себя голубизну неба. Шутки привычные в этот момент пролетают мимо его внимания, словно нехватка цветов — самое важное, о чём они могли говорить. Покачивается, когда от неожиданности на плечо сваливается тяжесть руки, смотрит на Сашу внимательно. Его подмигивания только с толку сбивают, ведь несколько минут назад Елизавета Петровна просила пойти с ней на пристань. Пока Кирилл озадаченно осмысливает слова Саши об эдаком хорошем месте, случается баталия, не иначе. Не сразу смекает, что выигрыш — он сам. Легко поддаётся, переваливаясь на сторону цесаревны, наклоняет чуть голову, — из-за разницы в росте порой приходится, чтобы слышать лучше и зрительный контакт более прямым, близким сделать. Перед ним возникает само очарование, сносящее то ли с ног, то ли голову. Очаровывающая улыбка на красивом лице, — волшебство. Приходится признать, что сей взгляд молящий и женское обаяние, — сильное оружие, и противостоять этим явлениям ни один, даже самый сильный мужчина, не сможет. Он бы куда угодно последовал за ней.
— Ну, разумеется, Елизавета Петровна. Показывайте скорее, — вновь улыбается и поднимает взгляд на Сашу, улыбаться не переставая. — У вас так не получится, Александр Петрович. Не обращайте на него внимания, цесаревна, — произносит почти серьёзно, невзначай накрывает своей ладонью в перчатке руку Елизаветы. Кирилл своего неподдельного интереса не скрывает, занимая её сторону и всем видом это выказывая.
Поистине, перед ними предстало чудо. Один поразительно отличающийся цвет делает корабль чудом. Остальные кажутся обыкновенными, даже скучными, ничем не примечательными. Корабли для него представляли особый интерес хотя бы потому, что с ними связано детство и отцовская служба. Кое-какие чертежи были найдены маленьким Кириллом в ящиках, кое-какие истории были рассказаны батюшкой. Ведь, море неразрывно связано с Берёзовым, родным домом. Улыбка трогательная касается губ, чего он даже не замечает, рассматривая белоснежный, волшебно сияющий фрегат. На палубе царит суматоха, пусть не столь привычная как возня в казармах иль конюшне, зато непременно напоминающая об отцовских рассказах и прочитанных книгах. Вопреки сдержанности друга, Кирилл смотрит с нескрываемым восхищением. Разве что улыбаться он действительно не привык. Сие исправить могла Елизавета, от вида которой губы то и дело растягиваются, а глаза сияют. Быть может, улыбаться научит.
— Неужто думаешь, что с тобой соглашусь? — отвечает на вопрос Саши, после чего направляется к Елизавете. — Истинное чудо, цесаревна! — наблюдает неотрывно за ней. Отчего же столь приятно видеть её радость? Улыбка и смех завоёвывают его сердце бесповоротно. Кажется, словно она создана для того, чтобы купаться в солнечных лучах и блистать на весь свет. Назвать бы в её честь все корабли флота. Он останавливается рядом с ней, прислушиваясь к голосу. Сердце отзывается не только на улыбку и смех; отзывается охотно на открывшиеся мечты, которыми она делится столь искренне. От многих ли девиц услышишь, что мечтают они выйти в море на собственном корабле и путешествовать по далёким странам. Кирилл слышит впервые. Не замужество, не полный дом детей, а корабли и море. Ч у д о. Зачарованный, не успевает спохватиться, послушно следует за ней, поднимаясь по мосту поскрипывающему.
Кирилл продолжает не менее очарованно наблюдать и слушать, снова не замечая собственной улыбки. Ненароком можно влюбиться. Матушка всегда говорила, что человек своим делом должен пылать. Человек в общем-то должен пылать, что-то любить, — такие люди особенные. Елизавета Петровна тоже особенная. Его душа тоже пылает, пылает интересом, искренним и чистым. Ему вдруг интересно каждое слово, каждый взгляд и каждый взмах руки. Интересны мечты, казалось бы, чужие, но по ощущению — свои, родные. Мальчишкой он любил смело мечтать, чему научила всё та же матушка со своими дивными рассказами. Елизавета на фоне голубого моря совершенно очаровательная. Картина неповторимая. Засматривается. Ветер озорно играет с волосами, которые солнце золотит, а глаза переливаются гранями янтарными. Голубое море позади разбавляется будто медной краской, стекающей с неба. Блаженство для поэта иль художника. Приговор для офицера, чьё сердце пропускает гулкий удар.
— Нет, вовсе нет! — вырывается. Невольно делает несколько шагов в сторону Елизаветы, оказываясь ближе. Внимательно всматривается в её лицо, замечая задумчивость, сменившую беспечность и радость. Непреодолимое желание переубедить и между тем, совершенно искреннее. Утешать лишь утешения ради Кирилл никогда не умел, да и не стал бы этого делать с ней. — Негоже вам за такое прощения просить, а уж тем более, у меня. Я бы пошёл, — говорит со всей серьёзностью, даже головой кивая и тоже всерьёз, — ведь дело это вы любите. У такого капитана быть в команде почитаю за счастье. Ваши мечты, цесаревна, глупостями быть не могут. Я бы очень хотел, чтобы они сбылись, — от столь душевного заверения меж бровями пролегает складка, а губы трогает слабая улыбка. Пусть кто-то назовёт их парочкой мечтающий глупцов, только Кирилл никогда не согласится. Человек без мечт, желаний и стремлений всё одно что мёртв. Иначе, жить зачем?
Кирилл качает головой, спускаясь следом за Елизаветой Петровной. Саша порой невыносим. А потом завязывается очередная битва. Кирилл как и завсегда, втянут против собственной воли. Однако же, мальчишеских забав ему не достаёт и втайне радуется, что серьёзность стряхнуть с лица можно. Не желая Саше уступать вопреки всему, становится на защиту цесаревны и крайне усердно начинает вылепливать увесистые снежки из грязного снега. Внутри клокочет от чувства свободы и дыхания полной грудью, от радости и беззаботности, от смеха троих, сливающегося воедино. Плащ и кафтан пачкаются влажной землёй и тающим снегом. Впрочем, изрядно испачкались все участники грязно-снежной баталии. Треуголка слетает с головы, вовсе подхватываемая ветром. Кирилл хохочет от души. Стихает, когда слышит её голос и столь любопытное замечание касательно вьющихся от влаги, волос. Слишком уж близко она оказывается. Слишком уж приятное ощущение чьих-то пальцев в волосах. Он вовсе замирает, оказываясь в опасном положении быть пойманным врасплох. Более слов не слышит, лишь запоздало озадаченно начинает раздумывать, о каких мальчиках шла речь. Отмахивается спешно, впрочем. Его пленяет взгляд напротив, потемневшие зелёные глаза, походящие на цвет залива в вечернее время. Она становится ещё более очаровательной в столь непосредственном виде со съехавшей на бок шляпкой. Так не должна выглядеть цесаревна. А она выглядит как никогда красиво. Кирилл ничего сказать не успевает, даже осмыслить, впрочем. Отчего же? Если бы кто-то ему нашептал, подсказал, что рядом с ней будет улыбаться ч а щ е.
Кирилл по природе своей немногословен. Однако, начинает вдруг глупо улыбаться, когда рядом оказывается Саша. Едва ли ему нужно, чтобы кто-то полюбил. Едва ли. Тот, кто должен — полюбит. Судьба милостиво распорядиться, только они об этом не ведают.
— Простите, цесаревна, — извиняется за Сашу, и за то, что столь невежливо он отсылает сестру домой. — Спасибо что показали своё чудо. Не сомневайтесь, этот фрегат назван в вашу честь.
Ведь, Елизавета Петровна — звезда русская. Любой подтвердит. Он будет смотреть вслед и глупо улыбаться, будто успел стакан-другой вина выпить. А после весело потрясёт Сашу за плечи, забудет треуголку на грязном снегу и разумеется, вернётся за ней, потому что лишних средств на новую не водится. Как нельзя вовремя Сашино хорошее место. Вина и впрямь хотелось выпить.
***
Кирилл совершал не одну попытку покинуть царевича покои, становясь голосом разума, заявляющем о слишком позднем времени. Час вытекал в другой, третий, — далее могла бы следовать бесконечность. Волконский мужественно отвергал графин с вином, вторя о ранней службе, также о том, что никто не похвалит за поздний подъём и растрёпанный вид. В его чашке плескался разве что травяной чай, а на блюдце красовалось пирожное. Саша гордо заявил, что сей вид пирожных — любимый у Лизы. Саша много чего заявлял, рассказывал, не замолкая и запрещая себя перебивать, разумеется. Любой взгляд Кирилла в сторону двери пресекался то угрозами, то обидами на то, что он вовсе не слушает. Волконский же подсчитывал сколько часов осталось до барабанной дроби, будящей весь полк. Ведь не заявишь Дмитрию Яковлевичу о том, что ночь провёл в императорском дворце. Лучше уж сразу смерть принять. Однако же, не побег из покоев Саши был самым сложным предприятием, а побег из д в о р ц а. Не столь часто бывал он здесь, чтобы в потёмках отыскать долгожданный выход. Признаться, заблудился бесповоротно Кирилл Андреевич. Бесконечные тёмные коридоры, залитые разве что полосками лунного света, — луна нынче полная. Портреты самых разных величественных особ будто живые, глядят неодобряюще, путь не подсказывают из вредности и презрения. Заблудился, так ведь, не твоё место здесь. Не должно тебе здесь быть. То и дело натыкается на двери, которые раскрыть боязно: а если наткнётся на фрейлину какую иль хуже того, императрицу? Кирилл оглядывается с безнадёжностью и потерянностью в глазах, проклинает мысленно Сашку, давая слово дворянина более не появляться в этом проклятом месте. Голова то болью пронзается, то кружится. Невыносимо хочется спать, хоть укладывайся на ковре, наверняка привезённым из дальней Персии. Он бы продолжал бессмысленное стеная в душе, болтаться по огромному, будто вымершему дворцу, если бы не услышал шорох и не заприметил приоткрытую дверь. Плевать, кто бродит здесь ещё посреди ночи, главное дорогу к выходу укажет. Кирилл на всё согласен, лишь бы выбраться и не схлопотать наказание от командира наутро. Слышится (чудится ли?) голос будто бы знакомый, что окончательно осторожности и разума лишает, заставляя податься вперёд и открыть дверь.
В комнате темнота царит. Лишь лунный свет вливается тонкими полосками, да крохотный огонёк на фитиле подрагивает. Впрочем, свет свеч столь слабый, что Кириллу приходится прищуриться, присмотреться. Видит женскую фигурку совсем хрупкую в белоснежной сорочке. Набираясь решительности, делает несколько шагов к ней, не задумываясь ни над тем, что здесь делает о н а, ни над видом точно призрачным. Ведомый лишь одним желанием: вырваться из дворца. Скорее бы! Девица, очень скоро оказавшаяся Елизаветой Петровной, вскрикивает, заставляя самого Кирилла дрогнуть от неожиданности. Свеча вовсе падает на пол, и он спешит её поднять, дабы слова Еремея недавние не стали пророческими, сгорит ведь, императорский дворец. Когда опасность минует, подбегает ближе и хватает за плечи, наблюдая Елизавету Петровну в столь странном состоянии.
— Елизавета Петровна, вы слышите меня? С вами всё в порядке? — пытается заглянуть в её лицо, но видимость слишком уж скверная, да и глаза она закрыла. Чем занималась цесаревна в этой комнате, Волконский не думал, не успел задуматься, да и едва ли задумается. Его ли дело? Она, кажется, успокаивается, а он продолжает сжимать плечи. Всматривается в раскрытые глаза.
— Елизавета Петровна... — словно бы отвечает на её вежливое обращение. Из рук она вырывается. Кирилл отшагивает назад, вдруг понимая, что позволил себе лишнего. Не надо было за плечи хватать. Не надо было сегодня во дворец являться. Невольно осматривает цесаревну и куда более невольно краснеет, осознавая, что она в одной сорочке да укрытая платком, — уж теперь его сия подробность беспокоит. Не столь страшны распущенные плавными волнами волосы, напротив, волосы красивого цвета, даже в лунном свете имеют медовый оттенок; страшнее то, что глаза очертания фигуры запомнили. А игривое лунное сияние эти грациозно-женственные очертания лишь деликатно вычертил. Кирилл резко отворачивается, нервно сглатывает, не зная каким образом реагировать на вполне справедливые девичьи возмущения.
— Елизавета Петровна, я... я и вправду заблудился, — заявляет честно, потирая от неловкости и выступившего жара, шею. — Я... я не хотел вас напугать, право слово. Простите, — поворачивается, стараясь смотреть исключительно в глаза. — Так вы...
Кирилл от мистических занятий слишком далёк, однако смекает что мог явиться в самый неподходящий момент не иначе как в облике черта. Когда-то Катенька ему поведала, будто суженного видела в зеркале, и больно суженный на самого Кирилла походил. Тогда же он и понял на всю свою жизнь, что в гадания и всяческие суеверия не верит. Несмотря на искреннее неверие готов просить прощения за то, что столь варварским способом п о м е ш а л. А впрочем, таково было распоряжение судьбы. Более ничего не успевает сказать. Медленно плывут его мысли и медленно слова складываются в предложения, особенно в ситуациях столь смущающих. Теперь же рот вовсе надёжно закрыт чужой ладонью, а он только глазами хлопает, снова погруженный в омут озадаченности и потерянности. Несмотря на сие, принимает происходящее как должное. Ни одной недоброй мысли касательно Елизаветы Петровны не проскользнуло в его сознании, где сейчас происходят деятельные процессы. Остаётся лишь покорно последовать за ней, ведь в том, чтоб не поймали заинтересован не меньше. Любой промах обернуть может в прах его только начавшуюся службу отечеству. Не бывать этому. Более того, как порядочному дворянину, стоит призадуматься о чести женщины. Стать причиной дурного мнения о ней, — непозволительно. Оказавшись в укрытии, хотелось думать, что надёжном, за плотной шторой, опускает взгляд и понимает почти с ужасом, сколь невелико между ними расстояние. Выбор невелик. Он кивает головой, соглашаясь переждать в тесном положении. Они становятся союзниками, которые заинтересованы в благополучии друг друга и собственном. Не более.
Осторожно поправляет платок, вновь схлынувший с её плеч. Бог знает, чем ведомый, когда позволяет руке подняться и невзначай коснуться чужой кожи. Будто бы правила приличия и чести требовали сие совершить. Лицо сохраняет непроницаемую серьёзность. “Не смотри, не опускай глаз”, — подсказывает голос разума, однако Кирилл разума своего не слушает, заставляя того умолкнуть. Встречается с волшебными глазами и замирает, даже дышит совершенно беззвучно. Смотрит серьёзно-проникновенно, смотрит и растворяется в зелени, перемешанной с перламутром. Негоже ему, всего лишь офицеру, засматриваться. Негоже и думать даже о глазах напротив. Он собственный устав за уставом нарушает, словно бы мечтающий однажды получить самое суровое наказание. Он думает о ней: разная, совсем разная, то беззаботно-радостная, то умилительно-возмущённая, то упоительно-мечтающая, а теперь красивая и словно бы зачарованная. Ему интересно, отчего же так смотрит? Самому бы спросить себя: отчего так смотришь? Эти глаза напротив подарят однажды кому-то счастье, потому что иначе они не могут. Кирилл больше смотреть не может. Пределы существуют даже у взглядов. Задирает чуть голову, глядя в окно, на полную луну, точно жемчужину, выброшенную ночью на чёрный берег. Старается прислушаться к голосам, никак не ожидая услышать з н а к о м ы е. Саша должен был остаться в кровати и спать, а не бродить по дворцу. Брови чуть нахмуриваются от сосредоточенности. Не теряется, не позволяет себе, даже когда чувствует тяжесть на груди. Только голову выше задирает, разглядывая теперь потолок. Рука безвольно поднимается и ложится на её спину, будто без поддержки Елизавета Петровна непременно потеряет равновесие. Он чувствует ладонью тепло кожи сквозь мягкую, тонкую ткань, — забыть бы об этом т о ж е.
— Похоже... — отрывается от разглядываний потолка и отвечает тихим шёпотом. В иной раз Кирилл, разумеется, забеспокоился, ведь подслушивать непорядочно, особенно друзей. Сегодня ночь напустила тумана в его голову, а быть может, причина в том, что за шторой д р у г. Тревога возникает не за порядочное поведение, а за неясные интонации, за действо, походящее на драматичное. Ведь он давно осознал для себя: благополучие друга — не последнее дело.
***
Желание бежать прочь из дворца улетучилось мигом, стоило только осмыслить невольно подслушанную беседу. Кирилл не предполагал, сколь несчастной может быть судьба человека, в руках которого, казалось бы, окажется в л а с т ь. Более того, не ведал, что его друг может быть таким, говорящим надтреснутым голосом, жалобным и умоляющим. Постигать величину чужих несчастий и несчастной жизни внутри золоченой “клетки” ему только предстоит. Начало довольно не радостное. Бесчестно соврёт, если скажет, что сердце не сжимается от боли. Больно хорошо прочувствовал чужую (чужую ли?) драму. Но, вероятно, он последний, кто способен помочь. Наблюдает то за цесаревной, мечущейся из одной стороны в другую, то на дверь взгляды бросает, удерживаясь от желания отыскать Сашу и может быть, хорошенько всыпать. Разве можно таким тоном говорить с любимой? Впрочем, не Волконскому судить. Ничего ответить на прозвучавшие вопросы не может. Замуж, — дело обычное, но стоит признать, слишком неожиданное. Елизавета Петровна преображается на глазах, тем самым удивляя. Уж она более полезна, чем он, нисколько не разбирающийся ни в дворцовой жизни, ни в делах сердечных настолько, чтобы выказывать соображения вслух. Только и ждёт, когда услышит какое-нибудь поручение, — то, что неизменно хорошо исполнять удаётся. Они звучат властным голосом, вызывающем в душе разве что уважение.
— Как скажете, цесаревна, — склоняет голову, наблюдая за тем, как стремительно она отдаляется и вовсе исчезает за дверью. Не менее удивительно то, что отыскать путь обратно к дружеским покоям труда не составило. На ходу ему приходилось выдумывать причину, по которой до сих пор не в казармах, лишь бы не выдать о чём теперь знает.
***
На фитиле дрожит пламени язычок, расплавленный воск обжигает палец. Морщится. Собственная фигура отражается в окне. В столь позднее время бродить по казармам способен только Волконский. Сослуживцы его спят крепко, не иначе как богатыри русские, которых разбудит разве что касание ласковых солнечных лучей. Снова извелась свеча, пришлось обшарить ящик Еремея и весьма успешно. Бросить до следующего вечера книгу недочитанную он, разумеется, не может. Наблюдает задумчиво за виляющим огоньком жёлто-оранжевым. Прикрывает ладонью, чувствуя обжигающий жар. Безобидный на первый взгляд, а ведь, обожжет и вовсе сожжёт дотла. Так и стоит перед кроватью с подсвечником в руке, завороженный огоньком и нерадостными думами.
Брось ты это, Сашка! Себе только хуже делаешь. Для чего?
Посол французский обидится, ежели его вина не испробую. А ты тоже попробуй!
Кирилл невольно вздыхает, словно на плечах всю тяжесть мира несёт. Качает головой, гонит прочь мысли и поднимает взгляд на окно. За окном, впрочем, темнота кромешная. Ему почудилось движение, послышался скрежет, быть может, вовсе мышиный. Мышь здесь полно. Любимая потеха у гвардейцев — мышей ловить да отстреливать, не иначе. Подходит ближе к окну, присматривается и вздрагивает от неожиданности, когда в тускло-оранжевом свете проступает лицо мелкого Федьки. Машет руками, усердно рассказывает что-то, а голос сквозь стекло едва пробивается, точно сквозь толщу воды. Кирилл отмахивается рукой, отставляет на подоконник подсвечник, и всё же, выходит во двор. Поправляет наброшенный спешно кафтан на плечах. Улица встречает холодным ветром и незнакомым лицом, выглядящим недурно. Одно наличие лошади заявляет о важности положения, и разумеется, мундир.
— Да вот, Кирилл Андреич, требуют вас. Я их отослать пытался, ни в какую! Упёрлись как ослы, — болтает Федька, зыркая на кудрявого юношу, и твёрдо занимая сторону Волконского. Долго он убеждал господина в том, что никому не поздоровится ежели гвардейцев по ночам тревожить. Впрочем, вставать на сторону Волконского — всегда неблагодарное дело.
— А ты почему здесь в такое время? Ещё раз увижу, высекут тебя, Федька, — одного взгляда достаточно, чтобы Федька сорвался с места и растворился где-то в стороне конюшни. — Что у вас, любезный? — впрочем, в голосе ни единого следа любезности. По всей видимости, юноше невтерпёж что-то сообщить. Кирилл догадываться даже не мог, пусть вид представительный и вселяет неясную тревогу. Откуда, если не из дворца мог прискакать молодец в мундире? Глупости. Быть может, из любого полка, которых полно в Петербурге. Подходит ближе торопливо, протягивает руку с письмом, всем видом показывая сколь не терпит дело отлагательств.
— Срочное сообщение для вас от...
“Совсем как у моих мальчиков!” — звенит в голове её голос. Засматривается на его кудрявую шевелюру. Теперь Кирилл делает шаг вперёд и вырывает из руки письмо, иль скорее записку, не позволив договорить. Сам п о н я л. Отходит в сторону, спешно распечатывая. Возле собственного окна, откуда льётся желтоватый свет, пробегается глазами по строчкам, выведенным изящно, но, по всей вероятности, в спешке. Сердцебиение учащается с каждым словом, от чего уши закладывает. Напрочь забывая о мальчишке-посыльном, срывается и засовывая записку в карман штанов на ходу, скрывается за дверью. Он непременно был готов запрыгнуть на лошадь даже в растрёпанном виде, но ума хватило спешно одеться. Не даром командир муштрует чуть ли не каждое утро, заставляя одеваться за самое короткое время.
— Почему вы стоите, любезный? Едем немедленно! — бросает негодующе в сторону всё ещё незнакомого юноши, искренне не понимая почему тот до сих пор не в седле. Командовать — у него в крови, пусть даже совершенно незнакомыми людьми, находящимися в подчинении у более важных особ. Виной тому и содержание записки, всколыхнувшее и перевернувшее душу точно ураган. Он и сам не понимает, по какой причине. Быть может, взыграла неизменная преданность царской фамилии. Быть может, на роду написано служить и защищать всеми доступными и недоступными способами. Днём и ночью. Быть может, небезразличие и другими поводами оправдывается, о которых сам Волконский не ведает. Из темноты он вырывается в седле, нетерпеливо подгоняя лошадь.
***
Едва ли Кирилл заходит, скорее влетает в заведение, название которого не заприметил, бесцеремонно расталкивая всех, кто находится около скрипящей двери. Наверняка следующий за ним кудрявый юноша проклинает десятый иль пятидесятый раз. Взглядом взволнованным отчаянно ищет Елизавету Петровну и вскоре находит, потому что не заметить её среди всяческого петербуржского сброда невозможно. Лишь увидя её фигуру и лицо, полностью осознаёт сколь не гармонирует она, русская звезда, со столь низким окружением и обилием грязи. В этом притоне, как и во всех других, чадно, дымно и вонь дурная от дешёвого пойла да потных, немытых тел. Он временно не замечает взглядов самых разных, от изучающих до пошлых. Женщины с румяными чересчур щеками и алыми губами услужить только рады. Кирилл же подбегает к Елизавете, не замечая того, что оба друг к другу б е ж а л и. Судьба-злодейка заприметила, не иначе. Она всё ещё походит на жемчужину, выброшенную в помойку. Единственное желание, заполняющее душу: увести отсюда Елизавету Петровну.
— Елизавета Петровна... — он задыхается от скачки по тёмному Петербургу, от волнения и небывалой спешки. — Что... что случилось? Вы... — мигом подставляет руку, готовый подхватить и удержать; взглядом внимательным осматривает её, вероятно в стремлении убедиться в том, что она цела и невредима. А сердце глупое колотится. — Не извиняйтесь, прошу вас. Вы же знаете, я всегда и в любое время к вашим услугам, — и внимательный взгляд ускользает от лица цесаревны, останавливается на фигуре знакомой, фигуре нынче весёлой. Тревога постепенно тускнеет на лице, проступает серьёзностью и леденящий холод. Снова нахлынут воспоминания.
Ты же себя этим вином погубишь. Тебе жить нужно, Саша. Ты нам нужен, слышишь? Не выход: с девицами развлекаться и слуг отчитывать по пустякам.
Не твоё дело! Сам знаю, где выход. А не пойти ли тебе к черту, Кирилл Андреевич? На выход!
Я-то пойду, и с радостью. Но больно мне видеть тебя таким. Больно. И жалко.
Они не встречались с того неприятного разговора, когда Кириллу смелости хватило бутыль из рук Саши выхватить. А впрочем, духу хватило и голос поднять на самого наследника трона российского. Саша переменился странным образом: узнаваем и неузнаваем в одночасье. Кое-что от Саши осталось, но зачастую перед Кириллом представал совсем другой, чужой человек. “Я не с таким дружбу заводил. С таким никогда бы и не завёл”, — неизменно правдиво сообщил он, нисколько не боясь за последствия. Больше всего боялся за друга, повлиять на которого никак не мог. Упрямство и неуклонное следование каким-то принципам не позволяло взглянуть на ситуацию и самого Сашу иначе. Словно, иных вариантов кроме нравоучений не существует в природе. Кириллу стыдно. Друзья так не поступают, а посему гнев Саши вполне праведный, оправданный. Подбрасывает ли судьба шанс всё исправить? На подмогу приходит голос цесаревны, выводящий из глубокой задумчивости.
— Бросьте, Елизавета Петровна, мне стыдно не меньше, — последнее бросает совсем тихо, направляясь в сторону Саши. Не стань Кирилл выказывать свою дурацкую праведность, могло и этого не случиться. Подходит ближе, однако расстояние сохраняет, глядя неизменно серьёзными глазами. На вид никакого раскаяния, а в душе огонь пылает. Не пристало цесаревичу обретаться в столь низких кругах и затхлых местах. До сих пор больно смотреть. Только стыдно, бесконечно стыдно за себя. Саша может быть, позабыл всё благодаря чудодейственной дряни, которая пьянит здорово. Казалось бы, только на руку, да только делается ещё паршивее внутри. “Никакой не хороший”, — искренне протестует всё существо. Продолжает следить взглядом серьёзно-внимательным. Сашу приходится подхватить, придержать рукой, дабы не свалился на пол. Выслушать остаётся только молча. Наговорились однажды, повторения не хочется. Беседы вести разве что с трезвым, да и прощения просить тоже. Болтовню пьяную, разумеется, игнорирует, отворачиваясь от разящей спиртной вони. Волконский вот-вот самого себя на дуэль пригласит, обвиняя в том, что имел участие в доведении наследника (и друга) со столь скверного состояния. Переводит взгляд на Лизу, судорожно соображая дальнейшие действия. Он мог предложить лишь отчий дом, до которого вёрст немало. Задумка не самая удачная. Плохо быть всего лишь офицером в столице без родных и собственной квартиры. Предложение дельное высказывает Елизавета и Кирилл спешит согласиться. Трудно вообразить его отказ. Отказ заведомо невозможен. Продолжает поддерживать Сашу, однако смотрит на н е ё.
— Конечно. Другого выхода у нас и нет. Не беспокойтесь, цесаревна, мне это не в тягость. А вам находится здесь, — мельком осматривается, замечая неподобающие взгляды в её сторону, — не стоит. Вам бы поскорее вернуться во дворец, — ибо сердце его разорвётся от вида обоих в столь ужасном месте с не менее жутким названием. Одно понимание того, что ей известны подробности жизни публичных заведений и предназначение здешних комнат, повергает в смятение. Так быть не должно.
***
Воздух в комнате не менее удушающий, разбавленный запахом увядающих в вазе алых роз. Прискорбное зрелище. Кирилл помогает затащить Сашу в комнату, упрямо игнорируя любые попытки вырваться и буянить по пьяни, — это святое для каждого напившегося русского. Перед тем, как переступить порог комнаты, словил на себе три взгляда. Всего лишь три, а сколько в них разнообразных эмоций. От подозрения до немого недовольства. Должно быть, мальчишки состоят на службе у цесаревны. Только, не подумал Кирилл о том, что его появление равно посягательству на территорию сугубо их ответственности. Впрочем, их взгляды его и не взволновали нисколько. Один из троих особо выразительно глядел. Кирилл же помышляет лишь о том, как бы поскорее уложить Сашу в кровать и заставить спать. Не дай боже вздумает болтать оставшуюся половину ночи. Кирилл отчего-то замирает, наклоняется чуть, глядя с прежней серьёзностью в помутневшие голубые глаза. Господь Бог один знает, что Саша с наставлениями запозднился. Кирилл же убеждён, что и без дружеских советов в ближайшем будущем не угодит в любовную ловушку. Не бывать этому. Слабо усмехается, качая головой и выпрямляет спину.
Вспоминает Наталью Алексеевну и сердце сжимается. Любовь и впрямь коварная, жестокая, беспощадная. Усмешка легкая и та сползает с губ, уголки ниже опускаются. Кирилл смотрит на Елизавету Петровну, казалось бы, взглядом, который до сих пор ничего не выражает. Только складка меж бровей пролегает и глаза внимательными становятся, всматривающимися с особенной силой. Ради пылающих зелёных глаз напротив, и пытливости в них, и впрямь чего только не сделаешь. Были бы ответы, непременно ответил. Душу разрывает от беспомощности, от безысходности, в которой оказались небезразличные ему люди. Вообразить невозможно, что значит — без свободы остаться, не иметь права выбора. Он, как и в прошлую их беседу, невольно делает шаг к ней и становится ближе.
— Не могут ваши слова глупостью быть, — произносит голосом уверяющим, почти уговаривающим. — Мне очень жаль... Наталья Алексеевна — человек хороший. Я уверен, вашего брата она... любит, — замолкает ненадолго, раздумывая. — Жизнь наша непредсказуема, — бросает взгляд на Сашу, который благо, засыпает, убаюкав себя своим же сбивчивым шёпотом. — Ежели вы так родной край любите, может, и не отпустит он вас вовсе. А то, что мечтаете вы, только честь вам делает, — он снова серьёзно-искренний. Не смог привычно промолчать, не отозваться на горькое отчаянье. Взгляд продолжит самовольно следовать за ней, а после от прикосновений (стоило бы свыкнуться) сердце встрепыхнётся и захочется безотрывно глядеть в глаза напротив. Слова её навевают очередные обрывки ушедших дней, за которые вновь и вновь стыдно. Бесконечно стыдно.
И не возвращайся никогда!
Обещаю вам, Ваше Высочество.
Ступай-ступай! Друг называется. Друзья так не поступают, слышишь!
Кирилл смотрит на неё внимательно. Должен о друге думать, о просьбе, а как назло, забрезжит в сознании фраза “я однажды уеду”. Не побороть чувство, будто такого быть не может. Не представить Россию без Елизаветы Петровны, не представить без собственной З в е з д ы. Он не понимает по какой причине так тревожится. Мало ли принцесс покинуло Россию? Каждая исполняет так или иначе миссию во благо отечества. Каждый брак что-то да приносил державе: будь то связи, удачные договорённости, укрепление трона российского. Но вообразить, что её однажды не станет вдруг немыслимо. Ещё немного и попросит не уезжать, будто она в силах предотвратить сие. Сам же сказал, жизнь непредсказуема. Медленно кивает головой в знак заверения.
— Для вашего с Александром Петровичем благополучия я сделаю всё, что смогу. Не сомневайтесь. И другом буду. Даю вам своё слово, Елизавета Петровна.
Кирилл слабо улыбается и взглядом провожает. Отныне он намерен исправить каждую допущенную ошибку. А это лишнее подтверждение тому, что не отступится от Саши. Наплевать даже на любителей посудачить да сплетни распустить, — пущай пускают, пущай болтают что расположение двигает по службе его, Волконского. Только бы Саша более не появлялся в местах, подобных этому.
— Разумеется, цесаревна, — сквозь серьёзность пробивается лёгкое удивление. — Благодарю за позволение, — улыбается в ответ. Скорее он сам предпочтёт быть ударенным.
***
На пороге комнаты Кирилл перехватывает деревянный поднос и бросив предупреждающий взгляд, скрывается за дверью. Пухлый казачок поморгает вытаращенными глазами, прежде чем пожать плечами и отправиться прибираться в “Ночной фиалке” после буйной ночи. Рассвет случился словно не только за окнами, но и в голове Волконского — не должны лишние глаза видеть Сашу, достаточно и прошлой ночи, и прошлых дней, когда его наблюдали в непристойном обществе. Пусть от дурной репутации не отмыться столь легко, его долг отныне Сашу беречь и любопытных слать куда подальше. Воздух в комнате посвежел. Окно, которое похоже заржавело, удалось распахнуть, а от прислуги потребовать пару тазов с холодной водой, дабы наполнить комнату влагой. Свежий воздух, может быть, и попахивает конным навозом да сеном, — тем лучше для пробуждения. Бог знает от чего такая заботливость, словно сделался собственной матушкой, которая точно знала, как действовать, когда Кирилл впервые с друзьями напился. Напиться — святое для каждого русского молодца, а потому она не гневалась. Протерев влажной тканью Сашин лоб, Кирилл морщится, воображая со сколь сильной головной болью тот начнёт вскоре просыпаться. Ожидания оправдываются, когда первым делом, открыв глаза, Саша опускает руку на свою голову. Вероятно, его начинает мучить один единственный, верный вопрос: где я? И быт может: кто я? Кирилл не медлит. Спешно наполняет стакан небезызвестным рассолом с запахом кислых огурцов, чеснока и фенхеля, какой стал частью армейского провианта благодаря Петру Алексеевичу.
— Чем скорее, тем лучше, — протягивает стакан, наблюдая за тем, как Саша усаживается на кровати. Проследив за его взглядом, качает головой. — Нет-нет, не я привёл тебя сюда. Уж если бы и выбирал место, то получше этого, — усаживается на стул перед кроватью. Нескольких часов, проведённых во сне, пока подбирал спиной кровать сидя на полу, словно бы хватило.
— Я должен извиниться, тоже чем скорее, тем лучше, — не собирается дожидаться, когда полегчает. Саша и морщится, и кривится, усиленно стараясь понять, что происходит. Рассол слишком кислый, слишком солёный. Кирилл привстаёт со стула, дабы подать стакан воды. — Я прошу прощения за каждое слово. Это было глупо, — серьёзен несмотря на всю неуместность, иль поспешность. Забирает стакан из Сашиных рук, останавливаясь на пару секунд и глядя в лицо неизменно серьёзно. — И обещание своё выполнять не стану. Ты мой друг, Саша. Так будет всегда, — произносит тоном, не терпящим возражений, крайне убедительно. На мгновенье зазвенит её голос в голове. Но вовсе не потому, что о н а попросила, а потому, что сам этого желал. — Только в следующий раз позови меня с собой, когда решишь напиться чёрт знает где, в объятьях чёрт знает кого. Ещё рассольчику?
Похоже, сам Кирилл — спасение от головной боли, да и причина т о ж е. Саша несколько минут на него смотрел, продолжая упорно ничего не понимать до того, что боль чуть стихла. А потом принял руку Кирилла, дабы рукопожатием закрепить перемирие. Быть может, он осознаёт всё позже, главное другое. Главное, что недоразумения были устранены.
***
Кириллу на радость, нашёл Саша новое увлечение. Бог с ним, с Кириллом, на радость всей России, которая не лишится здравомыслящего наследника. Он принял сие увлечение охотно, однако со всей серьёзностью, так как дело того требовало. Строить будущее и будущую державу, — это не в бирюльки играть. Посему постоянно Кирилл спорил, стоило только найтись хотя бы одному расхождению во мнениях. “Раз уж позвал, учитывай”, — ворчал он, глядя темнеющими глазами исподлобья. Саше стоит должное отдать, ведь учитывал, пусть и не уступал сразу. Словесные баталии могли длиться часами. Кириллу баталии приходилось по вкусу. Рассуждать о строении великой страны, — не счастье ли высшей степени. Вот и снова они встретились в месте, далёком от роскоши и удобств, как положено месту, где берёт своё начало нечто великое. А спорить нравилось обоим, что является явным залогом не менее явного успеха. Разжигается очередной спор. Волконский отступать не думает, как и Саша — мириться. Разглядывает со всей серьёзностью карту, скрестив руки за спиной. Высчитывает в мозгу минуты, которые понадобятся Саше, чтобы принять его точку зрения. Лишь изредка поглядывает на него невозмутимо. Только внимание всё обратит на дружескую персону, когда прекратит поток отпираний и резко умолкнет. Дурной знак. От смены темы только губы плотно поджимает, едва сдерживаясь от горячего порыва, который уведёт в совершенно иную степь. Нет, дела сердечные лишь мешают великим делам, сбивают с верного курса. Горячат сердце напрасно. Продолжает следить за Сашей внимательно, и уже не так внимательно слушать. От внутренней политики впрямь можно размориться. На зевоту пробивает. Впрочем, откровенно зевать и выказывать скуку он тоже никогда не стеснялся. Единственное, что приободряет: Саша более не злоупотребляет вином, не водится чёрт знает с кем и не засыпает в объятьях чужих женщин, а главное, грандиозные идеи возникают в его мозгу. Такой наследник стране необходим, — истинный преемник своего отца, однако со своими соображениями. Вряд ли России требовалась копия Петра Алексеевича, по скромному мнению Волконского.
— Вы правда так думаете, Александр Петрович? — спрашивает невозмутимо, дождавшись согласия с самим собой. Неспешно отрывает взгляд от разложенных по столу бумажек, и смотрит на него, слабо улыбаясь. Однако, вовсе не об этом должна идти речь. Лицо Саши неуловимо меняется в эмоциях. Отражает теперь печаль, довлеющую над ним. Сердце невозможно исцелить одними лишь отвлечениями, пусь полезными, — даже Кирилл об этом знает. Не одному Саше доставляет боль несчастье. Кирилл каждый аз мучается, видя его т а к и м, переменившимся и печальным.
— Если бы это действительно имело толк, — не объясняется, снова опуская глаза. Никакого проку ни от французского, ни от жены, ни от попыток оставить прошлое за захлопнутой дверью. Кирилл в это не верит. Выход виделся лишь один, да только не ему указывать, как поступать. Лишний раз бередить незажившие раны — не по-дружески. Посему, они просто продолжали спорить в сарае около конюшни.
***
В кои-то веки Кирилл Андреевич отложил книгу в ящик и уложил голову на подушке точно по барабанному отбою. Глупость, конечно, объявлять столь резво-пробуждающим способом отбой. Сквозь приоткрытое окно (благо окна в казармах имели свойство открываться) проникает свежий, весенний воздух, приятная прохлада, и теребящий слегка волосы, ветер. Ему снится более чем дивный сон, возвращающий в родное Берёзово, на огромные зелёные луга, на берега залива, в родной дом, стоящий столь недалеко от воды. А изумрудная весна напоминает чьи-то глаза, только невозможно уловить во сне, чьи. Знакомые, больно знакомые глаза. Стук походит на дятла, который долбит клювом яблоню в саду, разве что с каждой секундой пробуждает досаду. От досады внутри просыпается Кирилл, понимая сонной головой что вовсе не дятел стучит, а мелкие камушки в его окно летят. Сон забывается мигом, — не настолько романтик, чтобы запоминать сны, пусть самые дивные. Опять Саша напился иль Федьке не спится? Другой раз они с Федькой лежат на сене и читают книгу. Жалко мальчишку, сиротой остался. Сны страшные снятся. А у Волконского необъяснимый отцовский инстинкт срабатывает. Перемещается к окну, опираясь руками о подоконник, и прочистив от дымки взгляд, рассматривает в полумраке лицо Саши. Сколь серьёзное дело, невозможно понять по лицу, неизменно радостному, оживлённому. Саша наконец-то узнаваемым, прежним стал. Кирилл молча отходит от окна и одеваться начинает скорее по инерции, нежели осознанно. Шёпотом ругается на Сашку, косо надевает треуголку, а впрочем, плевать. Поймают его однажды на побегах. Тоже плевать. Высекут и забудут, а быть может, даже сечь не станут, посмотрев на его заслуги и добрую службу. На воздухе только просыпаться начинает, и то, едва на лошади удерживается, забывая задаться вопросами: откуда здесь лошадь и откуда здесь Сашка? Как оказывается, не один Сашка.
— Куда это она поскакала? — сонно и весьма недовольно спрашивает Кирилл, всё ещё неуверенно сидя в седле.
Бесцельные скачки в темноте и звонкий смех, стоящий в ушах, стремительно пробуждают. Холодный воздух хлещет по лицу, ночная, весенняя свежесть заполняет лёгкие. Спасать любящее сердце, — дело благородное, чуть ли не приключение из любовного романа. Однако, Кирилл не умеет спасать, когда подробностей не знает. Как человеку военному, ему всегда необходим план. Сонливость окончательно отступает, оставляя место активной мыслительной деятельности.
— Всем стоять! — закричит командным тоном, заставляя лошадь замедлиться после бешенного галопа. Романовы — любители поскакать да посоревноваться, не иначе. Кирилла более не смущает присутствие целых двух Романовых, быть может, говорить с которыми тоном командира недопустимо. Он допускает, добиваясь желаемого. Лошади от нечего делать начинают кругами ходить друг за другом. Бросает пристальный взгляд то на Елизавету Петровну, то на Сашу. — Скажи-ка мне, менестрель любезный, куда дели твою-то любовь? Недавно была на месте, — заставляет лошадь переместиться ближе к Плутону, дабы в глаза Саши посмотреть. Освещение разве что лунное, едва ли разглядишь что-то кроме задорного сияния глаз. Только глаза Кирилла не сияют, полные серьёзности, точно учиняется военная операция. Впрочем, значение их тайного предприятия не меньше, чем военного.
— Насколько мне известно, направление возможно узнать только в одном месте. Я готов взять это на себя, чтобы вы лишний раз на глаза не попадались. Сам сказал, дело важное, — последнее произносит в своё оправдание и оправдание своего тона. Ежели спасать, так спасать основательно и результативно.
Поделиться122024-05-20 20:43:44
Любой, будь то агент Тайной канцелярии иль несчастно влюблённый гвардеец знает, что ценную информацию надобно добывать в императорских конюшнях. Негласно конюшни — ведомство, где за бутыль водки иль скромную денежную сумму поведают кто выезжал, когда выезжал и в каком направлении, если не саму конечную остановку. По счастливому совпадению старший братец мелкого Федьки служил при конюшнях таким же мальчишкой-прислужником, который может и считался солдатом, но чаще вычищал конные хвосты и подчищал конный навоз, дабы апартаменты императорских лошадей блистали чистотой. Может быть, за три года Кирилл Андреевич и не обзавёлся любовными или дружескими отношениями, но не упустил из виду связи полезные. Отец связями не брезговал до тех пор, пока не перейдены границы, — никаких подкупов и услуг взамен. А ежели ради благого дела надобно выяснить что-то, не грех и самому человека подкупить. Кирилл убеждён в том, что Сашины дела сердечные — благое предприятие. Более того, не оставляет равнодушной сама Наталья Алексеевна, в которой видит чуть ли не родственную душу. Посему, чем дольше увиливал от ответа Емеля, тем стремительнее негодование наплывало на Волконского. От нетерпения и злости (не стоит злить невыспавшегося Волконского) он схватил несчастного за ворот рубахи и потребовал ответа глядя прямиком в перепуганные глаза. “Чёрт бы тебя побрал”, — с этими словами отпустил мальчишку, энергически раздумывая над услышанным. “Иди с Богом”, — чуть поостыв, всунул сверкнувшую монету в запачканную ладонь и спешно удалился, будто и не возникал рядом с конюшнями. В последнюю очередь он думал о своём невежестве, а быть может, вовсе не думал. Как выяснилось, на конюшнях никто и не знал конечное назначение. “Известно, что поскакали они в сторону юсуповских владений. Коней пожалеют, выберут тракт посподручнее”, — рассуждал Емеля на основании подслушанных разговоров. Кирилл крайне невесело сообщил своим попутчикам о том, что держаться следует Государева тракта, — это всё, что доселе известно.
Стоило ожидать того, что взгляды на путешествие будут разниться. Кирилла тревожило присутствие цесаревны, так как женский пол изволит утомляться в дороге быстрее, а помимо прочего, дорога бывает опасной. Только бодрый настрой Елизаветы Петровны и горящие глаза, напоминали о том, что она — совершенно иная, чем все знакомые ему девицы. Куда более тревожил Саша, который заявил, что будет двигаться вперёд и только вперёд, не останавливаясь. По его мнению, стоя на месте ничего не узнаешь и озарения не случится. Быть может, Саша прав. Быть может, потому они проскакали от утра до позднего вечера, не миновав даже половины пути. Как известно, от Петербурга до Москвы не меньше четырёх дней. А подозрения в том, что повезли Наталью Алексеевну в Архангельское, не отпускали Сашу. “Сделаем остановку, лошадям нужно отдых дать”, — заявил неожиданно Кирилл, после внимательных наблюдений за Елизаветой Петровной. День в седле по ухабистым дорогам вымотает кого угодно. Заводить тему о том, что передохнуть стоит в первую очередь д а м а м, он не хотел. Передохнуть следовало лошадям, разумеется. Сам Кирилл умирал то ли с голоду, то ли от жажды. Ежели на пути и случилась одна остановка, и то хорошо, — рванули они в своё путешествие забывая обо всём напрочь.
Постоялый двор более чем людный. Не мудрено, ведь дорога одна из самых важных в Империи, соединяет два самых величественных города. Туда и обратно разъезжают торговцы, офицеры, посыльные, служащие с какими-то миссиями и поручениями. Стоит гомон из голосов в разнобой, топота копыт и непрерывного собачьего лаянья. Кирилл оборачивается, проверяя со всей серьёзностью не избавился ли Саша от чёрного платка, надёжно скрывающего половину лица. Секретность была одним из условий. Достаточно Саше светить своим прекрасным лицом, которое вблизи столицы узнают без труда. Елизавета Петровна, разумеется, также нуждается в секретности, ещё и потому, что является первой красавицей в стране. Непременно стала бы привлекать множество взглядов, дурных, праздных, восхищённых, разных. Думать не хотелось. Волконский отчаянно думает о том, где бы раздобыть больше полезной информации для их затеи.
Внутри, разумеется, удушливо, стоит неподвижная вонь дыма от недогоревшего угля в печи. Витают в спёртом воздухе винные испарения да запах подгоревшего жира. Освещение весьма скудное. Постояльцы довольствуются маленькими подсвечниками на своих столах и редким, желтоватым светом, отражающимся на лицах. Где-то поодаль стоят должно быть, винные бочки; под ногами солома и слой грязи, застилающий каменную кладку; слышатся пьяные, неразборчивые вопли, заставляя напрячься. Свежи воспоминания о “Ночной фиалке”. Женщина в тёмно-красном платье опускает на стол две полные пива кружки, а после метнёт взгляд тёмных глаз в сторону новоприбывших. Кирилл только решается сделать шаг вперёд и вдруг перед глазами предстаёт она, румяная и пышногрудая. В иной раз стало бы не по себе, а сейчас смотрит внимательно, видя чуть ли не в каждом первом встречном потенциального союзника.
— Могу ли я помочь господам? — спрашивает с какой-то особой, проникновенно-таинственной интонацией, улыбаясь не менее таинственно. Мало ли в каких услугах нуждаются господа с дороги. Впрочем, на притон сей двор не похож, разве что тот надёжно скрыт. Кирилл упрямо игнорирует изучающий взгляд, рассматривая помещение изнутри и оценивая, сколь безопасно здесь находится. Порой безопаснее в лесу, нежели среди незнакомых людей, случайных путников. Каждый вооружен, каждый о чём-то помышляет. Любой может оказаться разбойником иль вором. Свалил же Сашка задачку на бедную голову Кирилла, в котором чувство ответственности наиболее обострённое. Воротить в столицу в целости и сохранности наследника и сестру его, — ответственность небывалая, а тяжесть так и ощущается на плечах.
— Нет. Нам нужен только свободный стол, и поесть чего-нибудь, — отталкивает бесцеремонно барышню, не удостоив даже взглядом. Дело в том, что приглянулся стол в самом углу, где никто не станет рассматривать их лица, да и темнота — надёжный друг. Приглашает жестом пройти к столу, а барышня только усмехнётся, будто знает подход к таким упрямым.
— Нам бы комнату, — стягивает перчатки, следом и от плаща с треуголкой избавляется, наконец вздохнув с облегчением. Благодаря тому, что Саша с Елизаветой Петровной спинами сидят ко всему набитому постояльцами залу, им можно и от платки снять. По крайней мере, Кирилл не возражает, удовлетворённый тем, что имеет удобный обзор и любую опасность заприметит незамедлительно. Впрочем, опасностей не предвещается, помимо бородатого мужичка средних лет с подносом в руках. Ежели поджаренный рябчик с золотистой корочкой выглядит безобидно и аппетитно, то лифляндское пиво совершенно ни к чему, опасно и заставляет бросить настороженный взгляд в недавнее прошлое.
— Это унесите, немедленно, — командует Кирилл, указывая на пивные кружки.
— Как же так, барин? Лифляндское ведь! Заезжали к нам важные господа, пиво испробовали. Так им понравилось! — мужичок опускает поднос на стол и вопреки повелительному тону Волконского, расставляет кружки.
— Что за важные господа? — вдруг щёлкает в голове. Кирилл поднимает выжидающий взгляд на заросшее густо лицо, даже приподнимается. Заинтересованность не остаётся незамеченной. Бородач оказывается, не глупец. Улыбается хитро и после недолгой паузы снова берётся уговаривать испробовать пиво. — Ну-ка, давай присядь, — закидывает руку на чужие плечи и почти силой заставляет опуститься на скамью подле себя. — А почему бы нам вместе не выпить? — уводит кружку из-под Сашиного носа, твёрдо решив, что на его глазах Саша не только пить, даже чувствовать запах хмеля не будет. Пусть делает что угодно его царской душе за спиной, пока Кирилл не имеет чести за сим наблюдать. Руку с чужих плеч убирать не торопиться, похлопывает по плечу и в лицо заглядывает. Должно быть, мужичок смекнул, что может чем-то поделиться и поделиться не безвозмездно. Вечно этим людям в офицерских мундирах что-то да нужно, интригами и приключениями полнится их жизнь. Помимо того, полнятся карманы порой сверкающими монетами.
— Ты-то сам это пиво пил? Угощаем, — пододвигает к нему кружку. Бородач поглядывает косо на всех троих, не торопясь соглашаться. Кириллу, поборов все свои моральные принципы, приходится поднять свою кружку и хорошенько чокнуться, как положено любому русскому человеку. А после, разумеется, отпить чуть ли не половину, — всегда вызывает уважение. Чего только не сотворишь ради спасения влюблённых сердец.
— А этот не пьёт? — мужик тычет пальцем в тёмный угол, где полумрак надежно скрывает девичье лицо. Будь проклят этот мужик. Бросает взгляд в сторону Елизаветы Петровны и рукой отмахивается, мысленно прося прощения.
— А этот мелкий ещё, не положено. Ты пей-пей. Нравится? Что надо пиво, а? Скажи, Сашка? — бросает взгляд на друга, впрочем, не ожидая особой поддержки. Любое негодование Саши он собирается мужественно терпеть. Бородач, как и любой человек грешный, робеет перед хмельным запахом, который столь приятно кружит голову. Людей спаивать, — дело неблагородное, но Кирилл считает, что до благородства ему далеко. Отпивает ещё пива, голова и впрямь пускается в лёгкий пляс. Улыбается от души своему пивному товарищу. — Ну так что, много тут важных господ бывает? Осточертели тебе со своими капризами, — снова бросает взгляд в сторону Саши. Извиняться придётся долго и за многое. Однако же, разве не ругань на высшее сословие смягчает сердце простого смертного? Мужичок охотно кивает головой, протирая рукавом бороду, по которой пиво растекается.
— Ей-богу, барин, осточертели! Барыня с ними пожаловали. Капризная до чего! Ни харчи, ни комнаты ей по душе не были. Топала ножкой и всё требовала воротить её обратно. А обратно, это куда? Кто ж его знает, — разводит руками, уже без зазрений совести и подозрений закусывая квашенной капустой. Кирилл слушает внимательно, вглядывается пристально, понимая, что речь идёт о той самой барыне, какую они разыскивают. Саша начинает наблюдать за разыгрываемым действом с особым теперь участием.
— Ну, а дальше? — нетерпеливо подгоняет Волконский, замечая заминку. Не дай Бог решит мужик, что ему нужна доплата за столь секретную информацию.
— А что дальше, дальше господа эти потащили её в карету. Заплатить-то забыли! — трясёт кулаком перед лицом. — Побыли тут совсем недолго, решили, что проще ехать в путёвый дворец, что возле Новгорода. Стало быть, очень важные гости, — шепчет сипло, наклонившись к столу, точно выдаёт государственную тайну; быть может, она и была государственной. Мужику бояться нечего, его самая большая проблема — обида на не расплатившихся господ. Поквитаться хочется. — Конюх наш услыхал, — добавляет, зыркая то на Сашу, то на Кирилла. Стало быть, всей гурьбой непутёвых постояльцев злословили: кто о чём услыхал. Получив столь необходимые сведения, Волконский выпрямляет спину и начинает думать о том, как бы поскорее избавиться от обиженного, по всей видимости, дворника. Тому, кто дело ведёт, обиднее всех будет. На выручку нежданно приходит пышногрудая барышня, заставляя своей руганью мужика подняться со скамьи. Впрочем, на другой скамье он и повалился после двух кружек. Один Господь знает, кто здесь в действительности хозяин, а кто всего лишь наёмный работяга. Внутренние дела сего заведения никого не интересуют, а барышня оборачивается и взгляд-таки бросает на Кирилла. Словно, завлекающий. Он остаётся невозмутимым.
— Где находится этот дворец? Стало быть, туда и повезли Наталью Алексеевну. Охрана у неё глупая, зачем здесь останавливались? А впрочем, это не имеет значения, — пытается соображать, склонив голову над кружкой, полной наполовину. — Ежели везли насильно, охрана точно есть. Боятся, что сбежит, — метнёт взгляд на Сашу, ведь не пустые опасения. — Я могу быть откровенным с вами? — кажется, хмель стороной не обходит даже неизменно чистое сознание Волконского. Наклоняется в их сторону, внимательно глядя на лица. Он вовсе не пьян, однако чувствует, как спешно текут мысли и как спешно готов разболтать, не задумываясь. Хуже мыслей, не прошедших строгой проверки, которые в болтовню вытекают, быть может разве что измена Родине.
— Мы не можем штурмовать дворец, — покачает головой для пущей убедительности, — пока не узнаем, что происходит внутри. Как и для любой военной операции, нужно знать противника. А именно, сколько офицеров находится во дворце. Ежели, конечно, её сопровождают офицеры, а не... — бросает взгляд в сторону зала, понижает тон голоса, — кто-то другой. Да и сама Наталья Алексеевна должна быть предупреждена. Так или иначе, кто-то первым должен попасть во дворец и сообщить нам, как всё обстоит, — поднимает кружку собираясь пиво допить, но поднеся к губам отчего-то передумывает, отставляет в сторону. Вероятно, пробудившийся рассудок. Пиво соображать не поможет.
— Предположим, — продолжает немного погодя, понаблюдав за пламенем свечи, которую на подсвечнике милостиво пожаловали для их стола, — у Натальи Алексеевны есть любимая камеристка. Из-за сразившего её недуга она осталась в столице. Как только она оправилась чтобы выдержать дорогу, гвардейцы получают распоряжение сопроводить её к графине. Дорога опасная, а как мы знаем, какие только поручения не выпадают на долю гвардии, — что является абсолютной правдой и навевает желание потянуться за кружкой снова, но Кирилл мужественно противостоит желанию. Гвардейцы и впрямь получают порой неожиданные указания, однако, благодаря императору всё ещё остаются важной, незаменимой военной силой. — Кроме того, известно, что камеристка перенесла в детстве оспу, а посему, вынуждена скрывать своё лицо, — снова выдерживает паузу, глядя на их лица, мягко освещённые янтарным светом. — Такова легенда. История, которую мы можем преподнести любому, кто нас встретит. Нам не нужно, чтобы поверили, скорее нужно сбить с толку. Пока они будут проверять, есть ли у Натальи Алексеевны камеристка, перенёсшая оспу, мы успеем её увезти.
От неутомимого мыслительного процесса он и сам берётся кислую капусту жевать. Хорош ли в действительности план? Ежели попадётся тот, кто давно осведомлён о личной свите Натальи Алексеевны? Тогда можно сообщить, что за краткий срок графиня привязалась к бедной девушке, натерпевшейся вдоволь. Кирилл отчаянно норовит залепить все дыры в этом судёнышке, которому предстоит переплыть чуть ли не бурю.
— Только вот, кто же сыграет роль камеристки? — вдруг возникает вопрос, имеющий лишь один очевидный ответ. Взгляд падает на цесаревну, издеваться над которой настолько его совесть попросту отказывается позволять. — Быть может... кого-то другого найдём? Девиц здесь полно, а? Нет, просить о таком... я не могу, — упрямо качает головой.
— Зато я могу, — возникает Саша. — Доведётся сестрице снова женское платье надеть.
***
Кирилл подсчитывает количество звёзд и всякий раз сбивается, запутываясь где-то на двадцатой звезде, которую окружает целый десяток. Заново: первая, вторая, третья, — словно безмолвная колыбельная, в иной раз убаюкала бы, только не в эту ночь. Собственное упрямство делается преградой, будто сосчитать звёзды — задача посильная. Синее полотно густо усыпано этими маленькими, сияющими жемчужинами, точно песчаный морской берег в ночи. Воздух стоит холодный, как положено в весеннюю пору. В безмятежной тишине все звуки приобретают особенную отчётливость. Негромко фыркают кони, будто переговариваются меж собою; рычит собака на мелькнувшую в темноте то кошку, то мышь; шелестят позеленевшие ветки деревьев, тронутые то ветром, то вспорхнувшей ночной птицей. В корчме до сих пор шумно пьют за здоровье императора и друг друга, звякает посуда и грохают двери, то впускающие, то выпускающие постояльцев. Он снова звёзды считает, покручивая пальцами соломинку.
— Но вижу я в твоих глазах предвестье, по неизменным звездам узнаю, что правда с красотой пребудут вместе, когда продлишь в потомках жизнь свою, — произносит низко-размеренным тоном строки, глядя ввысь задумчиво. — Вспомнилось, — поясняет немного погодя; зачарованно и грустно. — А если нет — под гробовой плитою исчезнет правда вместе с красотою. Шекспир был гением, — на лице мелькает улыбка, будто звёздным светом зажжённая. Молчание продлится под сопенье Саши, которому весьма повезло забыться сном вопреки всем неудобствам. Поначалу Кирилл испытывал самое настоящее неудобство, а теперь беззастенчиво прижимается плечом к её плечу, — так хотя бы теплее.
— Надо ли было вам ехать? Здесь, — бросает взгляд в сторону окон вдалеке, откуда несутся порой волны крепких выражений, — точно не место для такой звезды, как вы, — совсем уж грустно становится. — Знаю, вы на других барышень не похожи. Саше с вами повезло, — снова улыбнётся, не отрываясь от разглядывания звёзд. Странно, ведь весной случаются дожди, а дыра, зияющая в навесе размеров крайне внушительных. Кирилл отчаянно пытался объяснить, что комната им необходима. Однако же, выставлять кого-либо из постояльцев выпивший дворник отказывался, ворча “не селить же мне десять особ в одну комнатушку”. Ничего не оставалось кроме как искать пристанища снаружи. И нашлось. Нашлось мягкое сено, в котором проваливаешься и вдыхаешь запах сухой травы с горьковатой полынью. Покалывают соломинки то щёки, то шею. А впрочем, удобно.
— Елизавета Петровна, — поворачивает голову в её сторону, — ежели не хотите, можете отказаться. Мы что-нибудь другое придумаем. Я не хочу подвергать вас опасности, — смотрит в её глаза внимательно, а лица как никогда близко, вот-вот столкнутся носами. Оно ведь так, теплее. В его потемневших глазах неподдельная тревога. Придумывая план, он и не подумал кому достанется роль доносчика, а то и приманки. Всё дороже становится спасение Сашиного сердца. Однако, через минуту-другую он думает вовсе не об опасностях предприятия, а о глазах изумрудных, словно вобравших в себя острое звёздное сияние. Хлопнет в очередной раз где-то дверь и Кирилл мигом в чувство приходит. Глазеть, — оно как-то совсем неприлично. Отворачивается резко. На душе неспокойно. А чтоб спокойнее стало, приподнимается, перетягивает на Елизавету Петровну плащ поверх её собственного. — Холодно, замёрзнете, — и с этими словами переворачивается на другой бок, дабы наверняка не возникало соблазна с м о т р е т ь.
***
Кирилл проснулся рано, потревоженный различными звуками просыпающегося мира. Столь пронзительно кричали вороны, и столь раздражённо лаяла дворовая собака, что и без того чуткий сон окончательно развеялся. Он долго размышлял над тем, как осуществить задуманное, и единственным решением являлся знакомый образ. Времени решил не терять, оставив на свою ответственность царственных особо опочивать на сене. Боязно оставлять без присмотра. Однако ж, Наталью Алексеевну надобно спасать. Тем временем, в корчме наконец наступила тишина. В синем полумраке остывает чадный воздух. Человек, которого он собирался отыскать, удачно находится здесь, да ещё в одиночестве. Она с нескрываемой заинтересованностью отрывается от протирания стола и несколько секунд смотрит на него, чуть прищурив раскосые глаза.
— Всё-таки пришёл, — одаривает томной улыбкой. Кирилл Андреевич не был бы собой, будь его лицо не сплошным камнем, от которого веет лишь холодом и безразличием.
— На вашем месте я бы не подпитывал такую самоуверенность. Вы можете оказать мне услугу, — делает шаг вперёд, мысленно предвещая какого рода догадка, а быть может сама убеждённость, завихрится в её голове. Она незаметно оказывается рядом, пробегается ловко пальцами по золоченным пуговицам камзола; пухлые губы соблазнительно приоткрываются, а глаза бесстыдно заманивают. Кирилл суть её желаний и оказываемых услуг улавливает. Усмехается криво, перехватывая чужую руку.
— Мне нужно женское платье, — руку опускает и пальцы разжимает, а во взгляде ни оттенка сожаления, ни безмолвных извинений. Расшаркивания занимают слишком много времени, которого может и не быть у них вовсе. Барышня темноглазая пару секунд постоит замерев, а после рассмеётся в лицо. — Я могу заплатить. Нет, не этим. Деньгами, разумеется.
В деньгах нуждается каждый, а особенно прелестная барышня, отлавливающая кавалеров на ночь среди случайных постояльцев. А быть может, Волконский — особенный экземпляр, поди разберись. Так или иначе, траты на сложное, но важное предприятие возрастают. Обиженная женщина щадить никого не станет. Ей теперь новое платье приобретать, дабы расправляться с такими упрямыми ослами. Догадалась она самостоятельно о том, что в их сопровождении вовсе не симпатичный юноша, а симпатичная девица, которую и следует переодеть в платье. Не без опасений Кирилл решился довериться. Иначе бы переодеваться пришлось в кустах. Теперь они стоят около порога комнаты, посреди которой Елизавета Петровна в платье, — для бедной камеристки сойдёт. Барышня, отказавшаяся напрочь своё имя называть, крутит её в разные стороны, на что Кирилл смотрит чуть ли не с болью. Знала бы, с кем дело имеет, мигом перестала глумиться. Отпивает из маленькой чашки дрянной, но бодрящий кофе. Может быть, для Саши сей вояж и любовное приключение, а для Кирилла — пытка.
— Ваш друг меня очень хорошо попросил о помощи, — она бросает на Кирилла лукавый взгляд, — а посему я сделаю всё, что смогу. Вообразить не могу, для чего вам это нужно, но так и быть. Не даром столько лет пудрила носы актрискам.
Кирилл горькой жидкостью неизвестного происхождения поперхнётся от взгляда Саши. Хороша женская месть. Ему теперь отмываться и едва ли отмоется. В таких делах куда охотнее верят женщинам, да словам, более цепляющим и ошеломляющим, нежели простодушным оправданиям. Он деликатно откашливается и комнату покидает, собираясь дожидаться снаружи. Одному Господу известно, какие ещё страсти в его сторону излить способна их неожиданная союзница.
***
Бурмистр глядит из-под кустистых бровей простыми, светлыми глазами, отражающими его простодушие и готовность повиноваться любому чужому указу. Нехорошо пользоваться слабостями людскими, да разве есть выход? Над ним персона более высокого положения, и эта персона весьма увлечена приключением. Он бросает якобы случайные взгляды по сторонам, в поисках какой-либо охраны. Дворец сей располагается не в столь удобном месте, чтобы часто в нём останавливаться по пути. Где-то впереди стояли другие, в которых царская семья чаще бывала. А здесь, ежели Саша прав, никак не справлялись с починкой текущей крыши да принимали бедных царских родственников, которые после визитов неизменно жаловались на простуду. Сыро и плесенью воняет. Стало быть, не столь хорошо местная прислуга царских детей в лицо знает. Бурмистр вовсе не пытается рассмотреть особу, стоящую позади высоченного гвардейца с непроницаемым выражением лица. Охраны, впрочем, не наблюдается. Нарочно ли завезли Наталью Алексеевну в столь убогое место, непочитаемое царственной семьёй?
— У меня приказ, — который другой неглупый человек попросил бы предоставить, пусть далеко не всегда приказы письменно оформляются, — доставить камеристку графини Арсентьевой, — произносит со всей офицерской строгостью. Заметив вдруг скользнувший взгляд через собственное плечо, делает шаг в сторону, спиной прикрывая Елизавету Петровну. — Я должен проводить её лично, — раз уж наглеть с позволения самого наследника трона российского, то неограниченно.
— Конечно, барин, конечно. Милости прошу, — спохватится бородатый старик, отходя в сторону и приглашая жестом пройти по коридору. Кирилл бросает взгляд через плечо. Постарались на славу. Лицо надёжно скрыто тенью бардовой накидки и простенькой вуалью. Без колдовства не обошлось, когда лицо цесаревны запудрили так, что оно неестественно побледнело; будто за слоем пудры скрываются последствия неприятной болезни. Он кивает головой и проходит вперёд по коридору. Взгляд упирается в двери, которые тотчас же распахиваются. От неожиданности Волконский останавливается, на мгновение выходя из роли уверенного в себе офицера и в глазах появляется мимолётная потерянность. Наталья Алексеевна лишь вскидывает свой острый подборок, точно взглядом вопрошая: отчего такая задержка?
— Ах, Ваше сиятельство, не гневайтесь. Вот, к вам пожаловали, — снова вспомнит о своём существовании в этом дворце, не иначе, бурмистр (бедняга своего места после этой выходки лишится), раскланиваясь перед Натальей Алексеевной.
— Благодарю. Свободен, — она взмахивает рукой величественно, походя на королеву этого дворца, не иначе. Старик поспешно скроется, оставляя их втроём. Впрочем, Кирилл испытывать счастье не осмеливается. Как знать, за какой стеной иль дверью притаился не то шпион, не то сопровождающий солдат. Осторожным быть теперь не только ради графини, но и ради цесаревны надо. Душа его трещит по швам от тревоги.
— В таком случае, я также откланяюсь. Ваше сиятельство, — склоняет почтительно голову, прежде чем развернуться и зашагать прочь по коридору. Оставлять их одних под присмотром чёрт знает кого, — идея скверная и делается сквернее с каждой секундой. Вопреки важности миссии Елизаветы Петровны, которая заключалась в том, чтобы предупредить Наталью Алексеевну о надвигающемся спасении. А ежели откажется спасаться? Собственные думы заглушают гулкие шаги, а вскоре и голоса, доносящиеся со стороны приоткрытой двери. Кирилл ступает теперь аккуратно, почти бесшумно, подходя ближе. Через щель видны офицеры, сидящие за столом. Ведя обсуждения столичной жизни, перекидываются картами. Разумеется, от скуки они только карточными играми и забавляются. Свезло, что на путь к покоям графини не перекрыли, иначе изворачиваться пришлось бы усерднее. Подсчитывает количество: из видимых только двое, а голосов будто и больше. Вероятно, не более четырёх. Будут ли ради охраны одной девицы поднимать половину полка? Четырёх достаточно. Во дворце словно бы ждали, что за Арсентьевой увяжутся, иль сама побег учинить вздумает. “На рассвете отправимся. А пока, расслабьтесь, господа. Миссия у нас несложная”, — загогочут хором, может быть и оскорблённые тем, что им, бравым офицерам велели за какой-то девчонкой приглядывать.
— Будет вам несложная, — прошепчет Кирилл, осторожно пробираясь к выходу.
Путёвый дворец высится на холме, точно украшение — золотая корона. Жёлтый его фасад выглядит весело и приветливо, солнечно, словно внутри никакой сырости водиться не может. Дворец, поистине несчастный, который постоянно то чинили, то перестраивали. А теперь вовсе лишённый постояльцев. Жалкое было бы зрелище, если бы не высокие деревья, обросшие нежной листвой, заросли кустов, за которыми никто не приглядывает. Весна поистине украшает, изумрудно-голубая, наполненная птичьим щебетом и сладостным ароматом зацветающих яблонь. Кирилл спускается с холма и тропинке, то и дело оглядываясь опасливо, направляется к берегу Стрелки. Холодная река, скрываемая в буйстве зелени, приветливо журчит.
— Неспокойно мне теперь, — обращается к Саше, которому показываться уж определённо не следовало. — Дурная идея — отправить в это место цесаревну. Надо было действовать без неё, — всем видом выказывает недовольство, усаживаясь подле Саши на траве. — Завтра утром уезжают. Времени нет, нужно действовать и как можно раньше.
Как можно раньше вытащить её оттуда.
Планы и впрямь делятся на успешные, малоуспешные и неуспешные вовсе. День стремился к закату. Напряжение возрастало. Никакие игры и даже шпажный бой не мог отвлечь от снедающих переживаний. А ежели её узнают? Отправят обеих в Петербург и накажут? Накажут, разумеется, всех участников, потому что прятаться Волконский не собирался. Одни только офицеры с карточными забавами да вином, которое наверняка раздобыли, успокаивали, — не до Натальи Алексеевны с её прислугами, когда на кону честь офицерская, и непременно, деньги. Когда же опустилась на землю темнота точно опущенная тёмная занавесь, Кирилл начал прохаживаться в сторону дворца, наблюдать за обстановкой из колючих кустов. Неспокойно. Неспокойно как перед грозой, словно завывает ветер, сгоняет тучи. Внимательно он глядел на пару горящих окон, — пара в её покоях, другая вероятно, в обеденной зале. Сашка и вовсе задремал, удобно устроившись на плащах, а Кирилл упрямо продолжает наблюдать. На сей раз неподвижные декорации как на сцене театра, меняются. Ему бы телескоп, дабы рассмотреть хоть что-нибудь в полумраке. Ночь назло не звёздная, не лунная, небо затянуто бледно-лиловой поволокой поверх синевы, — тучи проплывают. Издалека и то заметно, как возятся суматошно вокруг кареты офицеры, укладывая багаж и подгоняя прислугу. Кирилл приподнимается невольно, выглядывая из кустов заметно, но совершенно незаметно для озабоченных офицеров. Один появляется на крыльце, а за ним Волконский рассматривает две женские фигуры, явно подгоняемые гаркающим голосом. Хлопочет и причитает рядом горе-управитель, держа в руке газовую лампу. В карету девушек чуть ли не насильно заталкивают, совершенно внимания, не обращая на то, что они девушки. Кажется, офицеров на одного больше стало, не иначе как прискакал незадолго.
— Черт! — вырывается, когда понимает, что на глазах затея р у ш и т с я. Выбирается из кустов спешно, собирая кафтаном всевозможные колюче-цепкие соцветия, бежит что есть мочи в сторону берега, придерживая треуголку рукой. — Саша! Вставай! Вставай же, ну! Их увозят, слышишь! Их увозят! — падает перед ним на колени, хватая за грудки. Кирилл Андреевич изредка поддаётся эмоциям столь сильным, что дыхание перехватывает; а в эту минуту задыхается, трясёт сонного Сашу, словно тот способен взмахнуть своей царственной рукой и остановить чёртову планету.
— За ними. Немедленно. Мы должны ехать за ними, — как только осеняет, отпускает Сашу и спотыкаясь, бежит к почивающей мирно лошади. — Не входило это в мои планы! Я девиц никогда не похищал и не буду больше! — голос громкий звучит не привычно серьёзно, скорее непривычно панически, душераздирающе. Увезли. Елизавету Петровну увезли, — у него внутри буря свирепствует, а мысленно всех пятерых на дуэль в десятый раз вызывает. У в е з л и. Не дожидаясь Саши, взбирается на лошадь, едва в седле удерживаясь. Голова кругом идёт. Черти! Не единожды проклинает и самого себя, придумавшего никуда не годный план. Это ж надо было, Кирилл Андреич, это ж надо было придумать!
Мчали несколько часов кряду по следам экипажа. Дороги бесконечные, влажные, грязные, ухабистые. Истинные российские дороги. Нежданный поворот, строй сосновый, упущенная из виду карета, — отчаянье небывалое валится на плечи поклажей. В полумраке не угонишься, а наплывающая белесая дымка словно туманит сознание. Лошади лениво переставляют ноги, волочась по влажной земле. Нет более силы подгонять, сам опасно в седле держится, постоянно покачиваясь из стороны в сторону. Ему бы понять, отчего сердце тревожится, особенно за Елизавету Петровну. Рассвет близится с каждой верстой. Светлеет в лесу, когда сквозь стройные сосны проливаются первые солнечные лучи. Говорить Кирилл отказывается тем, что не говорит вовсе, даже взглядов Саши не замечает. У него считай шекспировская трагедия. Настроение леса вдруг переменилось, — этого тоже не замечает. Опытный путешественник уловит слухом шорохи, треснутые под башмаком ветки сухие, тишину, воцарившуюся после птичьего щебета. Может быть, Саша и замечает неладное, да только Кирилл внимания не обращает до тех пор, пока лошадь не спотыкается о натянутую верёвку. Разбойничество —явление обыденное на русских трактах. Лошадь валится на бок, издавая истошное ржание, а следом и Кирилл, которого мигом придавливают к земле. Треуголка слетает с головы, а сама голова кружится, — сосны заводят хоровод под светлеющем небом. Затылок заноет от боли. Стало быть, мастера своего дела, господа разбойники. Делает попытку вырваться и натыкается на острие сабли, наверняка украденной.
— Лежать! Раздевайся, ежели жить хочешь, — командует нависший над ним мужик в крестьянских лохмотьях. Лицо перепачкано сажей и пылью, борода засаленная, а зубы жёлто-коричневого цвета, когда скалится во всю ширь. Отвратительно.
— Саша не вздумай! — кричит другу, положение которого такое же плачевное. Однако же, Кирилла злость небывалая охватывает. Не собирается он расставаться со своим мундиром и шпагой, подаренной самим императором, — слишком хороша добыча для этих лохматых, лесных чертей. Долго раздумывать офицерам не пристало, иначе и страну потерять можно, пока думаешь. Он отрывается от земли, сгибает колени и ударяет по животу. Моментом пользуясь, отбрасывает в сторону дурно пахнущую тушу; ногой выбивает саблю из ослабшей руки, успевает первым подхватить с земли, прежде чем явиться на помощь другой лохматый товарищ.
— Не на тех напали! — раздосадовано констатирует Волконский, вступая в дикий бой на саблях. Баталия не продлится долго благодаря освободившемуся из плена Саши. Слава Господу, он не стал раздеваться. Вскоре двое в поверженном положении, а другие вовсе лишившиеся сознания валяются где-то в кустах. Теперь их очередь угрожать. Взмокший весь, растрёпанный, с волосами взъерошенными, оглядывается по сторонам, будто одной драки недостаточно, хочется ещё. Мочи нет, как неймётся выплеснуть злобу в равноправном бою. Ему бы на войну. Ногой пинает обратно на землю сделавшего попытку сопротивляться, бандита. Внимательно разглядывает заросшее лицо. Дыхание восстанавливается, а заработавший мозг подбрасывает новые поленья в горящий костёр.
— Сашка, так ведь, это хорошо, что мы их встретили. Не двигайся, черт, — цедит сквозь зубы, угрожая повисшей над чужой шеей, саблей. — Не только же порядочным людям одежду свою отдавать. Нам она лишней не будет. Давай-ка, раздевайся, — произносит не без удовольствия, усмехаясь нагло. — Не брезгуй, Саша. Это ради любви твоей. У меня похоже, новая идея.
За успешность нового предприятия Кирилл не ручается, однако кто не рискует, — тому удача не улыбается. Иль тот не пьёт вина, а жизнь без вина паршивая.
***
Смех громкий до неприличия, — не то, чем злоупотребляет Волконский. Ему бы всегда пребывать в своей невозмутимой, непроницаемой серьёзности. Всегда бы в глазах стоял бесцветный, серый холод. Да только разве можно сдержаться, не схватиться за живот и не повалиться на траву с оглушительным гоготом, когда Александр Петрович предстаёт в столь необыкновенном наряде? Такого маскарада двор не видал и вряд ли узрит, вряд ли услышит, — Волконский раньше погибнет от руки цесаревича, чем успеет кому-либо рассказать (а он ведь, не из болтливых). Любовь к Наталье Алексеевне побеждает брезгливость, оказавшуюся менее сильной, не выдерживающую соперничества. Запах от одежды исходит и впрямь дурной, потный. Рубаха из потрёпанного сукна, подпоясанная верёвкой велика, местами разодрана, изношена до серо-бурого цвета. Валенки чуть ниже колен не менее велики, как и штаны точно воздухом раздутые. Образ завершает валяная шапка, перекосившаяся на бок. Чтоб уж наверняка, Кирилл берётся измазывать Сашино лицо грязью, едва сдерживая рвущийся смех. “Уж извиняйте, ваше лицо слишком известно”, — Кирилл не грешит против правды, стараясь довести Александра Петровича до неузнаваемости. Разумеется, сам Волконский ничем не отличается, — такой же лохматый чёрт-разбойник али нищий крестьянин, шатающийся по миру в надежде набрести на милостивую душу. Первым делом, им бы разведать обстановку и как можно незаметнее. Они в новых нарядах удачно сливаются с окружающей средой, разве что на фоне великолепной усадьбы будут выглядеть нелепо.
На берегу Москвы-реки столь уютно примостился храм Архангела Михаила. Отныне происходящим руководила сама судьба, вдруг сжалившаяся, а может и потешающаяся, над любящими сердцами. Снаружи миниатюрная церквушка, белоснежная, сияющая. Купола и апсиды переливаются серебром в солнечном свете, а три высящихся креста — чистым золотом. Умиротворение царит в её окрестностях, которое самым дерзким образом будет нарушено. Оставив лошадей в зарослях, они побрели вдоль берега бесконечной, извилистой реки. Раздаётся колокольный звон, и сей медный гул точно заманивает, очаровывает, становясь всё громче, накатываясь всё ближе. Усадьба столь огромна, что отыскать кого нужно, да ещё незаметно, едва ли возможно, но сердце чует куда ноги направлять. Кирилл машет рукой, свернув с пути (верного) прямого, в сторону храма. Ни в каком другом месте не будут они более уместны, нежели подле белых стен пристанища для любой заблудшей души. Разумеется, владельцы роскошной усадьбы имеют иное мнение. Души должны быть уважаемого сословия и желательно, вымытые. Стоило только Волконскому отбиться от направления, как происходит нечто неожиданное: прекрасное и зловещее одновременно. Из храма выходит Наталья Алексеевна, а подле неё человек, быть может, приставленный из высших чинов среди прислуги. Не дай Бог, сбежит невеста. Ветер развевает полупрозрачную молочную шаль, накинутый поверх незамысловатой причёски.
— А это ещё что такое? — возникает низкорослый не иначе как фальцетом. Разумеется, они оба подходят под определение “что”, никак не “кто”, грязные и нелепые. Впрочем, любовь открывает глаза. Наталья Алексеевна смотрит на Сашу с небывалой нежностью и грустью, — никогда Кирилл не видал столь трогательного взгляда. — Я немедленно позову охрану!
— Не надо! — воспротивится она прорезавшимся, звонким голосом, останавливая сторожа своего рукой. Одаривает двоих сочувствующим, тёплым взглядом. Право, неловко. В один миг вспыхивает желание от лохмотьев вонючих избавиться. — Посмотрите на них. Они, наверное, проголодались. Быть может, они проделали путь дальний, а вы сразу за охраной? Бессердечный вы, Михаил Фёдорович. А Богу молились страстно. Стыдно за вас, — посмотрит укоряюще-строго, складывая перед собой руки. Кирилл передаёт дальнейшее в распоряжение судьбы, становясь всего лишь наблюдателем, зрителем послушным. Наталья Алексеевна — спасительница в большей мере, нежели они, два дурака. Михаил Фёдорович угрюмо поджимает губы, однако замолкает. — Ступайте за мной, — вновь произносит со снисходительной улыбкой, точно к детям обращается. Кирилл едва заметно кивает Саше. Упустить из виду Наталью Алексеевну отныне они не имеют права. Только, где же Елизавета Петровна?
Они прошли Глинобитную ограду, оказались за Святыми воротами, и неспешно направились по дороге к двухэтажному, скромного вида, строению. Укрытая тенью деревьев богадельня была построена для самых благих целей, — столь удачно оказались они обездоленными грязными бедняками, которых не грех отвести в сие заведение. Истинная причина заключается в том, что не отыскать более подходящего места для разговора. А впрочем, есть ли время говорить? Нужно бежать немедля. Кирилл, старательно отыгрывая крестьянскую походку в развалку, то и дело оборачивается, гадая дома ли хозяева. Быть может, им свезло и хозяева временно в столице? Низкорослый сторож вовсе исчез, пока Наталья Алексеевна, точно святая с платком на голове и сложенными руками, неспешно плыла в сторону ещё одного святого места.
— Наталья Алексеевна, — не удерживается Кирилл, оказываясь внутри, — где она? — спрашивает с нескрываемыми тревогой и нетерпением. Невмоготу ждать, а чутьё будто подсказывает, что говорить внутри безопасно. Внутри стоит нерушимая тишина и прохлада. Похоже, постройка временно не оправдывает своего предназначения. Где-то здесь и харчевня с деревянными столами да скамейками, и комнаты отдельные, и общая со многими кроватями, ещё не заправленными. Должно быть, хозяин надеется, что благим делом его будущая супруга самостоятельно займётся. Она бы смогла, была бы святой среди нуждающихся, если бы не взгляд пронзительный голубых глаз. Если бы не Саша, едва сдерживающий себя от порыва. Наталья Алексеевна опускает глаза и губ её касается слабая, но понимающая улыбка.
— Должна быть наверху, мы здесь прибираемся, готовим дом к приёму нуждающихся. Дело святое. Ступайте... — едва успевает договорить, прежде чем Саша за руку схватит и поведёт в сторону. Им теперь самим решать дальнейшую судьбу, без его личного участия. Кирилл не замечает собственной счастливой улыбки. Всё закончилось! Осталось найти цесаревну и бежать прочь. Если бы. Если бы он улыбался так часто, если бы сама судьба благоволила неизменно. Если бы, если бы, если бы.
Распахивается дверь за его спиной. Врывается тёплый весенний воздух и заодно вооружённые солдаты, пыхтящие от быстрого бега и предвкушения драки. Петербуржцев похоже, отправили обратно в Петербуг, а у этих физиономии иные, московские. Кирилл не успевает отыскать лестницу, оборачивается и смотрит на них своим обыкновенным, серьёзно-сосредоточенным взглядом. Мигом выдаёт себя. Бедняки смотрят тупо да глазами хлопают, опосля падают животом на землю раскаиваясь во всех грехах. А его просветлевшие глаза бегают туда-сюда, сообщая об активном мыслительном процессе. Больно соображающий для холопа. Безоружный. Голые руки да ноги в растоптанных валенках, — сможет ли дать отпор? Чёртов доносчик-сторож, неймётся преданным псам, лебезящим пред хозяевами. Не иначе как забил тревогу. “Думайте, Кирилл Андреич, думайте”, — глумится внутренний голос над вторым неудавшимся предприятием. “А это мы ещё посмотрим”, — отвечает то ли самому себе, то ли направляет мысль в сторону бестолково атакующих солдат. Бой начинается неравный. Превышают и численностью, и вооружением. Кирилл отбивается то руками, то ногами, то случайными предметами, попадающимися на пути. Чаще всего приходится уворачиваться от неуклюжих уколов. Они передвигаются в сторону лестницы в каком-то безумном танце, а ему и весело, — улыбается во всю ширь лица, будто не убить его здесь пытаются. Наконец-то разгорячилась кровь, вырвалось наружу юношеское возбуждение и тяга к опасным приключениям. Он взбирается на лестницу, собираясь стать живым щитом, живой преградой, только бы не добрались до второго этажа клоуны в униформе (кому только ума хватило этих неумёх нарядить?). Уже и шпага в руке перехваченная, и задор, распаляемый собственной непобедимостью, да бдительность терять никогда нельзя. Самонадеянность, то грех. На мгновенье всего лишь замирает, бросая взгляд наверх, — удар оглушительный приходится по лицу. Солдат откормленный, не иначе как любитель свежеиспечённых расстегаев, силы не пожалел. Волконский в неустойчивом положении клонится в сторону и вовсе переваливается через деревянные перила лестницы, падая с грохотом на пол. “За вторым давай! Давай быстрее!” — последнее что слышит, заглушаемое торопливым топотом потёртых сапог.
Казалось, и сила, и сама жизнь покинули его распластавшееся тело. «Волконских не сломить», — верно отец говорит. Волконские падают с лестниц и выживают. Плыл он в темноте самое непродолжительное время, не имея такой вольности как почивание на полу богадельни. Вновь сама судьба заступается за них, сводит самым удивительным образом. Кирилл приходит в чувство, приподнимается и хватается за затылок, — снова печёт, жжёт, изнывает от боли. Морщится. Головокружение напополам с треском и грохотом, будто под потолком фейерверк гремит. Скрепит лестница, слышатся осторожные шаги. Он запрокидывает голову и чудо случается, — видит человека, которого отчаянно искал и хотел вернуть обратно. Не хотел отпускать. Их взгляды встречаются. Узнает ли? Должна узнать, не столь сильно изменился он, в отличие от Саши, походящего на домового, вылезшего из печи. Губы неторопливо растягиваются в улыбке. На сердце более не тревожно, на сердце радостно.
— Елизавета Петровна.... Елизавета Петровна, — повторяет тихим, осипшим голосом, дабы убедиться в том, что не привиделось. Она настоящая, живая, неизменно красивая. Два дня — это вечность. Два дня пути, сопровождаемые дикой тревогой и страхом. Вечность ждал этой встречи, и дождался. — Наконец-то я нашёл вас... — сквозь улыбку разморенную. Саша к этому касательства не имеет. Саша не был автором дурной затеи. Кирилл принимал сие на личный счёт, а посему говорит за себя. — Я вас больше никогда не отпущу, — ладонь соскальзывает с затылка, — уж это я вам обещаю, — на пальцах замечает следы крови, — пустое. Доносятся неизвестно откуда голоса да крики, звуки баталии и п о б е д ы. Он вдруг понимает: время действовать пришло. Должно быть, Саша за свою любовь прямо сейчас борется. Поднимается с пола подхватывая лежащую рядом шпагу. Вспоминает вдруг о собственном виде. Совсем не офицерский вид. Стыдно перед цесаревной.
— Бежать надо. Сейчас. Давайте руку! — подбегает к ней с протянутой рукой. Её нежные пальцы в своей ладони крепко сжимает, уводя за собой.
— Кирилл! Бегом! — раздастся голос Саши.
Бог знает откуда здесь взялся экипаж. Быть может, Саша даром времени не терял, пока Кирилл падал с лестницы. На козлах даже кучер насупленный восседает подле самого цесаревича, которому наверняка угрожали оружием, иль ссылкой куда подальше. Кирилл бросает взгляд на Елизавету, прежде чем побежать в сторону кареты, не отпуская её руки. Уцелевшие солдаты, должно быть, отправились за подкреплением. Вовсе незатруднительной оказалась миссия. Оказав надлежащую помощь, то бишь подав руку Елизавете Петровне, когда та садилась в карету, Кирилл захлопывает дверь и бросается к лошадям. Ухватывается крепко за поводья, увлекая за собой в сторону реки.
— Ну, давайте-давайте! — умоляюще обращается к обленившимся, не иначе, запряженным лошадям. Где-то вдалеке замаячат бегущие что есть мочи фигуры. Размахивают руками, ружьями, орут невнятно, иль просто не слышно, что орут. — Сашка, гони! — прокричит задорно, присвистывая точно деревенский мальчишка. Карета помчится прочь вдоль берега. Кирилл умостится удобно на запятках, пока не доберутся до оставленных траву пощипывать, лошадей.
***
Ветер гонит в счастливую неизвестность. Вдоль бесконечного отлогого берега реки, поросшего камышом и осокой, раскидистыми папоротниками и разнообразием трав, несётся карета за упряжкой из четвёрки светло-серых лошадей. Повсюду залитые бело-розовой пеной цветения кустарники и деревья, дикие, разросшиеся своевольно. Весна неизменно полнится свистом, щебетом, чириканьем, дивным пеньем, и свободой, — она клокочет, разрывает грудную клетку. Холодные брызги летят в лицо, когда конь стремится к воде, скачает у самой кромки; солнце заливает светом мелькающие поляны, пробивается в лески, отражается в речной глади, тронутой лёгкими волнами и всплесками. Нежная зелень сияет в солнечных лучах изумрудно, точно глаза той, кто находится в карете. Наконец-то! Кровь в жилах бурлит, разгорячённая триумфом, — а не триумф ли, выкрасть девицу из-под венца? Кирилла едва касается случившаяся любовная история, но чувствует себя полноценным участником, радуясь за сияющего Сашу. Ненадолго тот вовсе исчез, заставляя замедлять лошадь и обеспокоенно оглядываться; вскоре выныривает Саша из моря зелени, ослепительно счастливый, держащий в руке пышный букет наспех сорванных полевых цветов. Наталья Алексеевна ловит сей душистый букет так, словно ловила на скаку букеты всю жизнь. Сердце радуется, гулко колотится. Кирилл вовсе хохочет. Казалось, никакая сила не отнимет у них счастливую молодость и свободное дыхание полной грудью. Казалось, весь этот мир цветущий, поющий, необъятный — им принадлежит всецело. Он то и дело переглядывается с Елизаветой Петровной в окне кареты, не скрывая улыбки. Кто же мог знать, что в недалёком будущем вновь окажется сопровождающим, и совсем не улыбающимся.
***
Торопиться отныне некуда, напротив требуется промедление и время чтобы передохнуть да подумать, как дальше быть. Забрались они в дальний угол, где влюблённым самое место. Покойно, живописно, пение здешних птиц, — заслушаешься. Не отыскать в столице похожего места. Никто не сговаривался, сколько дней и ночей пробыть здесь, никто не строил планов. Бросили лошадей пастись вольно на пастбищах, карету, какая требовала починки и сим занимался, смачно ругаясь, кучер. Его бы домой вернуть, да позаботиться чтобы не наказали сурово. Кинулись на берег реки первым делом, не испытывая желаний более сильных, чем вымыться после разбойничьей одёжи и быстрой езды верхом. В пути постоянно было пыльно и жарко.
— А слабо вам, Александр Петрович, в речку прыгнуть? — закидывает руку на дружеское плечо. Кирилл сам на себя не похож, забыв, что подтрунивать не его удел. Жуть как хочется побыть тем самым мальчишкой, совсем недолго, который по Берёзову гонял кур, воровал яйца и ловко перепрыгивал через все изгороди, попадающиеся на пути. Серьёзность самому порой надоедает, будто другие настроения ему запрещены Господом Богом. Серьёзным будет, когда воротится в казармы, на службу. Сейчас у него особенная служба. И воздух терпким вином пьянит, кружит голову, и отсутствие стен четырёх, расписания строгого, позволяет душе вырваться из привычного заточения. Они как два дурака, но дурака совершенно счастливых, раздеваются наперегонки, забывая, видимо, о присутствии дам. Впрочем, есть ли кого смущаться? Наталья Алексеевна под руку держит Елизавету Петровну, должно быть, не веря ни глазам своим, ни счастью своему. Кирилл бы тоже не верил, окажись на её месте. Саше оно куда легче даётся, как и выпутываться из грязной, потрёпанной рубахи. Раздевшись до пояса и скинув опостылевшие валенки, бегут к манящему берегу и накатывающим волнам. Под закатным небом и оранжевым солнцем гладь речная переливается янтарём. На горизонте разливается плавленое золото. Они прыгают в воду с разбега, где начинается глубина, распугивая и рыб, и чёрных мальков, и парящих в воздухе комах; речная гладь расходится обручами вокруг, норовя увлечь на самое тёмное дно. Кирилл выныривает ненадолго, определённо “протрезвевший” от холодной воды, не успевшей прогреться за весенние месяца. Бодрит. Ненадолго, потому что неуёмным мальчишкам в излюбленную игру “кто кого утопит” не терпится поиграть. Никакие предупреждения о том, что он, Саша — наследник престола и смерть его чревата, не останавливают. Впрочем, как и Сашу, вопреки заявлению Кирилла “а я ещё ни разу не влюблялся, мне умирать рано!”; дурачатся они долго, пока холод не пробирается до костей, пока тело не отказывается, онемев, подчиняться.
— По крайней мере, — выбираясь на берег, вытряхивает речную воду из волос, — мне тоже попадёт, ежели на службу не вернусь по причине простуды. Не одному вам страдать, Александр Петрович, — нарочно зовёт по имени и отчеству, продолжая подтрунивать. Наталье Алексеевне забава едва ли по душе приходится (и Кирилл на её месте смотрел бы со строгостью, только не сегодня), что он замечает. В иной раз стояли бы парой на берегу, неодобрительно покачивая головами. Да разве можно омрачать запретами уходящий день? Торжественный день!
— Не беспокойтесь, Наталья Алексеевна. Теперь Сашка от вас никуда не денется. Сможете отчитывать хоть каждый день, — подходит к ним ближе, набрасывая белую рубаху на влажное тело. Саше, вероятно, услышанное по душе не приходится иль в мальчишеской дружбе колотить друг друга — святая обязанность, неотъемлемый ритуал. Замечая взгляд недобрый, Кирилл ловко прячется за спинами Елизаветы и Натальи, правда за ними не спрячешься особо, — высокий больно. — Ну что с тобой, Сашка? Вечно ты чудишь! За тобой присматривать надо! Согласитесь же со мной, — опускает руки на девичьи плечи в совершенной простоте душевной, обращаясь сразу к обеим. Но Саша настроен серьёзно. Бегают они по берегу ещё какое-то время, слышатся то и дело угрозы; а Кирилл всё пытается воззвать к здравому рассудку и выбить согласие из Саши с тем, что приглядывать за ним всё же необходимо. Прячется за спиной Елизаветы Петровны. В душе Наталья Алексеевна не согласиться не может, он свято в сие верит. В конце концов, беготня превращается в своеобразную игру на подобии горелок, когда Саша вдруг кричит ему в спину: “а теперь попробуй догони, мы, Романовы, быстрые!” А Волконские перед преградами не поворачивают назад и дёру давать не умеют, поэтому Кирилл принимает новые правила мигом. Первым делом догоняет Наталью Алексеевну, захватывая в объятья сзади. Подобное становится чем-то совершенно обыкновенным, словно они старые друзья, играющие в Горелки с детских лет. Кирилл чувствует себя более чем свободно, не боясь ни прикосновений, ни дружеских объятий, каких-либо жестов, — все с в о и. Извиняется негромко перед ней, отпуская и срываясь за Сашей. Бог знает как называется игра, в которой Кирилл Волконский должен всех догнать, однако же ему приходится по душе. Даже Сашу догоняет, бесцеремонно сваливая на землю и хохоча от души. Саша, разумеется, оправдывается тем, что поддался ради друга и вообще споткнулся о какой-то корень, выбивающийся из песка. Елизавета Петровна оказывается самой шустрой, самой ловкой, уворачиваясь и вырываясь в самый последний момент, когда кажется, что вот-вот поймает. Точно неуловимая, прекрасная птица, которой и любоваться хочется, и неволить — грех. А впрочем, он не собирается сдаваться вопреки всему. Не замечает вдруг задумчивого взгляда Саши, который в сторонке стоит и обнимает нежно за плечи Наталью Алексеевну. Стоило заметить его взгляд, стоило прислушаться к тому, что позже скажет. Не до взглядов сейчас. Кирилл догоняет Елизавету Петровну, словно сие было делом чести. Догоняет, оказываясь за её спиной; на радостях обхватывает стройную талию, отрывает от земли и кружит, кружит, как свой самый заветный, самый долгожданный приз.
— Поймал! — сообщает так же радостно, под рукоплескания Саши; и впрямь, улыбка друга переменилась, глаза будто подозревают в чём-то, догадываются, смотрят пронзительно. Ещё несколько мгновений покружит и отпустит, сквозь рвущийся из гуди хохот. Не часто им выпадет смеяться. Сама судьба будто позавидовала и решила заведомо что в с ё жестоко отберёт. — Простите, Елизавета Петровна. Уж очень быстро вы бегаете, — будто извиняется смущённо за то, что минутой ранее сотворил. Заглядывает в её глаза изумрудные, впрочем, беззастенчиво, но с некоторой осторожностью. На пару мгновений мир замирает со своим пением птиц, плещущейся рыбой в реке, шелестом кустарников.
— Ну ладно, хватит вам ворковать. Давайте костёр разведём, — вмешается Саша.
Тёмно-лиловые сумерки наплывают незаметно, напоминая о быстротечности времени. Стрелки часов и впрямь хотелось остановить. Золото утекло за горизонт, уступая место малиново-ежевичным разводам. Первые звёзды выступают острым сиянием. Пролетают над рекой утки, тревожно крича. Ветер колышет высокий камыш и тонкие, ниспадающие к земле ветви ивы, стоящей плакучей царицей на берегу. За спиной, чуть поодаль, трещат толстые ветки, объятые пламенем, стремящимся дотянуться до самих небес. Возле костра они согрелись, рубахи окончательно просохли. Заводят непрерывные, квакающие песни лягушки, ловко перепрыгивающие с камня на камень. Кирилл отмахивается от первых комаров и мелких мошек, слетевшихся на тепло. Ненароком они оба отошли к берегу, оставив влюблённых ворковать наедине. Они-то точно воркуют. Они наконец-то вместе. Невзначай чувствуешь себя лишним.
— Я очень рад за вашего брата, — вдруг сообщает Кирилл, кидая взгляд назад, через плечо. Стоит ли радоваться, ежели правда слишком сурова? Дворцовая жизнь, как успел он понять, не для счастья создана. Тревога, так или иначе, копошится в глубине души. Дурное предчувствие, от которого отмахивается как от надоедливого комара. Если бы не тот подслушанный разговор. Впрочем, он улыбается, переводя взгляд на красивый профиль Елизаветы Петровны. Ветер рубаху теребит и завившиеся слегка волосы у лба. До чего хорошо здесь, быть может, даже лучше, чем в столице. Однажды и возвращаться всякое желание отпадёт.
— Вам хочется возвращаться во дворец? — полюбопытствует, через мгновенье ловя себя на том, что слишком личным, пожалуй, любопытствует. — Неспокойно мне теперь, по правде говоря. Не станет ли хуже? Не увезут ли Наталью Алексеевну куда подальше... — накатывают волнами мрачные мысли. Сможет ли Саша отстоять своё право счастливым быть? Прятаться долго не получится. Никто об этом не говорил, но каждый наверняка, задумывался. Спасение, впрочем, явится откуда не ждали. — А природа вам к лицу, хоть портрет пиши, — отгоняя всё дурное, Кирилл улыбается искренне и оборачивается. В отдалении послышится глухой стук копыт. Может быть, лошадь решила сменить место почивания? Из темноты выступает фигура в мундире. Улыбка схлынет с лица, напряжением схватятся плечи и спина, а пальцы сожмутся. Догнали? Нет, человек, кажется один. Кирилл первым делает несколько шагов вперёд, настороженно глядя на солдата.
— Ваше Императорское Высочество, срочное сообщение из дворца, — Бог знает откуда здесь этот низкорослый, на вид безобидный солдат, быть может, объездил все путевые и загородные дворцы. Кланяется, как положено кланяться царской особе. Неприятный холодок вдоль позвоночника пробегается у Волконского. — Его Императорское Величество сильно больны. Хотели бы видеть вас лично. Медиков собралось на сей много... — последнее будто от себя добавляет, намекая на то, что вылечить государя на сей раз едва ли удастся. Застали их, счастливых, разморенных, влюблённых, врасплох. Кирилл резко оборачивается, глядя на Елизавету Петровну обеспокоенно, и сочувствующе. Счастливых дней оставалось всё меньше.
Поделиться132024-05-20 20:44:27
Уже некоторое время он только и мечтал о том, чтобы снять опостылевший длинный парик, из-за которого потела черепушка, а может быть и о том, чтобы выпить немного вина [какого-нибудь хорошего, разумеется, а не того дрянного, которым потчевал француза]. Но вино, как известно, имеет свойство бить в голову, а Борису Федоровичу совершенно необходимо было держать голову холодной. С серебряного набалдашника трости, которая служила ему скорее предметом гардероба, нежели необходимостью при ходьбе, на него воззрилась разинутая змеиная пасть. Трость досталась ему в подарок от одного английского дипломата [ему часто приносили такие «маленькие» подарки], который уверял, что это очень ценная вещь. Так-то оно, может и так, но красные глаза-рубины чертовой змеи всегда взирали на него с такой неистовой яростью, что неизменно хотелось засунуть ее куда подальше. Впрочем, раз эта вещь так пугала его самого, то производила не менее сильное впечатление на людей более слабого разума, а значит лишь подчеркивала то, что с Апраксиным лучше не шутить.
Императрица смотрела на него этим своим немигающе-насмешливым взглядом, под которым он невольно снова вспоминал то время, когда был «Борькой» и записывал за [между делом заметим] совершенно неграмотным цесаревичем указы или любовные послания. Она всегда т а к смотрела. Еще бы – Юрьевские всегда считали себя птицами не менее важными, нежели новый царские род, а может и еще важнее, неизменно напоминая насколько их род-де древнее. Цесаревич терпеть не мог ее братьев – представителей старого дворянства белокаменной Москвы, охотившихся на медведей, женившихся исключительно на русских и отказывающихся столь долго надевать «европейское платье». Но все же именно благодаря им удалось примирить с новыми порядками несговорчивую московскую знать и новгородскую смуту. И Апраксин не сомневался, что Юрьевские ожидали приближения себя непосредственно к трону, раз уж их сестра и дочь стала женой молодого тогда еще Петра Алексеевича. Да только ничего этого не произошло – так и остались за стенами Кремля, со своей оскорбленной спесью, за покрытыми пылью ризницами и старорусским говором. Да, дочери пришлось оказаться куда более сговорчивой, а гибкости казалось московской красавице с медно-рыжими волосами было не занимать, но Борис Федорович знал, хорошо знал, что вывести из царства в империю кого угодно можно, а вот царство из человека н е т. Отлично знал он, что где-то глубоко в душе, она все также презирала всю эту «немчуру», навезенную мужем в Россию, безбожность и распущенность, следовавшие за начавшимся «галантным веком», презирала сам факт того, что из грязи теперь можно и в князи.
Презирала и его.
Он знал, что никогда она не любила «пронырливого Апрашку», как называла его насмешливым тоном перед братьями, который столь быстро снискал любовь мужа и следовательно позже заполучил повышения по службе, титул и состояние. Иногда Борису Федоровичу нравилось думать о том, как же невыносима ей сама мысль о его богатых дворцах, поместьях, силе которую он держит в руках – его богатства должны были равняться богатствам их собственным и наверняка мысль об этом заставляла ее лицо мрачнеть и морщиться. И самое главное, что наверняка не давало ей покоя, так это тот простой факт, что это именно ему она обязана собственным положением. Как это должно быть было невыносимо, понимать, что обязан сыну кузнеца-пьяницы из-под Костромы? А? Каково?
Но она с м о т р и т. Все еще смотрит с высока, все еще в глазах, под которыми пролегли тени возраста, тревог и потерь, читалась насмешка и его прозвище, словно вызовом бросаемая ему в лицо этими голубыми глазами: «Сколько ты не наряжайся, а оставаться тебе писарем, Борис Федорович!». С большим бы удовольствием он избавил ее от этого выражения старого самодовольства, словно было достаточно одного только чертового происхождения от какого-то там боярина, да древнего герба с драконом [змея и есть змея], чтобы иметь такую спесь. И безразлично, что он богаче ее ненаглядных родственников и уж точно куда влиятельнее. Этот взгляд продолжал напоминать ему лишь о том, кем он б ы л. В довершение всего Юрьевская спесь дополнялась спесью Романовской. Будь его сын не полным болваном с вечно капризно дергающимся подбородком, болезненно-злым выражением лица и уж конечно занимайся чем-то помимо рисования, его род, род Апраксиных, уж наверняка бы прочно закрепился здесь. И уж тогда бы именно его герб: четверочастный щит с изображениями красного льва, держащего в правой лапе две мерные трости, на крест положенные, по концам позолоченные, в знак пожалованного ему генеральского титула; всадника на белом коне; золотого корабля и обозначенными на нем военными победами, стал бы для этой несчастной страны знаковым. Тогда именно этот герб, поддерживаемый солдатами в форме Преображенского и Ингерманландского полков [который между делом именно он сформировал, пока был губернатором Ингрии], стал бы влиятельным символом рода п о д о б н о г о императорскому. «Virtute Duce, Comite Fortuna» – «Доблесть ведёт, фортуна сопровождает» - таков был девиз начертанный под гербом и Апраксин не сомневался в том, что и он приводит ее во внутреннее бешенство. Ведь и правда – госпожа Удача сопутствовала ему бесконечно.
Впрочем, она всегда держала себя в рамках, он лишь догадываться мог о чем она думала – императрица никогда и никому душу не открывала из-за чего никогда не удавалось подловить ее на каком-нибудь крамольном слове да и отправить с глаз долой [Борис Федорович не сомневался в том, что император не раз хотел это сделать]. Не была она уже и той девушкой, которую встретил он впервые на московском пиру, а в последнее время и вовсе окончательно подурнела по его скромному мнению.
Ее лицо стало еще бледнее и виноваты в этом были вовсе не белила и не пудра, а общая светлость ее кожи из-за редкого петербургского солнца и вовсе казавшаяся белоснежной. Из-за такой белизны становились видны и темные круги под глазами и вздувшиеся вены на висках и руках – ее мучали мигрени и отекающие ноги. Волосы, некогда огненно-рыжие, потемнели и словно бы без все того же солнца поблекли, глубокие морщины пролегли у рта, а голубые глаза навечно покрылись холодной ледяной коркой. Она неимоверно располнела, впрочем, ранее среди все тех же «стариков» пышность являлась признаком з д о р о в ь я. Впрочем, что уж там, его ненаглядная женушка, располнела куда больше, хотя родов и волнений у нее было меньше. Сначала бунт в ненаглядной Москве, благодаря которому Анна Дмитриевна столь неохотно посещала родное гнездо и поныне, после – смерть собственных малолетних детей в том числе сыновей, войны, на которые ездила вместе с супругом, а после – измены оного то с придворными дамами, то с прачками в портах Архангельска, а теперь видимо болезнь супруга, которая не прошла для нее даром.
Апраксин знает, что император угасает. Угасает, оставляя все свои бесконечные нововведения на плечи единственного сына, которому, разумеется, будет помогать о н, Борис Федорович. И как бы она не отмалчивалась, он знает, что день этот скор.
Она презирает его, но пришла к нему. Не мудрено, ведь наверняка супруг не в том положении. Она презирает его, но отлично знает, что он обладает силой ей помочь. Какой парадокс в этом, а, Анна Дмитриевна?
— Он уехал за ней, Борис Федорович. Пришел к отцу, заявил, что непременно прекратит это беззаконие, — ее губы поджимаются, а Апраксин даже радуется в душе, что какая-то бесприданница и простушка смогла вызвать в ней такую реакцию. И вправду, как же это так, ее сын умудрился полюбить б е з р о д н у ю дочь солдата. Смешно, не правда ли? Еще одна насмешка в адрес ее собственного происхождения. Если бы сам Апраксин не был заинтересован в ином развитии событий, то, пожалуй, бы даже помог этому невинному предприятию. — а также добавил, что если ему вздумают мешать, то о т р е ч е т с я. Хорош воспитанник ваш? — спрашивает она горько усмехаясь.
Ваш. Хотел бы он ответить ей, что не его вина в том, что царские дети в его доме воспитывались, что это он находил учителей, а также в том, что кровь не водица. Впрочем, и правда, каков. Заявление в высшей степени опасное, особенно при императоре, который как известно всегда был скор на суждения и который и вправду мог посадить распоясавшегося наследника в крепость, шпили которой виднелись сейчас из окон. Не этому он его учил. От отцовской буйности он всегда пытался Александра отучить и казалось бы преуспел, но тот оставался Романовым. Сегодня бросается угрозами в отречении, а завтра объявляет о новой войне – смело, за один раз, особенно долго не размышляя. «Чем долго думать – лучше один раз сделать» - вот какой у них должен был быть девиз.
— Но вы, матушка, конечно не сказали, куда Наталью Алексеевну увезли?
Он нарочно такое обращение использует, отчасти желая подействовать ей на нервы таким близким обращением, словно указывая на близкое к ней расположение. Она отрицательно качает головой, а он пытается незаметно вытереть пот со лба. Вот парики среди царедворцев он бы отменил, но куда там с этой европейской модой. Отменишь одно и все сразу решат, что можно вновь отрастить бороду и сбежать в лес. А в лес России уже никак бежать нельзя.
Графиня [а уже может и княгиня, если состоялась свадьба] фигурой оказалась несколько неожиданной. Всего лишь несколько, как он пока считал. Общение с французской принцессой шло хорошо, а он, Апраксин, устроивший это, получал от этого скромное вознаграждение [в основном в золоте]. Золото, впрочем, было куда менее ценным, нежели общение с кардиналом и министром Бушэ. Согласились на том, что принцесса приедет ближе к лету [чтобы не напугать ее сразу превратностями русской зимы], чтобы лично познакомиться с будущим мужем, а готовиться к свадьбе лучше и вовсе заранее, как и к подписанию союза. И все ведь шло хорошо, а тут на тебе такой каприз цесаревича. В этом все Романовы и состояли – никогда ни в чем нельзя было быть уверенным с ними. Сегодня они лучатся доброжелательством, а завтра – подписывают приказ о казни.
Его спокойствие относительно этой ситуации, кажется начинает ее раздражать.
— Не боитесь, Борис Федорович, что дельце ваше с французами канет в Лету? — голубые глаза на миг полыхнут холодным пламенем. — В конце концов вы ведь так старались по этому поводу.
Она знает. Знает, что он взял это в свои руки, особенно не советуясь ни с кем, вот и насмехается, уверенная, что испугает. Вот только к чему было советоваться заранее, верно? Дело было верное, а рассказывать о нем стоило тогда, когда он уж наверняка свершится. И вообще, если уж на то пошло, испортила все как раз о н а.
Он постучит пальцами по столу, отставляя змеиную трость в сторону. Потянется за графином вина, нальет в серебряный кубок, отопьет, с наслаждением причмокнув губами.
— По правде сказать, Ваше Величество, зря вы вообще ее отослали. Ведь позволю себе заметить простой факт – цесаревич до этого момента в высшей степени спокойно себя вел, не считая пары инцидентов ранней весной… Но что о них вспоминать.
О да, помнит он, сколь помятого доставили его в Борисовский дворец, помнит и как взял честное слово, что больше никогда не увидит его в таком виде, в душе довольный тем, что именно ему подобную тайну состояния наследника доверили. Право слово, в пьянстве не было ничего удивительного – его батюшка порой так набирался, что несколько солдат не могли отнести императора в опочивальню. Александр Петрович с похмельем, впрочем, был куда менее буйным, нежели отец. Сам Апраксин пьянство терпеть не мог, пусть и считал его обычным русским делом – ему хватило собственного горячо любимого батюшки.
В графине Апраксин не видел особенной угрозы счастливому браку, который уже стучался в двери и своему предприятию тоже. Ведь в данной сделке [а сделки канцлер и генерал любил особенно] не шло речи о любви и уж тем более о супружеской верности.
— Советуете оставить ее здесь? В качестве развлечения? Второй жены?
— Какая разница, что я теперь советую, раз дело сделано, матушка?
«Вам-то удивляться такому. Не Петр ли Алексеевич несколько месяцев так и жил? И что ж в этом такого?».
Видимо, по его лицу она догадалась об этих его мыслях, потому что сделалась еще более неожиданно насмешливой.
— Вы полагаете, что вернув ее, устроив скандал с князем Юсуповым, мой сын успокоится? Неужели же вы так плохо знаете своего крестника, Борис Федорович?
Он раздраженным движением поправит парик, взмахнув кружевными манжетами. Змея на трости тоже кажется начинает пялиться насмешливо. Что-то начинает не давать ему покоя: может ее неожиданно веселый вид, а может эти ее намеки, словно он чего-то не знает. А не знать чего то он ненавидел еще сильнее, чем когда кто-то выказывал неуважение к его персоне.
Змеи: красноглазая и голубоглазая продолжали насмешничать над ним.
Выкинуть бы эту трость к черту, но англичанишка заявлял, что принадлежала она герцогу Букингемскому. Черт бы его побрал.
— Вы полагаете, что он будет как его отец? Нет, Борис Федорович. Ведь вы упускаете из виду, что его матерью была я. А я никогда не учила его вести бесчестную распутную жизнь и предавать брак, обвенчанный богом. А следовательно, Борис Федорович, — она явно берет верх в этой ситуации, он чувствует, как в этом разговоре теряет инициативу, словно спускаясь на несколько ступеней ниже. — если же он возвращают незамужнюю, честную девушку обратно, то по вашему с намерением сделать любовницей? — она неожиданно наклоняется к нему, понижая голос и уже откровенно жестоко потешаясь над ним. — Нет, Боря, — только она могла себе позволить назвать его по имени, да еще и с таким видом, слово вновь обращается к холопу под своей дверью. — не глупи. Теперь уж не отступится – женится, — отклоняется назад, вставая со своего места.
Женится.
Ж е н и т с я.
Какой вздор. Никогда императоры не женились на простолюдинках. Жили с ними, имели от них детей, называли любимыми, но не женились.
Вздор, чушь, глупая паранойя глупой женщины, которой просто невыносима мысль о том, что с ее драгоценным сыном будет крутиться дочь солдата, точно также, как была невыносима мысль о том, при ее муже в генералах ходит писарь, а вовсе не ее братец. Именно так, никак иначе быть не может!
К тому же, при таком раскладе, который она решила нарисовать перед ним, он выглядит полнейшим дураком. Не может так быть, чтобы все так быстро поменялось. Он будет перед другой страной идиотом, который не может влиять ни на что и ничего не может контролировать. Князья вроде Шуйских, Голицыных и Вяземских быстро смекнут, что он хватку теряет и решат, что можно занять его место при новом императоре [где-то эхом послышится надсадный кашель еще живого императора]. Никаких союзов, никакой свадьбы дочери с герцогом Орлеанским, ничего такого…
Выпить захотелось воды, а вовсе не вина, которое теперь казалось отравой, хотя во дворце всегда водилось вино исключительное. Капля пота стекает по виску, он позволяет себе вовсе снять парик, опираясь на трость, неожиданно тяжело, словно ощутив на своих плечах, наконец, возраст.
— Его погубит это, Боря, — видимо она решила и вовсе больше не использовать приличествующих обращений. — она должна стать женой князя Юсупова хотя бы потому, что Саше нужны такие люди внутри страны не врагами, которых он наверняка обретет. И не делай вид, что не понимаешь о чем это я тебе толкую. Плевок в лицо Франции? Что же, Саша думает она стерпит. Французы может и вправду стерпят. А наши, русские? Стерпят, а после укусят? Тебе ли не знать…
Последнее он мимо ушей пропускает, словно не заметил прямого намека, сосредоточенно размышляя.
Нет, положительно она сошла с ума. Такого не будет, сколько об этом не думай. С чего она в конце концов взяла, что он плохо своего воспитанника знает? Нет, он знает его отлично. Все увлечения Саши были короткими, никогда ни к чему не вели, а он словно ветер гнался дальше за новыми впечатлениями. К тому же всегда он прислушивался к н е м у, к Борису, как прислушивался его отец. Его советы всегда равнялись закону – все в Империи это знали. Нет, вздор и чушь. Вздор и чушь.
Это было бы неблагодарно. Неблагодарно за столько лет его, апраксинских, трудов.
В голове одна мысль обгоняет другую. А если все же правда, то ведь наверняка это кто-то его надоумил? У цесаревича в последнее время один друг-единственный, да до того частый и близкий, что кто-то начал ему такую же блестящую карьеру пророчить, что и в свое время Борису Федоровичу. Волконские. Ну да, как же, даже император помнит, а Апраксин помнит куда лучше. Как же, благородные как по книжке. Благородно отвергнут предложение служить при дворе и уедут к себе в березовскую дыру. Только такого и не хватало, чтобы забить голову не рациональными мыслями, а исключительно тем, что благородно, а что нет. Если это подобное отцу влияние и сыну передалось, то наверняка ничего удивительного в таких порывах не будет?
И все же, вслух он произносит, желая поскорее отвязаться от этой темы и этой женщины:
— Как бы там ни было, я переговорю с Его Высочеством, а он уверен прислушается к тому, что я скажу. Союз с Францией нам необходим, он об этом осведомлен не хуже меня.
— Нам или тебе? — она спрашивает это невзначай, оборачиваясь уже уходя. Значит знает. И про деньги тоже. Ее шпионы иногда не хуже его собственных работали. Избавиться бы, а впрочем не так уж и много осталось.
— России, Ваше Величество. За нее и радею.
Она криво усмехается и покидает его кабинет, отлично зная, что победила. Отлично зная, что ее слова он будет прокручивать в голове снова и снова, пока не дознается как дела обстоят на самом деле.
Змея, застывает с разинутой пастью. Красные глаза-рубины смотрят прямо на него и вопрошают: «Что делать будешь, Бориска?».
У змеи голос императрицы.
____________♠♠♠____________
Солнце клонилось к закату, разливаясь у горизонта расплавленной медью и как обычно позолачивая волосы, выбивающиеся из-под треуголки на этот раз по крайней мере бывшей ей по размеру. Кожу начинало жечь от желания поскорее умыться – провести столько часов в седле может ей и по силам, а вот провести столько времени на пыльных дорогах совсем иное дело. Дороги на пути попадались самые различные, но большинство из трактов и узких тропинок, с идущими по обочинам крестьянами, существенно отличались от тех, где обычно ездили они с императорским кортежем. Поневоле начинаешь замечать, что отъехав от столицы несколько десятков верст оказываешься в мире совсем ином – после дождей наспех присыпанный тракт развезло, лошади отфыркивались и мотали мордами, как только их копыта, увязали в этой глинястой жиже. В иных местах их бег поднимал столпы пыли, оседавшие на ее перчатках, лице и все той же треуголке, глаза начинали слезиться то ли от ветра, то ли от все той же вездесущей оранжевой пыли, забивающейся везде, даже казалось в сапоги. Люди, некоторые с детьми, некоторые на повозках, некоторые тоже верхом, мужественно обходили лужи, брели по этому бездорожью и то и дело некоторые, как только телега подскакивала на очередном ухабе в сердцах жаловались и на императора и на господ. И Лиза рада была бы не прислушиваться, но к концу дороги они все кажется не были в настроении разговаривать, вот и волей-неволей приходилось себя чем-то развлекать, когда бешеный темп несколько убавлялся на рысь или и вовсе шаг. Но пожаловаться или попросить остановиться означало бы, что они зря взяли ее с собой, а следовательно она и не думала жаловаться, ерзая в седле и пытаясь не обращать внимание на ноющую боль где-то в ногах. Все это время никто и не думал спешиваться, так что к концу дня ей казалось, что дрожат не то что ее ноги, но и ноги ее лошади. Она устало похлопает Серебрянку по светлой шее, шепнет на ухо: «Ты уж прости, милая, загнала совсем», бросая недовольный взгляд в спину брата, который, такое чувство, готов проскакать еще столько же, удивительным образом оставаясь бодрым и полным сил и этим неимоверно раздражая.
Останавливаться Саша и впрямь, кажется, не собирался. В него вообще что-то вселилось, как только они определили примерный путь до Москвы, в которой как он и был уверен необходимо было отыскать Наташу. Состояние это, невероятно возбужденное, как у ребенка, которому показали наконец, где клад хранится, выливалось в то, что он откровенно говоря не замечал ни состояния спутников, ни уж тем более собственной лошади. Плутон уже и без того пару раз споткнулся, а на некогда блестящей, цвета воронова крыла шкуре выступил пот и пена. Это не говоря о все той же пыли, которую отлично видно было на вороном. У Саши ведь всегда так: если может он, значит могут и остальные, если он не устал, то и другие не могут. А уж если он чем увлечен, то вовсе забывает обо всем, в том числе о необходимости еды и воды. Куда уж там о мыслях о том, что Плутон скорее быстроходен, нежели вынослив, о чем и свидетельствовало хотя бы все то же его спотыкание. Чего недоброго подвернет ногу, а все потому, что хозяин его окончательно потерял голову.
Лиза легонько цокнет, заставляя Серебрянку снова перейти в легкий галоп. Где-то вдалеке виднелся постоялый двор и тут уж придется остановиться, если они хотят добраться до Москвы целыми. Лиза буравит макушку брата раздраженным взглядом, отлично представляя себе, что Саша вполне себе может в подобном лихорадочном состоянии чего недоброго вызвать пока еще [остается надеяться] несостоявшегося жениха Наташи на дуэль [и ведь почти наверняка того заколоть], действительно отказаться от титула или еще чего-нибудь учинить. Отчасти она разделяла эту его спешку, потому что откровенно говоря они не знали, где именно Наташа, лишь догадываться могли, а кто запрещает сыграть свадьбу в любой придорожной церквушке? Но с другой стороны что-то подсказывало, что княжеская свадьба должна быть в родовом имении и никак иначе.
Неизвестно Сашу видимо откровенно злила, Лизу злила пыль и те осторожные взгляды, которые она нет-нет, но замечала на своем лице каждый раз, когда начинала ерзать в седле, в котором сидит с детства, как только как-то не так вздыхала или просто, черт возьми, хотела почесать нос. Взгляды эти, разумеется, принадлежали Кириллу и, если Саша по крайней мере забыл о ее существовании, как впрочем и о существовании Волконского, то Кирилл Андреевич, явно волновался о том, что их угораздило взять с собой особу женского пола. А особы эти, как известно, умеют ездить только в дамских седлах, падают в обмороки от слова «пот», да и вообще для приключений не приспособлены. Во многом, именно из-за этих взглядов, на один из которых она не выдержав однажды едко уточнила: «У меня что-то на носу, Кирилл Андреевич? А то вы так внимательно на меня смотрите, что если у меня с лицом все в порядке, то это пожалуй уже неприлично», Лиза и упрямо решила не произносить ни слова жалоб, даже когда бедра начали ныть нестерпимо от слишком долгого нахождения в седле. Ведь казалось, стоило ей хотя бы немного пожаловаться, попросить остановиться, чтобы попросту хлебнуть из фляги воды [в горле к концу этого дня окончательно пересохло, а губы кажется потрескались], то Волконский непременно превратится в одну из ее нянюшек, немедленно отправив в Петербург с первой же попавшейся почтовой каретой. Или с конвоем солдат. А она такого удовольствия предоставлять не собиралась.
И даже тогда, когда он, не собираясь слушать никаких возражений от Саши, который ожидаемо собирался ехать дальше, заявил, что здесь они остановятся, она заявила на всякий случай:
— Лошадям отдых нужен, конечно, но если нужно может и не стоит останавливаться? Если вы, разумеется, оба не устали.
Саша что-то проворчит легко спрыгивая со спины взмыленного коня, словно сел в седло несколько минут назад, а вовсе не целый день провел в этом самом седле. Лиза невольно завидует этой легкости, как только спрыгивает с лошади сама, невольно покачнувшись, как только ноги ощутили твердую землю усыпанную примятой соломой. У нее это вышло куда менее грациозно. Оказавшись на земле и передавая лошадь подоспевшему востроносому мальчишке, она поняла, насколько же у с т а л а. Тело слушалось ее плохо и болело казалось все – начиная от кистей рук, которые все это время держали поводья и заканчивая ступнями, которые все это время находились в стременах. Она казалась себе мешком с картофелем, о когда ты себе таковым кажешься, вряд ли можно думать о какой-то изящности или заявлять, что совершенно не устала. Под черным платком, который они повязали на лица в целях оставаться неузнанными, но на деле который скорее защищал лицо от грязи, проводит языком по сухим губам и радуется, что он ее лицо скрывает. Выглядит она, наверное, не слишком привлекательно. Впрочем, тому же Волконскому совершенно точно не привыкать видеть ее в образе один экзотичнее другого.
Живот заурчит, заурчит пронзительно и невольно вспомнится дворцовый ужин: перепелки и осетринные котлеты, бламанже с фруктами и уж конечно ее любимые пирожные с лимонным кремом. Да, в таком месте, как это, пирожные вряд ли подают, но если честно есть хотелось так сильно, что она согласилась бы и просто на тарелку супа. Саша [будь он неладен], незамедлительно повернется на звук ее живота, наконец очевидно вспоминая, что она поехала с ними, выразительно посмотрит на нее и подмигнет Кириллу:
— Я так думаю, Кирилл, что нужно будет отужинать, а то чего недоброго Елизавета Петровна нами полакомиться решит.
— За собой лучше следи, — огрызается она будучи совершенно не в настроении поддерживать его глупые шутки особенно тогда, когда можно и промолчать в конце концов.
Сам он ведет себя так, словно не хочет ни есть, ни пить. Ну да, в этом весь он – скакать во весь опор, не замечая усталости, голода, жажды, а после упасть замертво, просто потому что силы тело окончательно покинут.
Платок хочется снять, хотя бы чтобы воздуха глотнуть, пусть и смешан он в этом месте с запахом навоза, но нельзя, Волконский уверен, что находясь даже на достаточном расстоянии от столицы, кто-нибудь непременно их лица узнает. Если бы каждый человек в Империи знал, как дети императорские выглядят, а ведь иной раз они и императора изображения видели только на монетах. Лиза не станет спорить с Кириллом, который волей-неволей оказался в их маленьком приключении за главного, хотя ей и кажется, что их платки черные только внимания больше привлекают. Наверняка кто-нибудь из здешних постояльцев решит, что они какие-то важные господа с таинственным поручением, наверняка ведь запомнят чего недоброго.
На постоялом дворе шумно – лают собаки, которых вечно кто-то норовит пнуть, едва они попадают проезжающим под ноги, ржут лошади, оставленные у коновязи, кудахтают куры и слышится переругивание. Кто-то пришел сюда предложить проезжим господам купить «здорового поросеночка», виднеется почтовые кареты, в которые нагружают почту в мешках, под ногами солома, перемешанная с глиной. Постоялый двор этот особенно хорошо был известен троичным извозчикам, обозным мужикам, купеческим приказчикам, мещанам-торговцам и вообще всем многочисленным и разнородным проезжим, которые во всякое время года накатывают наши дороги. И казалось именно из них и состоит: ото всюду неслись непонятные слова, понятные только кучерам, предлагались сразу же услуги по извозу и так далее. Все заворачивали на этот двор; разве только какая-нибудь помещичья карета, запряженная шестериком доморощенных лошадей, торжественно проплывала мимо, что не мешало, однако, ни кучеру, ни лакею на запятках с каким-то особенным чувством и вниманием посмотреть на слишком им знакомое крылечко; или какой-нибудь голяк в дрянной тележке и с тремя пятаками в мошне за пазухой, поравнявшись с богатым двором, понукал свою усталую лошаденку, поспешая на ночлег в лежавшие под большаком выселки, к мужичку-хозяину, у которого, кроме сена и хлеба, не найдешь ничего, да зато лишней копейки не заплатишь. А двор все же считался зажиточным, из-за своего хорошего месторасположения словно подлавливая путников, которые спешили в древнюю столицу из новой столицы. И еда, как местные хвалились здесь была гораздо лучше, нежели в иных кабаках и трактирах по дороге: по милости толстой и румяной бабы стряпухи, которая кушанья варила вкусно и жирно и не скупилась на припасы; до ближайшего кабака считалось всего с полверсты; хозяин держал табак нюхательный, хотя и смешанный с золой, однако чрезвычайно забористый и приятно разъедающий нос, — словом, много было причин, почему в том дворе не переводились всякого рода постояльцы. И все же, несмотря на то, каким для простых обывателей и не был хорошим этот постоялый двор, вечно запруженный людьми, это было место самое что ни на есть простое. И отчасти напоминающее те места в Петербурге, о которых хотелось ей забыть.
Все такой же стойкий запах дешевого пива и крепкой медовухи сквозит внутри харчевни, такой темной, что волей-неволей ухватишься за руку Саши, просто чтобы не споткнуться обо что-то или же об кого-то, сразу же услышав поток пьяной ругани. Кто-то сидит и играет в карты или «наперсток», а после кричит и ругается, что игрок напротив «мошенник и ирод», женщина со скучающим видом ставит перед поддатыми и без того бородатыми извозчиками деревянные кружки, не обращая уже особого внимания, если кто-нибудь ухватит ее при этом за локоть или вовсе за зад.
Лиза отворачивается, смаргивая здешний чад, привыкая к полутьме, которая здесь обитает и следует за Сашей и Кириллом куда-то вглубь зала. Простая деревянная скамья кажется едва ли не императорским троном, когда можешь, наконец, сменить положение тела и на нее опуститься. Живот проурчит еще пару раз. Она даже не обращает внимание на взгляды людей, некоторые из которых и вовсе смахивают на каких-то разбойников и наверняка прячут за пазухами оружие. Впрочем, ей ли переживать, раз здесь и Саша, который как сказывал его учитель по фехтованию «со шпагою в родственных связях не иначе» и Кирилл, про навыки которого все тот же Саша прожужжал все уши. Именно поэтому, хотя бы немного переведя дух, ее настроение улучшилось. В конце концов – что за великолепное приключение у них получается! На глаза попадется миска с квашеной и невероятно кислой капустой, которой обычно закусывают здешнюю выпивку и, пока им не принесли еды, Лиза не особенно долго думая набирает в рот рукой полную горсть этого кушанья, уплетая несчастную капусту за обе щеки.
Саша смотрит на нее так, словно ест она не капусту, а каких-то жуков, отодвигаясь от миски на всякий случай подальше, стягивая с рук перчатки с таким видом, как если бы давил руками тараканов. Лизе так и хочется напомнить ему о том, как не так уж и давно плавал в пивной луже в заведении куда хуже этого, но давно дала себе зарок этого случая не вспоминать.
— Можешь хоть всю съесть, не отберут, — заявляет он в пол голоса, демонстративно не желая прикасаться к такой еде.
— Не будь ты таким привередой, ей богу! Вкуснятина между прочим! Не понимаю как ты в армии выжил. Вот Кирилл Андреевич, как? — она пожимает плечами, по одному облизывая пальцы не смущаясь того, что прямо напротив нее сидит все тот же Волконский. Но, в конце концов Кирилл теперь и правда почти что «свой», повидавший столько их секретов и видевший их и не в таком виде. К тому же, с ее-то внешним видом сейчас уже и терять нечего – на лице остался отпечаток платка, на носу чумазое пятно, да и волосы снова торчат во все стороны, вьются у висков.
Саша фыркает, тянется за своим рябчиком, который очевидно соответствует его капризным предпочтениям вкусовым, не успевает дотянуться до своей кружки пива, желая видимо смочить горло, потому что Кирилл с самым категоричным видом кружку из-под носа уводит. Он открывает было рот, собираясь очевидно возмутиться, а быть может пошутить, да только не успевает, потому что его опережает бородатый мужичок, очевидно большой знаток в лифляндском. Лиза пива не пила – дамам не пристало, во дворце все пьют вино, а пиво это так – в трактирах или кабаках. Пожалуй, сегодня тоже не удастся хотя бы потому что Кирилл Андреевич видимо вознамерился напиться за них троих.
Волконский, продолжая игнорировать попытки Саши, будущего императора, отглотнуть хотя бы немного и очевидно хотя бы чем-то горло смочить, беседует с бородатым мужичком, очевидно что-то важное знающим. Лизе остается сидеть молча, наблюдая за тем, как постепенно пустеет кружка Кирилла и гадая, сколько выпить он собирается, чтобы всю информацию необходимую узнать.
«Мелкий еще…».
Куда как хорошо снова превратиться в мальчишку из леса, который портит охоту, но Лиза даже не обижается особенно, прыская себе в кулак, не выдерживая такого обращения без смеха. Ведь как интересно оно получается – сидит себе пьет простой и сметливый человек, а перед ним цесаревна и наследник престола сидят, а ими обоими командует самый обычный подпоручик.
«Сашка» выгибает бровь, складывая руки на груди и, видимо недовольный опекой друга, подразумевающей, что ему вообще больше никогда в жизни пить не рекомендуется не собирается поддерживать несчастного:
— А откуда же мне знать, что за пиво, а, Кирилл? — Лиза почти услышала паузу в этом вопросе, словно Саша пытался придумать какое-нибудь издевательское сокращение имени Волконского, но не смог. Не Кирюшкой же его называть. Лиза снова фыркает, полностью соответствуя легенде о том, что перед бородачом сидит безусый юнец. — Это ж ты его в одну рожу выхлыстать решил.
Лиза пнет Сашу ногой под столом. Странное иногда дело – он ведь умеет быть и сговорчивым и договариваться любит куда больше, нежели попусту воевать. Но иногда становится просто невыносимо упрямым, словно специально делая все наоборот. Иной раз этой конечно происходит из-за Сашиных эмоций, гнев и негодование из которых, пожалуй, самые страшные враги любого дела. Так или иначе после пинка под столом он замолкнет, склоняясь над своей тарелкой и очевидно теряя аппетит с каждой новой фразой выпивохи. Лиза тоже слушала с неподдельным интересом и каждый из них, пожалуй, сопоставил важных господ и капризную барышню с Наташей и ее конвоем.
Как странно – под конвоем ехать на собственную свадьбу.
Лиза задумывается на миг о том, сколько этот выпивоха видел здесь подобных сцен, как кого-то почти насильно тащат в карету, а может и спешат ударить в ней.
И все же, как странно и неправильно отправляться на собственную свадьбу под дулом мушкета.
Если бы только знать, что однажды и тебя ждет подобная участь, пожалуй лучше и не жить вовсе. Наверное, именно поэтому она и не знала. Чтобы жить.
Сашино лицо неуловимо меняется и приходится ухватить его за сжатый кулак просто для того, чтобы оставить на месте, потому что по его виду казалось, что еще немного и он вот прямо сейчас ринется в неизвестный пока еще дворец, вызволять свою Наташу и если нужно и голову где-то там и сложить. Невероятно пышногрудая брюнетка отгоняет ставшего в общем-то безынтересным и скорее даже надоедливым выпивоху вон из-за их стола, бросая кокетливый [а Лиза точно знает, что кокетливый] взгляд в сторону Волконского и лишь гадать остается заметил он или просто намеренно проигнорировал. Девушка-то, в конце концов красивая, просто занимается кажется не слишком лицеприятным делом. Невольно, Лиза задумывается какие же девушки нравятся их временами ужасно серьезному другу. В столице, на балах и маскарадах делом чести любого дворянина было выбрать себе даму сердца [а то и двух], чтобы писать им любовные послания и стихи, а также шептать на ухо всяческие комплименты, от которых у барышень непременно рдели щеки. На Лизу подобное поведение обычно редко производило впечатление [совсем иное прямая искренность Кречетова], но тем не менее удивительная сдержанность Волконского не могла не вызывать любопытства. Учитывая то, что не всякого гвардейца представляли двору, неужели и вправду может быть такое, что из всех петербургских красавиц, представленных ко двору, никто ему не приглянулся? А быть может, в этом его Березове дожидается его какая-нибудь Машенька или Катюша, непременно краснощекая с толстой косой. Ждет, чтобы родить много детей, став шире в области талии, точно также, как ее сестры.
Да нет, не может такого быть, чтобы Кириллу Андреевичу нравились такие как Настя Берестова. Да и Саша как-то проговорился, еще до их знакомства, что у того мол на уме только служба [с Сашиных слов в этом будто было что-то плохое], а следовательно в Березове никакой Машеньки или Катеньки с длинной косой и широкими бедрами не может быть. Тогда кто?
Лиза скосит глаза в сторону пышногрудой девицы, разливающей пиво и бойко отвечающей на случайные шлепки подвыпивших постояльцев. Может ли быть такое, что нравится ему кто-то подобный. Темноволосый, яркий, с глазами темными и призывными? И уж конечно с такой пышной грудью. Лиза переводит взгляд с фигуры, столь отличающейся от своей собственной, на занятым делом Кирилла, сощуриваясь и прикидывая в голове кто же при дворе под такое может подойти. Хотя нет, что за вздор в конце концов, он ведь совсем не похож на такого человека, которым нравятся подобные женщины и подобные развлечения. Уж скорее на его месте можно представить какого-нибудь из сыновей князя Голицына. Ведь так? А с другой стороны, что она вообще об этом может знать?
Лиза не замечает насколько неожиданно внимательно вглядывается в его лицо, несколько расслабленное от хмеля, а когда понимает это поспешно опускает взгляд в тарелку, пропуская некоторые слова мимо ушей вовсе. И вправду, что она может знать и какое ей дело до того, кто Кириллу Андреевичу нравится? В конце концов Саша утверждал, что он повенчан с Россией. Ну и пускай будет так.
—…не так далеко отсюда отцовской Путевой дворец. Но только давно там не были и никто останавливаться там не любит. Отец его по молодости построил, а теперь туда нежеланных родственников отправляют, размещают со всеми удобствами.
«И все же, понимает он или не понимает, что барышне этой очень даже приглянулся? Кто-то другой на его месте непременно бы ситуацией воспользовался? А вот интересно, он не станет потому что не понимает и уж если бы она напрямик намекнула, непременно бы согласился или все равно бы отказал?»
Голос Саши звучит издалека, Лиза ущипнет тихонько себя за руку, просто чтобы не заснуть. Наверняка, подобные глупости лезут ей в голову просто потому, что она ужасно устала, только и всего. Но сейчас засыпать уж точно нельзя – сначала нужно решить, как спасать Наташу, а уж потом можно где-нибудь и прикорнуть.
«Мы не можем штурмовать дворец…».
Лиза вздрагивает, вновь вслушивается в их разговор, очевидно пытаясь поймать суть беседы. Вот так и замечтайся хоть на мгновение одно – тут уже и о штурме дворца речь непременно зайдет. Еще немного и сообщат чего недоброго о государственном перевороте.
—…да это ж даже не дворец считай, отчего же не сможем. Они и шпагами пользоваться наверняка хорошо не умеют… Ты за дурака меня держишь что ли? – Саша сердится, она это слышит. Сердится то ли от того, что ему не дают прямо сейчас рвануть с места, оседлать еще не отдохнувшего толком Плутона и ринуться в первый попавшийся дворец, то ли потому, что не дали испробовать Лифляндского пива, а может просто очень уж ему хочется с кем-нибудь поспорить. — Разумеется дворец никто штурмовать не собирается, нашелся стратег, — Саша фыркнет, тычет в лицо Кирилла очевидно видавшим виды ножом, которым до этого разделывал рябчиков.
По мере того, как в голову Волконского приходит этот гениальный план они переглядываются с Сашей с самым заговорщическим видом. Обычно с таким видом в детстве они переглядывались, когда намазывали задремавшему часовому на посту лицо белилами или притаскивали прямо на бал живого ежа. В такие мгновение они с братом становились похожи как две капли воды, словно близнецы разного полу – оба улыбающиеся лукаво, светловолосые, очевидно уже сразу решившие, как и что случится. Разве что стоило сказать об этом весьма озабоченному положением дел Кириллу, который план придумал, но главного исполнителя еще не назначил. Кирилл их лиц не замечает, сосредоточенно пережевывает кислую капусту, размышляя о том, где взять только что выдуманную им камеристку.
Саша придает своему лицу выражение крайне озабоченное, кладет руку на плечо не менее озабоченному Кириллу и качая головой предлагает:
— Ну не знаю, может тебя нарядить? Девица хоть куда будешь, особенно, когда напудрим тебе нос. Ты сам как разумеешь?
Лиза хохотнет, представляя на миг их серьезного Кирилла Андреевича в женском платье. Семен-то выглядел в нем обычно нелепее некуда, хотя получалось у него лучше остальных, а тут… На силу придавая своему лицу серьезность, Лиза пресекает любые возможные возражения:
— Кирилл Андреевич, перестаньте. Мне конечно лестно, что в отличие от моего брата вы переживаете обо мне, но пустое, правда. Каких же девиц вы здесь найдете, кто справится с этим лучше меня? – она делает оскорбленный вид, а после губы тронет лукавая улыбка. — И потом, Саша прав – платья мне идут не меньше, чем мундир. И к тому же, разве мы с моим братом никогда вам не рассказывали, что мы играли в нашем придворном театре?
____________♠♠♠____________
Весенние сумерки ненасытны, затягивая так быстро еще залитое солнцем пространство в свои объятия. Воздух прозрачно темен и прозрачно светел.
Сумеречный оловянный свет после захода солнца словно свет, который выскочил из каких-то тисков да и так остался самим собой. Высилось недоступностью небо: голубая дымка дня поднимается, чтобы показать звезды. Когда ночь совсем опускается, звезды начинают сиять словно сахар пролился на черный мрамор, блестящий на солнце. Ночное небо становится таким желанным зрелищем, которое казалось волшебным на каждом закате и обещало вернуться, погасая в первом свете рассвета.
Этот свет долго умирает внутренней темнотой, равномерно опускавшейся на землю и в итоге полностью ее укрывшей. Силуэтнее становятся деревья, дома, предметы, всё декоративнее и неправдоподобнее, и всё ярче светится словно вырезанная близкая и понятная луна: уходит пространство вверх.
С зеленью непривычно ощущение холода, непривычен холод при ярком солнце над раскинувшимся устойчивым пространством, подробным и темным. Словно местность и солнце сами по себе. А даль ясна, воздух чистый сам удлинял взгляд.
Перед заходом солнца, когда всюду от изб и деревьев длинные тени, так светло - как в полдень. Сумерки после солнечно-ветреного дня - движение медленное и ровное. Силуэты деревьев ближе и мягче: распускаются листья.
… Уже низко светила луна, обозначая льдинисто края туч; по ручьям и лощинам собирается холод в заморозки... Где-то в низине в садах пел соловей. И как чудесно он пел, заливаясь одному ему понятной песней, возможно о той самой розе, в которую он столь безнадежно влюблен.
Лизе кажется, словно она ютится вовсе не в стогу сена, а где-то на пуховой кровати - вот насколько она в действительности устала. На сене правда что ей спать ещё не приходилось, разве что однажды в далёком детстве она уснула где-то в конюшне, но толком ничего и не помнит, так как ее обнаружили раньше, чем она проснулась, да и была она слишком маленькой. Совсем иное дело сейчас — развалиться прямо под звездным небом, которое с такой лёгкостью проглядывалось сквозь огромную дыру в соломенном навесе, именуемом крышей. Лиза слышит совсем близко лошадиное ржание, а где-то кажется намного дальше разгульные песни постояльцев, хлопанье дверей и лай собак. Но здесь, под звёздами, мир совсем другой. И она даже не жалеет о том, что им не нашлось комнаты. В голове всегда предстает душная комната трактира, где пришлось в свое время оставить Сашу, а здесь хотя бы можно дышать воздухом, а не дешёвым вином.
Саша удивительно быстро заснул. Сначала, правда устроил целую выволочку Кириллу, которая заключалась исключительно в том, что тот считает его, Сашу, алкоголиком, а кончилась категоричным заявлением Лизы, что она бы сама его к выпивке более не допускала. Саша поворчал немного, сподобился сходить проверить своего ненаглядного Плутона и убедившись, что с конем все в порядке просто уснул.
Теперь он сопел где-то у них с Кириллом под боком и выглядел все одно что невинным младенцем - во сне черты его разглаживались, он улыбался и Лиза почти не сомневалась в том, что ему снится Наташа. И от того не решилась его будить, хотя так и хотелось ткнуть того в бок - уж слишком громко он захрапел.
Лиза думала по началу, что заснёт сразу же, как только тело примет вертикальное положение, но то ли события нескольких прошедших дней не хотели отпускать до конца и какое-то радостное возбуждение не оставляло ее, то ли воздух на улице ночью был слишком прохладным и заставлял скорее бодроствовать нежели отдыхать.
Она разглядывает небесное полотно лёжа на спине, сама того не замечая, как мысленно отмечая то или иное созвездие, угадывая ту или иную звезду, наслаждаясь их серебристым сиянием.
— А вот это созвездие Лебедя, вон прямо над нами. В виде креста, — она тычет пальцем в небо, тесно соприкасаясь плечом с плечом Кирилла. Говорит совсем не громко, из-за чего приходится прислониться едва ли не к уху. Но это только чтобы не разбудить Сашу [впрочем меры излишние - спит он в отличие от Лизы всегда крепко и его простым разговором не растолкаешь]. — Всем в детстве нравится по облакам угадывать разных животных или предметы, а мне по звёздам. Ведь если присмотреться, то это вовсе не крест, а летящий лебедь. Гляньте, какая длинная у него шея! - и лицо расплывается в восторженной детской почти улыбке, словно и правда черный небесный бархат рассекает белоснежная птица - символ верности двух влюбленных сердец.
Бывает такое время, когда думается тебе, что все по плечу. И море можно переплыть и вызволить друга из беды и все непременно получится. А поэтому, от чего ж на звёзды не полюбоваться?
Они оба помолчат, вглядываясь в это небо, усыпанное мелкими бриллиантами-звездами, оба не спят, а она неожиданно понимает, что молчать может быть даже не неловко. Совершенно необязательно при этом разговаривать о пустяках, можно просто лежать рядом и уютно молчать. И что все же за диво этот Волконский, умудряющийся неизменно выслушивать ее болтовню о кораблях, бессмысленных мечтаниях о приключениях и счастливой жизни, а теперь ещё и читающий стихи. И не просто какие-то ироничные памфлеты или милые четверостишия, непременно посвященные любимой, а Шекспира. Во дворце у нее осталось пара томиков английского поэта, которого как она думала даже никто и не знает здесь, в России.
Лиза поворачивает к нему голову, прекратив звезды разглядывать, слушает его почти завороженно, подложив ладонь под щеку. И не хочется, чтобы он заканчивал, хочется чтобы читал ещё и ещё, декламируя по памяти, поэтому совершенно искренне вырывается у нее под конец:
— А расскажите ещё! У вас так хорошо выходит.
От чего вы так редко читаете стихи? - она отвернется на миг, потом снова посмотрит на него с лукавой улыбкой на губах. — Вот теперь не отвертитесь, буду просить вас читать стихи! - она хлопнет было в ладоши, но быстро опомнится от того как Саша сонно перевернется на другой бок. Невыспавшийся старший брат был ещё хуже временами, нежели с похмелья.
Они снова замолкают, но на этот раз у нее в голове вовсе не блаженная пустота, вовсе не желание просто помолчать восторженно разглядывая небосвод, а целая вереница вопросов и невысказанных ещё до селе никому мыслей.
— Это 14 сонет. Все понимают его как необходимость иметь потомков, чтобы дальнейшем то, что ты приобрел не кануло в Лету. "Ты вырезан искусно, как печать, чтобы векам свой оттиск передать", - Лиза тоже цитирует уже другой сонет, задумчиво разглядывает то небесную твердь, то собственные руки, рассеянно подмечая скопившуюся грязь под ногтями. — Я всегда думала, что это значит, что для того чтобы правда и красота процветали, распространялись в мире, тому, кто обладает ими, кто понимает, в чем они заключаются, следует стараться содержанием, которое есть в нем самом, наполнить и других людей, в том числе, естественно и своих детей, но, очевидно, и не только своих детей... Понимаете? — пытливо заглядывает ему в лицо, неожиданно пылко и поспешно рассказывая свои мысли, которые до селе казались детскими или по крайней мере не важными. Она смотрит так, словно тот факт понимает он ее или нет, является вопросом едва ли жизни и смерти. Добавляет, отворачиваясь и вместе с ним разглядывая далекий небосвод и последнее выходит как-то уже совсем грустно. — Мне говорили, что это глупости. Знаете, Кирилл Андреевич, что я вам скажу. Пожалуй, у вас есть удивительная способность давать людям уверенность в том, что они говорят нечто значимое и что в том во что они верят действительно есть смысл. Ну, или вы просто очень хороший слушатель. И не спорьте! – поднимает ладонь вверх не позволяя заспорить со своей царственной персоной. — Это великое искусство, особенно с женщинами: мы требуем, чтобы вы внимали нам не только слухом, но и глазами, и скорее простим всякую глупость, когда вы нам говорите, нежели рассеянность, когда вы нас слушаете.
Он не поворачивается к ней, когда она произносит это, а она лишь крепче жмется к чужому плечу тихо шмыгая носом от неожиданно накатившей к ночи прохладе. Со стороны трактира послышится ругань – возможно кто-то снова не поделил выигрыша в карточной баталии, а может это и хозяин корчмы решает выгнать совсем уж зарвавшихся господ вон. Взгляд невольно упадет на офицера и его спутницу, слившихся в страстном поцелуе где-то у окон, заставляя мгновенно отвернуться и вернуться к созерцанию звезд. Кирилл Андреевич, видимо тоже услышал пьяные перебранки и вновь превратился в того самого серьезного подпоручика, который казался столь милым в своей заботе о ее персоне.
«…такой звезде как вы». Лиза прячет улыбку, которая готова была сорваться с губ, прячет, чтобы он не решил, что она решила над ним насмешничать. С другим она бы пожалуй и пококетничала после таких слов, но лишь потому, что была бы совершенно уверенной в том, что этот другой делал такой комплимент миллионы раз. А Кирилл Андреевич, кажется, действительно считает ее звездой. Он произносит это с такой грустью, будто действительно сожалеет о том, что ее сияющая особа спустилась вниз и словно бы он в этом виноват. Разве можно с такими людьми быть неискренней?
— А где место для звезды? — она спросит об этом таким терпеливым, почти ласковым тоном, словно хочет переубедить в чем-то упрямого ребенка. Голос становится тише и задумчивее, она следит за его взглядом, остановившимся на какой-то одиночной звезде, название которой вылетает из головы. — На небосклоне, в окружении таких же звезд, обреченных находиться в небе? Молчаливо взирать на землю и просто сиять? Быть предметом недостижимого восхищения? Но, Кирилл Андреевич, — так странно, всегда в этой обращении словно бы лежало нечто большее рядового имени. Так странно, что ей не удается называть его просто Кирилл, как она всегда звала своих пажей, как звала по имени Васю или даже иногда Апраксина. Словно этим полным и таким уважительным обращением хотелось показать нечто значительное. — однажды даже звезда срывается вниз, чтобы оказаться на земле. А значит – земля того стоит, какой бы не поэтичной и неподходящей для погасающей звезды она не была. И вообще, — она несколько повысит голос, несколько повеселев. — я не звезда. Для этого у меня слишком много пороков, а вы мне льстите. Батюшка звал меня Светлячок. А Сашка – Пташкой. Быть птицей лучше – лететь куда хочу. И тем более, есть ли мне о чем волноваться, если рядом вы с Сашей? Если уж я звезда, то вы не дадите мне упасть, верно?
Он снова улыбается, в такие минуты его лицо неуловимо менялось, светлело и черты становились еще более выразительными и от того привлекательными. Наверное, его улыбка стала для нее особенной хотя бы потому, что видела ее только она. Она видела множество улыбок, адресованных ей знакомыми и незнакомыми людьми, но зачастую это улыбки были безупречно-вежливыми. Эти улыбки были идеальным примером светской условности: губы растягивались ровно настолько, чтобы обнажить ровный ряд белоснежных зубов. А у него совсем иначе. Позже она начала понимать, что в этом мире все спрятано – конфеты в разноцветных шуршащих обертках, тела, укутанные в одежду, презрение, завернутое в улыбку. Все было спрятано. И только он, казалось сейчас, под этим звездным небом вместо крыши над головой, совсем ничего не прятал. Даже своего волнения за ее персону.
Он улыбнулся, и морщинки опять устремились в уголки его глаз. То была очень чистая, прямая улыбка человека с открытой душой. Но вряд ли дело только в ней. В нем всё же есть тайна. Она — в ларце, запертом на ключ и зарытом в землю.
— А вы много других барышень знали? – Лиза лукаво сверкнет прохладно-зелеными глазами в его сторону, слегка укалывая его за эту фразу и отчасти наслаждаясь этой реакцией. — Иногда меня съедает любопытство, как так вышло, что ваше сердце никто не привлек? Кажется, что сейчас у каждого есть кто-то на сердце, а я ведь даже не знаю, кто вам м о ж е т понравиться. Вот Саша всегда любил худеньких и светловолосых. И глядите – скачет за своей Наташей. А вы? Я право теряюсь в догадках, — Лиза хохотнет, помолчит пытливо всматриваясь в его лицо, но очевидно не ожидая скорого ответа на свои вопросы. У Саши, кажется, с этим тоже ничего не вышло. — Вы читаете стихи так хорошо, что заслушаешься, играете на фортепиано, вроде бы ничего особенного, но сердце замирает, а если бы улыбались чаще, девушки бы наверняка потеряли бы сон и аппетит… — Лиза загибает пальцы. — вы совсем другой, Кирилл Андреевич, ни на кого не похожий. И откуда вас Саша откопал ума не приложу. Но хорошо, что откопал, — она заканчивает свой короткий монолог, удобнее укладывается на сене, вдыхая носом горьковатый запах свежескошенный травы и теплый запах овса. Нет, определенно так намного лучше, нежели ютиться всем втроем в одной тесной комнате, закрываемой только на деревянный засов и каждый раз вздрагивать от того, как мимо проходит то половой, то очередной постоялец, задыхаясь от витающих в воздухе ароматов.
Он, наконец поворачивается к ней, она тоже оборачивается, встречаясь взглядом с серыми глазами-тайнами. В них все равно упрямой серой, в окружающей их темноте кажущейся черной, туче, штормом плескалось беспокойство. Ей хочется спросить от чего он все же так переживает? От того, что его долг как офицера защищать многострадальную императорскую семью также, как он защищает страну? Ну так что же, это семья его можно сказать заставила. От того, что она сестра его хорошего друга, а он желает быть с ней в хороших отношениях? От того, что женщин следует защищать?
«Ну уж точно не из-за твоей персоны, Елизавета Петровна, с чего бы в конце концов? Пока ты только и делала, что выставляла себя самым нелепым образом».
Их лица настолько близко, что придворная дама матери непременно бы заявила бы о том, что это уже почти неприлично. Да даже не так, что это совершенный уж разврат.
Их лица настолько близко, что она могла бы сосчитать точное количество черных длинных ресниц, обрамляющих глаза, в которых теперь впервые замечает голубоватые вкрапления [или это от звезд мерещится?]. Чужое дыхание касается фарфоровой кожи лица.
Лиза смаргивает лунный свет с ресниц и не отрывая от него внимательного взгляда снова мягко возражает:
— Кирилл Андреевич, право, и что же вы другое придумаете? Возьмете дворец штурмом? Или же переоденете в камеристку Сашу? Мой брат красив, это всем известно, но не настолько, — она улыбнется и выразительно посмотрит через плечо на беззаботно храпевшего цесаревича. — И потом, — она помедлит немного, серьезнеет и смотрит на Волконского уже совсем прямо. — Наташа мой друг. Почти сестра. Я хочу ей помочь и помогу, так что даже не пытайтесь меня отговаривать. У вас все равно не получится! – последнее произносит с железной уверенностью, она поерзает щекой по сену. Сено чуть покалывает нежную кожу, но не более того.
Она вздрагивает как только хлопнет дверь где-то позади них, что-то между ними мгновенно нарушается, словно кто-то разбил тонкую хрустальную стену. Или быть может не нарушается вовсе, а скорее становится по-прежнему. Лизе на секунду одну вспомнилась их самая первая встреча в лесу, вспомнились все те же глаза, заглядывающие, казалось, прямиком в душу. Наверное и хорошо и правильно, что он отвернулся. Мало ли, что в ее душе можно было прочитать. Особенно из того, что она сама до конца не понимает.
Прежде чем отвернуться, правда, укутывает ее своим плащом и, видимо собирается засыпать. Она не успеет даже прошептать: «А вы разве нет?», потому что разговаривать со спиной как-то не получается. Лиза еще немного полежит, укутанная двумя плащами [а так и вправду теплее], прежде чем сомкнуть глаза, переворачиваясь на бок и прижимаясь к чужой спине. Раз уж вздумал благородно замерзнуть, пожертвовав плащ даме [Лиза отказывается верить, что ему может быть в таких обстоятельствах куда привычнее, нежели ей], то необходимо согреться хотя бы так.
Ведь так – теплее.
Поделиться142024-05-20 20:44:54
***
Я просыпаюсь от того, как с навеса, который служил нам этой ночью крышей [но я бы все же не называла это строение таким образом благодаря огромной дыре прямо над головой], на нос падает капля росы. Так странно – заснуть только глубокой ночью и мгновенно проснуться ранним утром, ощущая себя бодрее некуда, хотя на сон ушло не больше нескольких часов. Глаза распахиваются, привыкая к хмурой утренней полумгле, в первую секунду, правда, я даже толком и не понимаю, где нахожусь. Почему вместо потолков с плафонами, изображающими античные сюжеты надо мной утренний полумрак? Почему вместо одеял на лебяжьем пуху меня укрывает самый простой плащ? И почему в конце концов рядом со мной всего в паре-тройке сантиметров лежит не абы кто, а Волконский собственной персоной с безмятежно-спокойным лицом человека, который видит десятый сон и не думает просыпаться?
Я смаргиваю каплю с ресниц, зачем-то задерживая дыхание, чтобы не дай боже не разбудить его очевидно слишком громкими выдохами – кто знает насколько чутко он обычно спит, а наше положение секундой ранее было до того двусмысленным, что пришлось бы объясняться как оно вышло. А я ведь знаю, успела понять, что извиняться почти наверняка будет он, хотя почти не сомневалась, что это именно я во сне мало заботясь о правилах приличий обняла его за место отсутствующей подушки. Еще чего недоброго его отчаянное благородство [как иногда характеризовал эту черту Сашка] будет считать подобную ночь поводом для «защиты чести девушки». Или же ее поругания. И единственное, в чем мне, пожалуй, невероятно повезло, так это в том, что капля скопившейся на соломенном навесе влаги упала именно на меня, разбудив тогда, когда рассвет только показывал румяное лицо где-то у горизонта.
С величайшей осторожностью я отодвигаюсь чуть дальше, сено предательски зашуршит грозясь выдать меня с головой, аккуратно убирая руки с плеч, которые оказывается так удобно было обнимать ночью, спасаясь от очевидного холода. Как странно, я точно помнила, что засыпала лицом к его спине и уж точно держала руки при себе. Сейчас же наши лица были повернуты друг к другу и я все еще ощущала его легкое и спокойное дыхание на своей щеке. Он спал. А я нет.
С самого детства я верила рукам. Глаза могли врать, губы и вовсе произносили ложь с заметным постоянством. Но руки никогда не врали – они дрожали, когда волновались, их кожа была мозолистой, если они действительно умели обращаться со шпагой, они оказывались невероятно ласковыми, если действительно любили. Мне нравилось протягивать руки к незнакомым и знакомым людям, ощущая ладонями чужое тепло или чужой холод, первой из сестер неслась к отцу, чтобы обхватить его лицо руками и чмокнуть в щеку, чтобы услышать его раскатистый смех [может отцу и нравилось во мне то, как смело я это делала], я сжимала чужие руки в своих, будто полагая, что именно благодаря этому действию мои слова возымеют больший эффект. Чтобы стать с человеком ближе мне всегда было категорически мало просто красивых слов – прикосновения оказывались красноречивее. Мне невыносимо были необходимы прикосновения. Только это спасёт, только это спасает. Ладонь по коже, ладонь, согревающая нутро лишь повторяя контуры тела, заставляющая кровь бежать чуть быстрее. Это зовется нежность, это зовется нужность, хоть это слово и пропущено в известных словарях, которые начали печатать по отцовскому указу. Мне необходимо чувствовать чьи-то руки на себе. Мне необходимы чьи-то линии жизни, отпечатанные в ложбинке пальцев. Может быть именно поэтому меня ужасно расстраивал тот факт, что Иван Дмитриевич оказывался в высшей степени осторожным здесь и сам редко брал меня за руку, хотя мне временами безумно хотелось дотронуться, ухватиться, что в итоге я и делала, допуская, впрочем, что не всем это нравится. В любви самые красноречивые это не слова, это прикосновения. Прикосновение слишком многое открывает о человеке. Может поэтому иногда касаться можно разве что во сне.
Человек напротив меня все еще был загадкой, но не одной из пугающих тайн, которые лучше не раскрывать и все же. Сейчас он спал, лицо оказалось расслаблено и даже морщинка серьезности между сведенных бровей разгладилась и он казался совсем юным, что в общем и соответствовало его возрасту – Саша был несколько старше. А вообще, как известно все, что происходит во сне – там и остается.
Я бы могла просто отвернуться. Нет, нет так – мне с л е д о в а л о отвернуться, лечь как можно дальше и не делать глупостей. Но, подтверждая мысли матери относительно того, что я и глупость ходим рука об руку, я ничего такого не делаю, просто тихонько выдыхаю, прикусывая нижнюю губу пристально вглядываясь в очертания волевой челюсти, длинных ресниц, прикрывающих серые глаза и прямые брови.
Я никогда не забуду, мы оба не забудем, как смотрели на лица друг друга. Потому что это было как заглянуть в лицо самой любви.
Во сне позволено все – можно летать, можно бегать босым прямо по дворцовому паркету, можно выйти замуж по любви, а можно протянуть руку, осторожно касаясь кончиками пальцев вновь вьющихся у лба каштановых волос, выуживая из них остатки колкой соломы. От этих легких, почти эфемерных прикосновений он к счастью не просыпается, а я продолжаю осторожно касаться чужой кожи, прохладной после ночи проведенной под открытым небом. И все эти действия кажутся нереальными, потому что сон, который казалось ушел сразу же, как треклятая капля упала мне на лицо испарился, вновь вступал в свои права, а глаза начали слипаться. Пальцы касаются подбородка, едва-едва покалывает подушечки – бриться здесь было негде и некогда. Взгляд падает на его губы, сомкнутые и тоже расслабленные в этой дреме, которая еще немного и наверняка спадет. Я на самом деле уже касалась их, да в этой глупой истории с чёртами и сужеными, которые так и не явились ко мне несмотря на совершенно верное проведенное гадание – во все это и вправду не стоит верить.
Одергиваю пальцы, руку, сон снова проходит, а в голову ударит первая вполне ясная и холодная мысль: «И что ты делаешь, черт возьми?». Да, Кирилл совсем не похож на мужчин, которые падали к моим ногам, да иногда мне хотелось знать, что творится в его голове и он интересовал меня все больше и больше, но это уже совсем не было поводом для подобных…телодвижений. Я тихонько шлепаю себя по щекам, прежде чем выползти из-под его плаща, встать на ноги и оглядеться. Попытка встать, впрочем, отдавалась весьма неприятными ощущениями в спине и ногах, словно я весь день перетаскивала с место на место тяжелую дворцовую мебель.
Утро только зачиналось, поэтому на постоялом дворе было совсем тихо. Вчерашние скандалисты и выпивохи разошлись спать по разным углам и еще видно не проснулись, собаки затихли в своих будках. Слышалось только негромкое фырканье лошадей, да поскрипывание ворот – местные босоногие мальчишки уже носились туда-сюда видимо по указке хозяина, таскали за собой деревянные ящики с тем самым лифляндским пивом – с заднего двора, где мы обретались были видны их чумазые лица. Мое лицо, впрочем, наверняка не отличалось чистотой.
Еще раз хлопну себя по щекам, прежде чем, немного подумав стянуть с плечей чужой плащ, осторожно накрывая им Волконского, молча переходя под теплый бок старшего брата, обнимать которого если что будет совсем не предрассудительным. Весеннее утро все еще прохладное, зябко пожимаю плечами, стягивая плащ уже с Саши, справедливо полагая, что он сможет спать и так, закутываясь в его плотную, грубоватую ткань и плотно закрываю глаза, надеясь, что сон вернется. По крайней мере теперь я не стану делать г л у п о с т е й. Но сон предатель и приходить отказывался, словно обидевшись на то как бесцеремонно его прогнали, а щеки продолжали пылать так, словно на них солнце светит.
Я лежала спиной, но слышала, как позади меня Кирилл поднялся с сена, отправляясь внутрь постоялого двора. В голове завертится мысль о том, а правда ли он спал, пока мои руки творили черт знает что или только притворялся? Нет, Кирилл Андреевич не такой, не может такого быть. Но зачем в такой ранний час идти туда? Я незаметно приподнимаюсь, провожая знакомую фигуру взглядом до двери, прежде чем вновь улечься на свое место подле Саши, закрыв глаза. Но сон больше не шел.
____________♠♠♠____________
Это было самое что ни на есть обычное платье, в котором улавливался запах дешевых духов, которыми Луиза [а именно так звали их спасительницу, которая рассказала это исключительно Лизе] очевидно пользовалась, то ли чтобы перебить ароматы витавшие в воздухе корчмы, а может чтобы привлечь какого-нибудь более или менее благонадежного господина [она сама сообщила, что «абы с кем в постель не ложится» и право слово Лиза пережила бы как-нибудь без этой информации]. Несколько раз девушка обходила Лизу, покорно стоящую в центре комнаты, несколько раз критически цокала языком и впервые Лизе казалось, что кто-то может быть недоволен тем, как она выглядела. В очередной раз зайдя ей за спину и еще раз поцокав языком, словно увидела там таракана заявила критически:
— В груди оно вам, барышня, велико, надобно сильнее затягивать.
Лиза, положа руку на сердце, стерпела бы такое замечание в свой адрес, потому что в конце концов Луиза понятия не имела кому такое замечание делала, да и потом оно было вполне справедливо – такими формами она не отличалась. Стерпела бы, не стой в дверном проеме эти двое, вместе с чашками кофе и очевидно все слышащие. Слышавшие, как только что заявили, что фигурой в области груди она явно не удалась. Саша, который до этого момента морщился от каждого глотка напитка, видимо только отдаленно напоминающего кофе, прыснул в кулак, а она, извернувшись, бросила на него взгляд, который определенно должен был сразить наповал в прямом смысле этого слова. Шли бы оба к лошадям в конце концов, а не пялились на то, как ее пытаются сделать камеристкой переболевшей оспой, да еще и к тому же очевидно плоскогрудой.
Луиза то и дело бросала внимательные взгляды на сосредоточенное лицо Волконского, Лиза заметила это сразу же, а теперь попросту не могла не обращать на это внимание. Очевидно, что он ей приглянулся. Удивительное дело – обычно барышни не могли пройти мимо именно Саши, считавшимся прекрасным царевичем, вышедшим из сказки, а этой девице явно приглянулся Кирилл, прятавший свое лицо за слишком маленькой для этого действа чашки. Нет, все же какой удивительный человек – остается совершенно равнодушным к таким ее намекам, хотя они вроде бы ни к чему его не обяжут. Противно конечно, но все в ее окружении жили по подобным понятиям. Измена жене с падшей женщиной даже изменой не считается.
Лиза подтягивает руками платье повыше, пока его пытаются получше зашнуровать, а Луиза, видимо окончательно оскорбленная тем фактом, что ее отказываются замечать, начинает вертеть и крутить ее в разные стороны так, что еще немного и затошнит. Лиза промолчит о том за какие только места ее не ущипнули, словно породистую лошадь, выискивая какие-то недостатки. Иногда во время этих переодеваний ей казалось, что каким-то образом ей за что-то решили отомстить. Возможно за то, что Кирилл Андреевич отказывается обращать внимание на ее персону, а смотрит исключительно на черную жижу, именуемую здесь кофием, словно он цыганская гадалка, о которых так много знает Варя. Ну, или же на нее, на Лизу, предусмотрительно глядя в ее лицо [взглядов на свою грудь она бы не вытерпела в нынешних обстоятельствах и выставила обоих вон].
«Ваш друг меня очень хорошо попросил о помощи…» - неожиданным обухом по голове ударит эта невзначай сказанная фраза, заставляя мгновенно вскинуть глаза, в которых поселяются огоньки пламени.
Очень х о р о ш о попросил.
Вот значит как.
Фраза, сказанная таким тоном не может же означать, что он просто это попросил? Не встал же он на колени в конце концов. А значит «хорошо просить» можно только одним способом, всем мужчинам известным.
Лиза чувствует, как из груди к лицу поднимается волна жара и надеется, что собственного покрасневшего лица никто не заметит, списывая это на духоту, царившую в комнате Луизы, захламленной многочисленными обрезками ткани, дешевыми пудреницами и коробками с лентами. Она жила этажом выше корчмы, в общем-то чистой, но маленькой комнатке, меблированной кроватью и зеркалом с трещиной по поверхности.
Бросает быстрый, оценивающий взгляд на Волконского, который очевидно только что поперхнулся кофе. Саша, весело присвистнув и тоже очевидно на что-то намекая, похлопает того по спине, выгибая бровь, мол, не ожидал, брат, но уважаю.
Раздражение становится сильнее, так и хочется хлопнуть дверью перед носом этих двоих, отобрать расческу у Луизы [все равно следовало бы ее поблагодарить за помощь – она смогла нагреть ей воды в таз и Лиза наконец умыла лицо] и больше никогда не верить в идеальность мужчин. Ни один мужчина не может устоять перед определенными соблазнами, которые предлагает ему жизнь. Подумаешь – нарисовала себе святой образ в голове Волконского, а он возьми и «хорошо попроси» у местной пышногрудой и черноокой девицы платье. Да уж лучше, чем носить такое платье, она забралась в Наташино окно по дереву, одетая в мешок из-под репы!
Лиза хмурится, поджимая губы и провожая поспешно ретировавшегося с места преступления Волконского пристальным взглядом потемневших зеленых глаз. А после по-новому взглянула на суетившуюся вокруг нее Луизу, неожиданно умело орудовавшую иголками и завязками. Чем-то она напоминала Варю – тоже черноволосая, ее волосы тоже вились, а взгляд то и дело укутывал тебя томной волной сладострастия. В общем – полная противоположность самой Лизы. В отличие же от Вари Луиза была шире в плечах, ниже ростом и, как уже неоднократно Лизой подмечалось – с плавными, женскими формами тела. «Не пристало девице быть слишком худосочной. Нужно чтоб было за что ухватиться» - как говаривал батюшка, вынуждая всех придворных смеяться, хотя матушке зачастую и было не до смеха. Лизе сейчас, впрочем, т о ж е.
«Так вот значит какие девицы вам нравятся, Кирилл Андреевич? Нет, право, я была лучшего о вас мнения…».
Саша, выливая недопитый кофе в окошко-бойницу и славливая весьма недовольный этим фактом расточительства взгляд их союзницы напротив, не стремится следовать за своим другом, а проходит в комнату, прислоняясь к двери и облокачиваясь плечом о косяк. Лиза несомненно эту позу знает – он всегда так делает, когда хочет высказаться, будучи точно уверенным, что не ошибается. В такие минуты на его лице застывает почти что самодовольное выражение, все тело расслабляется, словно он решил какую-то задачку.
— Благодарю вас, сударыня, прекрасно вышло, — он кивает головой на Лизин внешний вид, а после, тон неуловимо изменяется, становясь чуть прохладнее, но все таким же безукоризненно вежливым. Сашина вежливость временами прямой указатель на его же раздражение. — Один вопрос, впрочем меня мучает. Мой друг был в корчме совсем недолго, очевидно прося вас о помощи… — он говорит словно сам с собой со всей серьезностью на которую способен. А после переводит взгляд на Луизу. Взгляд голубых и таких обычно лучистых глаз становится невероятно холодным. — Но в таком случае, ваш намек на веселое времяпрепровождение неуместен, ведь такого времени недостаточно, даже чтобы расшнуровать корсет, уж не то что… — он бросает предупреждающий взгляд на Лизу, которая, кажется вся обратилась в слух, кашлянет, вспоминая, что при младшей сестре такие фразы продолжать не стоит. —… х о р о ш о п о п р о с и т ь, уж я то знаю,— довольный собой он заканчивает эту фразу, протягивает Лизе раскрытую ладонь, уводя из комнаты вон и прикрывая за собой дверь.
Лиза, отчего-то повеселевшая снова, остановит его на пыльной шаткой лестнице за рукав, пытливо вглядываясь в родное лицо:
— Так ты ему скажешь, что мы поняли что это недоразумение?
Он весело отмахнется, голубые искры запляшут в глазах. И правда, с тех пор как они затеяли все это перед ней вновь сверкал широкой улыбкой ее брат, а не его хорошая подделка.
— Вот еще – ведь наблюдать за его краснеющим лицом, та еще забава! Боже, предположить, что наш Кирилл Андреевич, станет развлекаться с девицей в корчме… Какой же вздор! – он отвернется, продолжив спускаться вниз, насвистывая какую-то бодрую армейскую мелодию.
Лиза, все еще отчего-то счастливая выпорхнет следом за ним, заметит Волконского, все еще мерит шагами устланный соломой постоялый двор, не особенно долго думая бросаясь ему на шею, словно они у ж е освободили Наташу, а теперь можно и праздновать. Светясь от только ей понятного счастья [«не такой, не разочаровал, все таки именно такой, каким и представляла!»], она отрывается от него и, покрутившись на одном месте вскомандует:
— Ну что же вы, господа, пора отправляться в конце концов!
Саша, на вопросительные взгляды своего друга только пожмет плечами, мол: «Даже не знаю, что это такое было».
____________♠♠♠____________
Саша провожает взглядом уходящие прочь от него силуэты, разрываясь буквально от желания броситься следом, послав возражения Волконского куда подальше. Но нет, он стоит на месте, скрываясь за высокими кустами сирени, ещё не начавшей цвести, плотнее поджимая губы и мучаясь от бездействия. Но Кирилл все же был прав — если Лизу, лицо которой плотно скрывала накидка не узнают, то его, проводившего в этом дворце когда-то каждое лето узнают непременно и что, черт возьми тогда?
Саша вздыхает, устало падая на траву, рядом с речкой Стрелкой, в которой в детстве учили его удить рыбу, срывая случайный белый цветок и рассеянно глядя на проплывающие беззаботно по нему облака. Так странно не иметь возможности попасть внутрь свободно, являясь хозяином всего этого.
Дворец этот знавал времена получше, а теперь скорее походил на скромную усадьбу, ничем от прочих столичных мест не отличающуюся. Скромный деревянный фасад, выкрашенный в любимый отцом жёлтый давно нуждался в обновлении – Саша помнит, что они окончательно перестали ездить в Путевой дворец близ Стрелки потому, что по ночам комнаты отказывался покидать едкий запах плесени, а с крыши начинало течь. И нет, дворец бесконечно подвергали ремонту, но к тому времени появился Петергоф и жёлтый деревянный домик превратился скорее в перевалочный пункт между столицей и прекрасным Петродворцом. А так как императорская фамилия стала наносить визиты туда намного реже, то и надзор стал осуществляться хуже — Саша успел заметить как заросли некогда ухоженные лужайки, а со ставней так и сыпалась вниз белая краска. Ворота очевидно не помнили смазки столь давно, как впрочем и двери, что даже с его места можно было расслышать, как они тревожно и грустно поскрипывают. Сюда сплавляли неугодных родственников, которых не желали видеть в столице по тем или иным причинам, местные слуги бродили по территории словно сонные мухи.
И все же, во всем этом откровенном безобразии просматривалось все то же место из детства. Отсюда отец ездил в Кронштадт, проверяя готовность флота, посещал Ораниенбаум. Сюда же впервые привез картошку, заставляя употреблять ее в пищу три раза в день. Отец любил это место и потому, что оно как и вся впрочем страна было площадкой для его экспериментов, где он выращивал семена привезенных из-за границы овощей, строго наблюдая, чтобы все высаживалось в точности, как он это задумал. Он заставлял закупать редкие семена управляющих, если не привозил их сам, а после требовал отчётности о том, что где выросло, а если же не выросло, то почему. Все конечно же за глаза роптали, зато на столе в летнюю пору всегда были спелые томаты, редис, огурцы и даже заморские артишоки. «Что мы, хуже голландцев или французов?» - весело говорил он, трепля сына по светлым волосам очень гордый своей забавой. Для него эти огороды и сады, наполненные яблоками, грушами, вишней и крыжовником, которые они в детстве таскали прямо с ветвей, было все одно что его любимым флотом. В воздухе до сих пор витал медовый аромат с пасеки, устроенной на территории, хотя черт его знает сколько ульев осталось целыми и кто за этим присматривает. К медовому аромату примешивается знакомый теплый запах цветущих лип – вечерами они неизменно пили здесь чай [отец всегда пил кофе].
Пожалуй, яблоки ещё не завязались, но сами яблони стояли словно невесты в белоснежных и нежно-розовых нарядах, перекликаясь с вишнями, осыпающимися на землю белыми лепестками будто снежными хлопьями. Все цвело и благоухало само по себе, словно бросая вызов тем, кто оставил все в запустении. Когда-то эти сады считались образцовыми. Но что же взять с садов, если сам император и хозяин всего этого увядает?
Природа буйствовала, наполняла лёгкие знакомыми с детства запахами вербены и нарциссов, била в глаза яркими красками тюльпанов, привезенных из Голландии – первыми цветами, которые имели способность цвести в эту пору, благоухали медом кустики черничного и лилового алиссума, в ящиках, прикрепленных к белым деревянным перилам, пестрыми огоньками цвели перламутрово-розовые, алые, кремовые, малиновые анютины глазки.
Природа спасала это место от неприглядного взгляда, спасала забытый всеми дворец, который на фоне этой весенней поющей, цветущей, медово-пахнущей весны даже как-то преображался.
Он бросит в речку камень, пустит на удачу «блином». Тот подпрыгнет всего пару-тройку раз и скроется в журчащей весело воде. Водятся ли здесь, как раньше карпы с форелью или и они уплыли прочь, в поисках лучшего места для жизни? А может наоборот ужасно расплодились.
Плутон, щиплющий траву поблизости, толкнет задумавшегося хозяина мордой, словно пытаясь растормошить или же ожидая привычного лакомства – паршивец, знает ведь, что у Саши в любой одежде спрятано пару кусочков. Обдаст тёплым травяным дыханием лицо, ущипнув за плечо и фыркнув громко, заставляя таки расщедриться на угощение.
— Больше нет, не проси, — предупреждает коня так, словно тот может понять. А Саша отчего-то и не сомневался никогда, что может. Не появись а его жизни Волконский столь внезапно, вороной так и остался бы единственным верным товарищем. Конюхи исходились в многочисленных жалобах, ведь «сладу с этой зверюгой нет, Ваше Императорское Высочество!». Пожалуй, все бы с великим удовольствием избавились бы от этого животного, но он не позволит пока жив. А жить он собирается долго и желательно счастливо.
Счастливо.
Счастливо не получится, пока он не исправит то, за что в ответе. Может и не надо было приплетать сюда Кирилла, как потом тот будет объяснять куда запропастился сразу на несколько дней [впрочем не стоило и надеяться, что тот примет его помощь в этом вопросе, упрется ведь рогами словно баран] и уж конечно нужно было оставить дома Лизу, но теперь выходит, что все так и должно было быть и без них он бы никак не справился. Нет, справился бы конечно, просто способ никому бы не понравился – если понадобилось бы, увел прямо с венчания, угрожая всем Петропавловской, именем императора и в конце концов ссылкой. А пока выходило так, что все были при деле, кроме собственно него, бездумно кидающего камни в воду и не находящего себе места, томящегося от своей крайней бесполезности.
Все это время, загоняя Плутона в хвост и гриву, пробегая одну версту пыльных, ухабистых дорог за другой, Саша не находил себе этого места, мысленно проклиная себя каждую минуту. Болван, дурак, если пуля шальная настигнет, то поделом! Включил чёртово благородство, когда это было совершено ей не нужно, е догадываясь даже, что времени больше нет. А следовало просто запереть дверь на ключ, больше никуда и уже никогда, пожалуй, Наташу не выпуская. Она ведь пришла к нему а он возьми и начни читать ей нотации, словно наглотавшись их от Волконского [и нет, он все ещё считает, что прав был, да только что толку]. Да и черт с ним с этим злополучным днём, нельзя было выпускать ее ещё из того музыкального кабинета, а он дурак последний, наговорил таких вещей, о которых и вспомнить стыдно и больно.
Дурак, дурак, дурак.
Кидает камень снова, на этот раз тот и вовсе сразу же уходит на дно, окончательно подтверждая факт того, что удача отвернулась от него. Ну и черт с ней, как говорится.
Если только… нет, как только они вызволят Наташу [и ей не отвертеться на этой раз, он ведь слышал что выпивоха рассказал, как она требовала вернуть себя назад, да и разговора их в его комнате ему почти наверняка не забыть], он уже больше никому не позволит решать за него как ему жить и главное с кем. Всю жизнь он делал то, чему его учили, о чем просили и на что надеялись. Посещал школу, ушел в армию как и другие, обучался наукам лучше всех прочих дворянских детей и уж точно никогда не перечил. Но теперь уж баста!
Саша оборачивается на звук шагов, настолько глубоко уходя в свои мысли, что пропустил приближение вернувшегося Кирилла. Он вскакивает, лихорадочно загорятся глаза, пытливо всматривается в это вечно сосредоточенное лицо – иногда этот человек просто невыносим, не поймёшь ведь, хорошо все или плохо! Озабоченное выражение лица Волконского только окончательно путает мысли.
— Так ты видел ее? – пропуская мимо ушей все и переходя к единственному, что его действительно волновало. Он ухватывает Кирилла за плечи, трясет слегка, отказываясь выпускать из рук, пока не допытается в конце концов до правды. Саша отказывается думать о том, что если он и видел Наташу, то краем глаза и вряд ли успел перекинуться с ней хотя бы парой слов. Но последнее разумное зерно угасает в голове под действием все того же волнения и уже плохо сдерживаемого гнева. — Как она? Она хорошо выглядит? Не слишком бледная? Эти идиоты могут плохо ее кормить, понимаешь? Она что-нибудь говорила? Да что ты за человек такой в конце концов ничего не знаешь! Зачем ты тогда вообще туда ходил, если ничего про нее толком не можешь сказать! – он заявляет это в сердцах, отпуская несчастного Волконского наконец и отмеряя шагами песочный бережок Стрелки, находясь в крайнем возбуждении. Останавливается резко, сверкая гневно своими голубыми глазами в его сторону, словно сомневался не стоит ли сбросить его в речку. В такие мгновения он неожиданно сильно походил на отца – яростного, гневного, порывистого до безобразия.
Ещё пару секунд безумия, прежде чем он с театральным стоном валится на песок, прикрывая глаза рукой и вслушиваясь во все такое же веселое и непринужденное речное журчание. Выравнивается дыхание, успокаивается уставшее от волнений сердце. Он прислушивается, наконец к тому, что говорит Кирилл, кивает устало.
— А что с Лизой будет? – рассеянно уточняет Саша, который, признаться [к своему стыду разумеется] и думать забыл о том, что к Наташе во дворец добровольной пленницей отправили Лизу. Все его мысли до этого момента были целиком и полностью заняты Наташей, а мысли Волконского тем временем очевидно неожиданно занимала его сестра. Будь Саша не настолько взволнован, вымотан [хотя внешне по нему никак не скажешь] и в л ю б л е н, то пожалуй бы заметил это интересное обстоятельство и даже, пожалуй, воспользовался им, но сейчас выпускает подозрительное чувство прочь. — Брось, Лиза в обиду себя как раз не даст. Не завидую тому, кто окажется у нее на пути в случае чего. Особенно, если она достанет где-нибудь оружие, — он шутит, но Кирилл явно к шуткам не расположен откровенно переживая за то, что отправил цесаревну в пасть к тигру, не иначе. — Да послушай, с ней ничего как раз не сделают. Отправят домой в худшем случае, но что могут позволить себе сделать с дочерью Петра Великого? Право слово ничего – себе дороже! Куда хуже будет, если ее обнаружат, а тут Наташа. Сразу смекнут что к чему.
Саша видит, что это все равно звучит неубедительно и терпеливо объяснит.
— Но вообще я уверен, что Лизетку не раскроют. Она же тебе говорила, что мы в театре играли. И не моя ли сестра в конце концов облапошила тебя в лесу? Нет, с Лизой в этом плане уж точно все в порядке будет, - убежденным тоном заканчивает Саша.
В этом то уж точно. Это совсем не тоже самое, что ее сомнительные пристрастия в случае Кречетова, а следовательно просто дурной вкус на мужчин.
И снова вечерние сумерки, которые казалось совсем недавно сопровождали их на постоялом дворе, укрывают Стрелку, укрывают сады Путевого дворца, ложатся закатными лучами на головы – волосы Саши привычно золотятся, у Волконского его каштановая шевелюра подсвечивается медным отблеском. Саша уже успел пару раз проиграть в метании все тех же блинчиков, поэтому теперь проигравший и снова раздраженный сидел под все той же сиренью, вдыхая вечерние запахи цветов и меда. Снова вскакивает.
— Нет, это невыносимо просто здесь сидеть и чувствовать себя мебелью! Я этот дворец знаю, с закрытыми глазами пройду весь! Ну сколько там охраны? Залезем в окно, да и вытащим ее оттуда сейчас, черт уже с ними! А, не смотри на меня так, почему вообще ты всем командуешь, если цесаревич тут я?! – он снова раздражается, снова понимает, что проиграл в очередной раз и никуда они раньше назначенного времени не выдвинутся, так что остаётся только ждать, бухнувшись обратно в сирень.
Времени в общем-то действительно в обрез, но тем не менее, время еще не настало. Так что же за дурное предчувствие над обоими витает и не дает покоя?...
____________♠♠♠____________
—…Лиза!
Наташа, живая и здоровая, если не считать белоснежности ее лица, как только закрывается дверь буквально бросается в распахнутые объятия, не давая Лизе толком опомниться и оглядеться. Как только Кирилл Андреевич скрылся за поворотом определенную уверенность она потеряла, но так или иначе ни секунды не сомневалась в том, что уже сегодня все непременно решится. Она вглядывается в лицо подруги, словно не видела ее вовсе не несколько дней, а несколько лет, прежде чем крепко ухватить за руки, вглядываясь в бездонно-синие, ставшими еще больше из-за этой смертельной бледности, глаза, заговорит:
— Наташа, как мы переживали, что не успеем! Куда тебя везут, они тебе сказали?
— Мне не говорили, но я слышала разговор двух офицеров в саду – они говорили про Архангельское, значит туда, в Москву.
Значит все как они и думали – князь закончит свои дела в столице и приедет в белокаменную Москву, где у Наташи никого нет, как и собственно выбора. Лиза поджимает губы, глаза вспыхнут изумрудным огнем.
— Под конвоем на свадьбу! Как они вообще посмели, не понимаю… — забываясь дотрагивается до собственного лица, смазывая со щеки белила и наверняка выглядя еще более несуразно, нежели раньше, благодаря всему этому маскараду, свалившемуся на ее голову. — Ах да, я же не представилась полностью, — она делает шуточный реверанс, прежде чем тонким голоском не сообщить. — Я ваша любимая камеристка, переболевшая оспой, презренная мадемуазель Фуфу! – Лиза засмеется было, но быстро вспоминает о том, что это лишь привлечет лишнее внимание, замолкает. Но в глазах цвета зелени за окнами сохранятся лукавые всполохи. — Это, кстати, Кирилл Андреевич придумал, можешь ли ты себе вообразить?
Наташа смотрит на нее так, словно не может толком наглядеться и не верит в то, что вымазанная белилами цесаревна в платье трактирщицы не видение воспаленного рассудка, а реальность, впорхнувшая в ее окно вместе с запахами жасмина и цветущих яблонь. Она снова хватается за Лизины руки, словно за спасательную соломинку, когда они садятся на софу, приставленную прямиком к окну, а Лиза торопливо рассказывает и о Саше, и о бесконечной скачке по дурным дорогам, про постоялый двор и бородатого мужичка и даже о том, что Волконский, оказывается знает Шекспира. Лиза вообще много говорит об их можно сказать спасителе и чем больше говорит, тем более понимающим становится взгляд Наташи, словно она знает что-то, чего Лиза пока что не понимает. В другой бы раз Лиза это заметила и возмутилась бы, мол, неужели нельзя восхищаться человеком и при этом не собираться за него замуж. Но сейчас было совершенно не до этого.
— Наташа, мы тебя заберем отсюда. Тебе никак завтра нельзя в Архангельское ты ведь сама понимаешь – это насилие! Как совсем стемнеет, дам знак, проверю что поблизости от комнаты никого нет и мы тебя заберем! – Лиза замечает сомнение, голубой стрелой мелькнувшее в глазах Наташи, вспыхивает, не отпуская из своих рук ее холодные ладони. Ведь если Наташу не уговорить это ведь получается, что все старания насмарку. — Нет, послушай меня! Наташа, глупая, к чему все эти глупые жертвы? Во имя чего? Ты мне скажи просто – ты его любишь?
Наташа все же вырывается, встает, устало мотая головой из стороны в сторону, раскачиваясь всем телом, обхватив себя руками.
— Если бы все было так просто, Лиза!
— Но все и есть просто, как же ты не уразумеешь! – Лиза встает следом, запальчиво, пылко воскликнет: — Как раз все очень просто! Ты его любишь – он тебя любит, а следовательно нужно быть вместе, пока есть время! Я удивляюсь, Наташа, что за свою непростую жизнь ты не поняла одной очевидной вещи! Ты можешь сделать что угодно в одиночку. Но когда рядом с тобой надёжные и любящие люди, ты сделаешь втрое больше, и это будет вдвое безопасней. А ты будешь втрое счастливей. И ни к чему будут эти чертовы жертвы во имя опять же любви, но если хочешь знать – любовь тут не при чем! Любовь вообще никому не жертвуют – ее дарят!
Лиза говорит так, словно любила когда-нибудь так сильно или же теряла свою любовь. Нет-нет, в Кречетова она влюблена, представляя любовь именно такой совершенно безусловной. В глубине души шевельнется червячок сомнения относительно того – точно ли она знает, что такое любовь, о которой так страстно твердит или же это ее фантазия, которую она придумала себе вместе с образом Ивана Дмитриевича.
Наташа же, отчаянно и из последних видимо сил сопротивляется, словно не верит, что счастье таким образом возможно, стоит только протянуть руку. Иногда действительно бывает достаточно протянуть руку – а там, какая разница что вокруг. Какая разница что будет после, если рука в руке будет уже сейчас?
— Любой человек может предать! Любой человек может разочароваться, могут измениться обстоятельства, а я могу принести столько бед ему, что никогда себя после не прощу, это эгоистично, Лиза!
— А любая жизнь рано или поздно закончится смертью. Так что теперь, не жить? – парирует в ответ Лиза, не собираясь на этот раз отступать. Какой уж тут отступать, когда где-то в кустах кукуют Саша с Кириллом [хорошо еще если ее брат и правда не решится на дворцовый штурм], которые как и она провели несколько дней в дороге совсем не за тем, чтобы Наташа благородно отпускала того, кто совершенно не хочет, чтобы его отпускали. — Не понимаю зачем беспокоиться о будущем, если можно быть счастливой здесь и сейчас? Он же правда тебя любит! Не смей делать его несчастным – он дурак, но мой брат! – заканчивает она наконец, шутливо топнет ногой, вызывая наконец у Наташи слабую улыбку на лице и, очевидно согласие.
Она сдавалась, сдавалась, признавая, что все равно не сможет спокойно жить в своем Архангельском с богатым и нелюбимым мужем, в однообразной суете загородного огромного поместья, зная, что в нескольких десятках верст существует все тот же Саша. И любит ее в ответ.
Лиза хочет было добавить что-то еще, возможно смягчить фразу про дурака, но тут в коридоре послышатся поспешные шаги. Множество шагов, которые совсем уж точно не принадлежат ни Саше, ни Кириллу, разве что те решили топать словно стадо диких лошадей. Она успевает только лицо спрятать за накидкой, когда дверь распахивается, распахивается бесцеремонно. Лиза не успевает возмутиться [оно и к лучшему – вряд ли камеристке в пору возмущаться], на всякий случай перекрывая Наташу, если они вздумают просто забрать ее без Лизы. Теперь уж точно – вместе. В голове лихорадочно мысли одна другую сменяет. Знак не подашь, да и к Саше не выберешься, если только не хочешь, чтобы их обнаружили и если им с братом вряд ли что-то сделают, то совершенно нельзя допустить, чтобы пострадал Кирилл Андреевич, который здесь вообще не при чем. Выкрикнуть, что я цесаревна и вы совершенно точно обязаны отпустить нас иначе прикажу сослать вас куда подальше? Или выхватить вон у того усатого шпагу? Лиза уже прикидывает в голове насколько эта шпага тяжелая и насколько удобно пытаться фехтовать в такой маленькой комнатке, в которую их определили, как только все тот же усатый заявляет:
— Ты, камеристка ведь? Со мной пойдешь, надобно вещи барышни уложить. Уезжать будем. Да побыстрее!
Гадать остается, зачем они пришли сообщить это такой толпой. Наташа, которая приходит в себя, сохраняя невероятное самообладание холодно спрашивает:
— Я полагала, что мы выезжаем не раньше завтрашнего дня? От чего такая спешка?
— Не могу знать, Ваша Светлость. Ты иди помогай карету укладывать, — он бесцеремонно тычет в Лизу пальцем и ей так и хочется посоветовать ему перестать, если он хочет этим пальцем в будущем хоть что-нибудь указывать. В крепости и за меньшее люди сидели, сказывают…но вместо этого она лишь присаживается в покорном реверансе.
Саша правду всегда говорил, когда заявлял: «Ежели так станется, что мы перестанем быть цесаревичем с цесаревной, то я стану дипломатом, а ты пойдешь в бродячие артистки!». Разумеется, после этого она обычно пыталась брата побить, потому что почему это он собирается жить хорошо, а ее отправляет с цыганским табором. А в общем и целом – оба видимо собирались путешествовать и немного, как выражался, отец «шутовствовать». Ведь по разумению отца что дипломаты, что артисты занимаются одним и тем же – вводят в заблуждение.
Лиза сжимает руку Наташи, которая теперь скорее напоминает руку мраморной статуи, которые расставлены по дворцу. Рука дрожит. Наташа смотрит на нее испуганными большими глазами, словно вновь начинает не верить в то, что из этой ситуации существует иной выход, кроме как выйти замуж.
— Лиза, они не успеют… - шепчет она, а в ее глазах отражается лицо Лизы, с этой нелепой накидкой послеоспенной камеристки.
Лиза сжимает пальцы на ее руке крепче, твердо глядя в глаза, прежде чем покинуть покои, шепчет горячо и убежденно:
— Они все равно нас найдут, слышишь! – офицер кашлянет, готовый заругаться на нерасторопную девчонку, но Лиза и ухом не поведет. — Не здесь, так прямо в Москве! Они что-нибудь придумают, я знаю!
«Откуда?» - прошепчет взгляд Наташи.
Лиза загадочно улыбнется под накидкой, выпуская руку и шепнет в ответ на этот невысказанный вопрос.
— Потому что их двое. И эти двое стоят всех этих дураков.
Она подмигнет ей неожиданно весело, исчезая в дверном проеме следом за ворчащим усачем. Как только дверь закрывается, улыбка, впрочем, спадает с губ, оставляя выражение мрачной сосредоточенности. Нет, ни разу, ни на секунду она не сомневалась в том, что прячущиеся где-то в кустах [и хотелось бы верить, что они там не заснули] мальчики [еще одни ее мальчики] помчатся следом, найдут их в Архангельском и освободят. Но вопрос лишь в том насколько быстро и не помешает ли им кто-нибудь. И еще – от чего вдруг такая спешка случилась? Словно кто-то рассказал, что возможно случится побег? А кто мог знать, что они покинули дворец кроме…
Лиза вздохнет, послушно таская тюки с вещами с остальными молчаливыми слугами. Она смешивается с ними, ничем не выделяясь, чтобы лишнее внимание не привлекать. И только один раз она все же замирает, замирает вместе с сундучком, очевидно с какими-то лекарствами, вытягиваясь напряженной струной и вглядываясь в мрачную [этой ночью о звездах и речи не шло] глубину сада, отлично зная, что где-то там на нее наверняка смотрят чьи-то серьезные глаза.
____________♠♠♠____________
Саша не помнит как задремал, забылся под кустами, бормотать продолжая о том, что выдвигаться нужно немедленно, что Кирилл ничего-не-понимает-в-любви, а после забываясь сном, в котором все разумеется было хорошо, они с Наташей снова были вместе и вновь разглядывали звездное небо. И совершенно неожиданно Наташа, глядя своими необыкновенными глазами прямо на него заявила взволнованным мужским голосом подозрительно напоминающим голос Волконского: «Их увозят, слышишь! Их увозят!». И совершенно прелестно улыбнулась от чего сон стал походить на кошмар. Во сне Саша шарахнулся от такой Наташи прямиком в какие-то колючие кусты наподобие крыжовника, а она неожиданной кошкой на него наскочила, затрясла что есть мочи, все больше и больше превращаясь скорее в Волконского. Он начал отбиваться что есть силы от такого кошмара, пока окончательно не проснулся. Но даже проснувшись к своему ужасу увидел перед собой Кирилла, свисающие ветки какого-то куста и на секунду засомневался, сонно мотая головой, что сон закончился.
— Да отпусти ты меня! Чего пристал… – возмущается он было, а потом подрывается с места, словно на него вылили ледяной воды из родника. Сознание наконец приходит к нему окончательно, как и весь ужас сложившейся ситуации. Отталкивает продолжающего трясти его как тряпичную куклу, взлохмачивает и без того в ужасном беспорядке находящиеся волосы. Глаза мгновенно запылают лазурным огнем. Саше может быть впервые за свою жизнь окончательно наплевать на то, как он там выглядит, сколько дней подряд он не мылся – даже во время военного похода он пытался растопить снег просто чтобы умыть лицо, не в силах изменить привычке в аккуратности, доходящей до педантичности. — Да уж конечно за ними! Тоже мне! – он летит следом за Волконским, вскакивая на мгновенно готового лететь вперед Плутона, первым срывается с места. В голове ни одной здравой мысли, кроме как головы с плеч снести к черту.
Конь у него всегда был что надо – никому и никогда не оставлял шансов на то, чтобы догнать. Именно это качество и хотел Саша в будущем культивировать в русской верховой породе, о чем постоянно толковал с Кириллом. Но вот только чем дольше продолжалась такая бешеная скачка, скачка по все тем же отвратительным дорогам, лесным тропам, пыльным ухабам, тем замедлялся бег преданного товарища и тут ничего не поделаешь – не бывает лошади и быстрой и выносливой одновременно. Саша ругается, уговаривает, умоляет, но он все равно замедляется. И стоит только отвлечься немного, чтобы оглядеться и все – карета теряется за высокими деревьями, без шансов, увозя от него его собственную душу. Саша выругивается громко, припадая к самой шее Плутона, у которого тяжело вздымаются и опадают бока. Снова забылся в этой бешеной скачки, не замечая ни поцарапанного лба [видимо о какую-то ветку], ни состояния собственной лошади.
— Прости, брат, прости, не рассчитал… — похлопает по потной шерсти, прежде чем выпрямиться в седле и еще раз осмотреться. По лбу из-под треуголки стекают капли пота, он и сам дышит не менее тяжело, нежели его лошадь.
Странное ощущение посещает его как только в голове прояснится, а кроны деревьев тронет несмело солнечный свет. Странное, потому что кажется, что следят за ними. Саша всегда безошибочно это определяет, с детства испытывая отвращение от взглядов, которые выслеживали его в классах, в коридорах и залах. Еще с детства он привык не обращать внимания, когда какая-нибудь дама или важный член Сената сверлили глазами его спину, а потом делали вид, что разглядывают нечто другое. Не обращать внимания, но принимать к сведению – таковы были его привычки. А так как сейчас они шагали прямо через лес, в котором почти наверняка не обитают ни дамы, ни члены правительствующего Сената, значит…
Саша резко останавливает Плутона, успевая затормозить в отличие от Кирилла, очевидно совершенно потерявшего голову от потери Лизы [а Саша не сомневается теперь, что беспокоит его это куда сильнее, нежели стоило ожидать], раз не заметил чертовой веревки, растянутой между двумя деревьями. Кирилл летит наземь, а Саше ничего не остается как спрыгнуть с Плутона, который очевидно почуяв неладное взбеленится, зароет копытом землю. Спрыгивать, пожалуй не стоило.
В следующую секунду что-то тяжелое и деревянное опускается на затылок, он волей-неволей теряет равновесие, падая следом за Кириллом. Ржание Плутона становится угрожающим. Он не успевает толком подняться, как только к его лицо устремляется деревянная дубина. Кириллу и вовсе не повезло: краем глаза Саша улавливает блеснувшие в солнечных лучах острие холодного оружия. Третий низкорослый мужик в таких же, как у оставшихся двух лохмотьях, в грязной рубахе подпоясанной самой обычной бечевкой, пытается поймать под уздцы окончательно взбесившегося вороного. Да, добыча-то на вид славная, но ох как не хорошо.
Саша не услышит, что там вопит Волконский, неожиданно ловко вывернется из-под руки, которая пыталась захватить за горло:
— А ну руки от коня прочь! – с этими словами взмахнет шпагой, мгновенно выуженной из ножен, рассечет воздух, устремляясь к вороному, который, впрочем, и сам неплохо справлялся пару раз лязгнув зубами, прижимая уши к голове. Новые вероятные его хозяева Плутону по вкусу не пришлись. Откуда-то сбоку, из леса, слышится воинственное улюлюканье – не иначе спешит такая же прилично разодетая подмога. Саша поудобнее перехватывает шпагу улыбается почти доброжелательно, разглядывая немытые гнилозубые рожи «лесных романтиков». — Господа, право слово, вы так не вовремя! – прежде чем вновь легко, словно бы танцуя взмахнуть шпагой, заставляя здоровяка с дубиной отойти в сторону от Волконского, вновь уходя от очередного тяжелого замаха с неожиданной грациозностью. — Вот ведь а я думал, что вас всех в острог и в Сибирь сослали! Следует усилить патрулирование на дорогах, как думаешь, Кирилл Андреевич? Внесем в список дел нашей лейб-компании! – он снова и снова уворачивается от замахов бородатого, выжидая, когда тот окончательно выдохнется и начнет драться совершенно уж беспорядочно. Тот, очевидно догадавшись, что с ним забавляются свирепеет окончательно, взревет наподобие медведя и ринется вперед. Тут Саша и дождется своего звездного часа выставляя вперед правую ногу одновременно делая выпад вперед. Тот валится на землю, держась за окровавленный лоб.
Засвистит шпага в воздухе, засверкает острие на солнце. Один удар, второй, обходят, сталкивают неумело в общем-то дерущихся чертей лбами, дают хорошего пинка и снова по новой, пока вокруг поляна не станет усеяна стонущими и отползающими куда подальше разбойниками.
Саша фыркает, отбрасывает со лба прилипшие потные волосы. Ему откровенно говоря безразлично куда этих чертей теперь девать – привязать б к дереву хорошенько, отобрав оружие и так оставить, авось кто-то наткнется. Они и так потеряли уйму бесценного времени и Наташа, как и Лиза могут быть теперь и вовсе где угодно. Плутон, который кажется успел лягнуть парочку бродяг, пытавшихся взобраться на него и сделать ноги, успокоившись немного заржет негромко.
Наблюдает за Волконским, сначала просто с довольной усмешкой, а после уже куда более недоверчиво.
— Ты что…и вправду головой сильно приложился? Да причем это тут моя любовь! – он возмущается, не желая даже представлять сколько дней эта одежда не стирана и сколько вшей водится под этой валяной шапкой. Возмущаясь, не забывает покрепче завязать веревкой, которая до этого служила ловушкой той самой об которую так неудачно споткнулась лошадь Кирилла нескольких человек к сосне. В сердцах дает кому-то затрещину, бывшие бравые вояки заноют: «За что, барин!». Ну не давать же ее и без того видимо болезному Кириллу. — Даже не надейся! Это я надевать не буду, я не буду показываться перед ней в таком виде! Ни за что!...
***
Саша снова спотыкается об какой-то корень совершенно уже не в силах сладить с очевидно малыми ему сапогами из до того дрянной кожи, что еще немного и по швам затрещат. Он поправляет шапку, съехавшую на лоб [шапка наоборот оказалась большой], в который раз стараясь не кривиться от отвратительного запаха, который теперь от него исходил. Что же, его «ни за что» закончилось там, где начиналось имя Наташи и увещевания Волконского, который по категоричному заявлению Саши выглядел гораздо лучше, что так им проще в усадьбу проникнуть.
«Ну да, как же. Проще, если только нас по дороге не засадят в каталажку первые попавшиеся патрульные!» - огрызался он на эти заявления, послушно напяливая на себя сапоги. Надо было соглашаться на валенки.
«Смешно тебе?» - как только он полностью переоблачился, Волконский совсем совесть теряет, разражаясь таким смехом, которого Саша не слышал ни на одну из своих по его скромному мнению удачных шуток. Можно подумать, что подпоручик решил отыграться за маскарад. Но тут следует заметить, что Саша одевал его в дорогой кафтан из голубого сукна, а вовсе не в пахнущую потом, мочой и дешевым алкоголем одежду проходимца. Саша хмурится, поджимая губы, а после извернется, чтобы дать гогочущему Кириллу пинка, устраивая шутливую потасовку и окончательно измазываясь. «Смешно тебе, а? А вот как я твою рожу измажу, а ну стой! И Лизке расскажу, как наш Кирилл Андреевич непоколебимый переживал о ней! А ну стой!...».
И все же в итоге Кирилл выглядел хоть и тоже нелепо и по-разбойничьи, но уж точно лучше, чем ко всему прочему ужасу чумазый Саша, все еще отплевывающийся теперь от земли черной, которой так щедро его замазал Волконский. Он не успевает ворчать и обещать, что на следующий маскарад непременно нарядит этого болвана арапчонком, заставив щеголять в чалме и шароварах, как только снова нелепо припадает на одну ногу. Нечего сказать – настоящий царевич из сказки. Уж скорее Иван-дурак.
Плутон, который смирно шагал следом за Кириллом, шарахнется, как только Саша к нему потянется. Впервые с тех пор, как принял его за хозяина. Саша выругивается, сверкнет глазами в Кирилла, бросая в него случайную шишку, попавшуюся под ноги.
— Меня даже собственный конь не узнает! — жалуется он, обвиняюще тыча в Волконского пальцем. — И что, я по-твоему в таком вонючем виде в любви признаваться ей стану? – трясет широкими рукавами рубахи, но Кирилл остается совершенно безразличен к его жалобам Его Высочества, так что приходится смириться со своей незавидной участью, считая минуты, когда можно будет в конце концов переодеться. А лучше помыться.
***
Саша видит ее сразу же, он увидел бы ее даже если бы Кирилла и вовсе рядом не было. Он видит ее и не видит больше уже ничего, не слышит более ничего, ничего не разбирает, он просто видит е е в молочно-белом платке, удивительно напоминающем свадебную вуаль. На миг в помутневшем рассудке даже проскочит паническая мысль о том, что они опоздали, что она теперь княгиня Юсупова и уже наверняка не станет Натальей Алексеевной Р о м а н о в о й, его Наташей. Он уже готов был кажется и все равно забрать ее, будь у нее хоть сто мужей, хоть тысяча самых влиятельных, он все равно ее заберёт…и только ближе оказываясь Саша выдыхает, понимая, что никакая это не фата, а всего лишь платок.
Она снова похожа на ангела, в окружении белокаменной церкви, в этом платке наброшенном на голову, с этими невероятными синими глазами, которые мгновенно вспыхивают узнаванием. Она узнала его так же быстро, как он заметил ее. Тут не помогли ни маскировка, ни грязь на лице. И может быть, сопровождающий ее и уже лебезящий перед ней слуга и не поверил им, не поверил что эти оборванцы здесь из чисто религиозных соображений или же не поверил, едва заметив каким огнем загораются Сашины глаза едва он оказывается ближе к ней. Таких глаз у крестьян и беглых не бывает. Но только Саше теперь глубоко безразлично. Он ее нашел и уже наверняка не отпустит. Он ее нашел и она рядом с ним и больше уже ничего и не нужно. Они о чем-то говорят с Кириллом – не слышит, не слушает, просто безотрывно смотрит на нее, следует за ней по дороге от храма, а в глазах окончательно выплёскивается нежность, которой бы хватило, чтобы весь мир затопить. И он будто едва дожидается момента, когда она взмахнет рукой отпуская то ли Волконского, то ли их обоих, ухватывая ее за запястье так крепко, что кажется даже переборщит. Никогда больше не отпускать.
— Саша…
Это ее «Саша» решает все. Это ее «Саша» может снести голову напрочь, да что впрочем с ним давно уже и произошло. Он удерживает ее за руку, уводя подальше от людских глаз, благо в церковной ограде таких мест предостаточно, как и в богадельне. И правда ангел. Он почти не сомневается, что она могла бы здесь остаться и быть может была бы здесь счастлива, но он не может ей позволить остаться. Потому что он знает, что она может быть счастливее.
Разворачивается к ней лицом, снимая чёртову шапку, встряхнув волосами. Она снова повторяет это запретное «Саша» то ли вопросительно, то ли моляще [о чем ты молишь меня? О том, чтобы исчез, или о том, чтобы остался?...], но Саша прерывает, притягивает к себе без шансов вырваться, без шансов на слабое «нет», притягивает к себе и целует, целует так, как всегда мечтал поцеловать с тех пор, как ей исполнилось 16 лет и они праздновали ее День Рождения, а она вновь надела белое платье и вновь напоминала ангела. Целовать ее оказывается все, что нужно ему в жизни, по крайней мере так кажется теперь, когда он рядом с ней, когда он держит ее, такую хрупкую, в объятиях а она жмется а нему доверчивой голубой и кажется, что теперь можно и умереть. Что это и есть их абсолютное счастье. И наверное так и есть.
Она выдыхает ему в шею, все ещё цепляясь за это чёртово тряпье, в которое его нарядил Кирилл [вот уж удружил будет что детям рассказать], прячет лицо и всхлипывает, словно ломаясь прямо в его руках, словно сдерживалась все это время.
— Нельзя… - отчаянно, словно сама хочет поверить в том, что счастливой ей никогда не быть. Словно все ещё боится в это поверить. — …тебя же увидят, говорят князь приедет скоро, тебе нужно…
— Нет уж, теперь буду я говорить, — он весело перебивает ее, улыбаясь беспечно, радостно, словно гора упала с плеч. Что ему какой-то князь? Что ему целый свет, когда у него в руках вся жизнь. Стоит и смотрит на него умоляя забрать скорее, пусть и произнося совершенно другое. — Вот ты говоришь мне уходить, ты говоришь мне нельзя, так почему я слышу: «Останься!» и «спаси меня»? Не смей отнекиваться теперь, хватит уже обманывать и меня и себя, просто скажи – любишь меня или нет?
Она всхлипывает равно, поднимает на него лучисто-синие глаза, в которых отражаются его собственные влюбленные, всхлипнет ещё раз, а после слабо улыбнется, тихо рассмеявшись, оглядывая его, словно впервые видит. Ласково качает головой, слезы все ещё стоят в ее глазах.
— Боже, Саша, откуда ты такой?
Только теперь вспоминает в каком он виде и как должно быть от него несёт, а он ещё и целоваться лезет. Глаза закатывает, но ее не отпускает из крепких объятий.
— Из леса. Это все Кирилл Андреевич, если что. Но ты все же мне скажи, - он почти дурачится, в душе все равно желая услышать это слово. На задворках памяти останется ещё ее «но и вас я не люблю», пусть и была это совершенная ложь. Но как только она силится ответить их совершенно бесцеремонно и бессовестно прерывает целая толпа.
Саша поворачивается к непрошеным зрителям очень медленно, заводя Наташу за спину и улыбаясь этой вооруженной компании весьма любезно. В душе все ещё цветы расцветают, все ещё плещется восхитительной волной счастье, которому они уже не смогут помешать. Даже если здесь окажется целая рота.
— Господа, если вы пришли не для того, чтобы поздравить нас, то идите к черту!
Разводит руками, собираясь тем временем эффектно выхватить шпагу, а потом вспоминает, что никакой шпаги у него и в помине нет – она осталась где-то с мундиром вместе на спине Плутона, мирно пощипывающего травку в подлеске близ Архангельского. Вот ведь Волконский, ответит еще за это унижение!
Один из «форменных идиотов» или же «идиотов в форме» бросается было вперед, где-то позади слышится очевидно звуки другой драки, в комнатку маленькую все прибывают и прибывают новые люди, охочие до поздравлений. Только поздравления у них несуразные – постоянно норовят ударить чем-нибудь. Саша гадает: знают ли они с кем имеют дело, пока играючи не пинает ногой тяжелый деревянный стол, очевидно сваливая на нет все Наташины труды, да еще и учиняя в юсуповской усадьбе погром. Им бы деру давать, но у Саши важное дело.
Ухватывает за ворот очередного смельчака, ударяет ногой куда-то ниже живота, отталкивая к первому, на всякий случай сильнее задвигая дубовый стол прочь.
— Да дадут мне признаться в любви сегодня или же нет, в конце концов?! – притворно трагически выкрикивает он, параллельно прислушиваясь к тому, что там происходит у Кирилла, который видимо пытается вызволять Лизу. Жаль, у сестры нет оружия, а то вышла бы интересная баталия. Он обернется к Наташе, заставшей где-то в углу прекрасной фарфоровой статуэткой и взирающей на происходящее со смесью восхищения и испуга. Весело подмигивает, отбрасывает волосы рукой с чумазого лица и крикнет, уворачиваясь от ударов, останавливая кулаки и в конце концов выхватывая чью-то шпагу, ногой отталкивая нападающего. Что же, если раньше они сомневались на кого нападали – обычных разбойников или же беглых с каторги, то теперь определенно уж следовало заподозрить неладное. — Ну, так любишь меня или нет? – крикнет он ей, заставляя ее вздрогнуть и, он практически уверен [рассмотреть точно ему мешают все те же московские морды – правду говорят в Петербурге фехтуют лучше], укоризненно качает головой.
— Саша, сейчас совершенно не время для этого! – она то ли смеется уже, то ли пытается быть серьезной, но у нее выходит скверно.
Кто-то потянет за рукав дрянной рубахи, та жалобно затрещит, Саша снова вывернется, развернется к ней всем своим видом показывая, что дождется ответа на свой вопрос, даже если придется еще пару раз по своему царственному лицу получить.
— Ты обязана сказать «да», а то ты мне снишься и говоришь голосом Волконского – знаешь, как страшно сие звучит?
Она рассмеется, кажется неожиданно для себя самой махнет на него рукой, которую он тут же перехватывает, не обращая внимания на то, что охрана только продолжает прибывать. Да, правда что в Архангельском ему не скоро будут рады – а жаль, любимая усадьба в Москве. Придется построить свою.
— Люблю, конечно люблю, невыносимый! – перекрикивая солдатскую ругань, падение столов и стульев, шум этой драке, глядя в его глаза. — А теперь, может сбежим отсюда, чтобы ты вымылся?
Он улыбается так широко, как не улыбался совсем давно. Крепко держит ее за руку, отталкивая совершенно непрошенных свидетелей его абсолютного счастья. Последствия? Со всякими последствиями можно справиться.
— Что же, тогда господа нас извинят. Найдем транспорт, Лизу и Кирилла и сбежим отсюда ко всем чертям!
Остановится, хитро посмотрит на нее, подмигивая:
— Хотя может их вдвоем оставить? А то Кирилл что-то совсем притих. Видимо нашел свою звезду.
Да, подслушивать не хорошо и спящим притворяться тоже, но ничего не поделаешь.
Им перегораживают дорогу, кто-то выхватывают сабли на манер турок, Саша, в конец уставший от всего этого безобразия остановится резко, вскидывает руку и выкрикнет неожиданно грозно и властно:
— А ну стоять всем! Всех в Сибирь сошлю! Всех!
Этот фокус неожиданно срабатывает, потому что они на несколько мгновений действительно замирают, словно поверили ему [между прочим не без оснований]. Кто-то даже опускает оружие, ошарашенный таким заявлений какого-то парня с лицом растопника печей. Саша довольно улыбается, проскальзывая вон опешившей охраны, крикнув на прощание: «Вот, хвалю – молодцы!». Иногда цесаревичем быть очень полезно, даже если одет ты как последний крестьянин.
Поделиться152024-05-20 20:45:25
***
Лиза вылетает из-за двери, когда где-то у лестницы слышится ужасный грохот, бросая заправлять кровати. Кажется, что под лестницей и на ней развернулось целое сражение, но между кем и кем она понять не может. Мелькают мундиры, мелькает человек в одежде столь неприглядной, что она в какой-то момент задумывается не решила ли местная охрана выгнать разбуянившегося бедняка.
Они с Наташей находились за оградой Архангельского вот уже какое-то время. Лиза усадьбу помнила хорошо, пусть бы и почти наверняка заблудилась – до того она была огромной. Когда они подъезжали к усадьбе с севера им открывался вид на величественную, прямой стрелой уходящую вдаль дорогу. Огромное пространство вокруг, удивительное по своей пространству и мощи, которое могло соперничать с некоторыми царскими резиденциями – не зря всегда ходили слухи о богатстве князя и его значительности. Парк, окруженный зелеными шпалерами, аллеями и ритмично чередующимися мраморными статуями, с фонтанами и скульптурами и огромный дворец, возвышающийся над всем этим великолепием – хозяйкой этого могла и вроде как должна была стать Наташа. И какой-то частью своей души Лиза бы даже ее поняла. Учитывая то, что Архангельское далеко не единственное, пусть и самое больше, из имений князя, то она бы стала едва ли не самой богатой женщиной в Российской Империи. После разве что самой императорской семьи. Но вообразить, что Наташу это интересует она не могла.
Впрочем, чем дольше они здесь находились, неотступно сопровождаемые низеньким, напоминающим то ли крысу, то ли сову, Федотом, тем сильнее как ей казалось Наташа убеждалась, что ей следовало здесь остаться. «Буду благотворительностью заниматься. Нуждающимся помогать», - заявила она как-то, как только им сообщили, что князь был бы рад займись его будущая жена делами Архангельского, а именно устройством богадельни. Лиза, которая для отвода глаз выбивала подушки и давилась ненавистной пылью [пожалуй, пыли с нее за это их приключение вполне достаточно], отчаянно захотела бросить эту подушку в нее, но сдержалась.
«Если так хочешь благими делами заниматься ты и с Сашей сможешь это делать – уверена, императорская казна не опустеет!».
Так или иначе, выглядывая в окна комнаты, она сама ловила себя на мысли, насколько на самом деле сильно ждет, что кто-нибудь из них – Кирилл или же Саша появится на пороге и в конце концов освободит их, как и бывает во всех романах, которые так популярны при дворе. Поэтому, именно поэтому, как только она услышала весь этот жуткий треск, то выбегает было сразу же, но вместо знакомых лиц только жуткая кутерьма – на нее без накидки и вуали даже внимания никто не обращает в пылу драки. И все же, что-то здесь определенно было не так. И как только удается присмотреться к человеку, которого сбросили с лестницы в потрепанных одеждах сбежавшего каторжника, Лиза вскрикивает то ли радостно, то ли испуганно:
— Кирилл!...
Вспоминает, не в силах даже теперь противиться этой укоренившейся привычке, добавляя чуть позже:
—…Андреевич!
Она слетает вниз, к нему, толком не зная, что с ним, сильно ли его приложили, надеясь, что он хотя бы ничего себе не сломал, спотыкаясь об последнюю ступеньку и путаясь в собственных юбках. И только оказываясь рядом, совсем близко, замечает, что он улыбается. Улыбается, значит живой. И тогда позволяет себе выдохнуть, опускаясь рядом с ним на колени. Осторожно обхватывает его лицо руками и кивает головой, кивает быстро, то ли не в силах поверить, что все действительно закончилось, то ли в то, что он все таки живой.
— Да-да, это я, я, — продолжает кивать, чувствуя ладонями тепло чужого лица. — Вы пришли? Да, конечно пришли, я знала, что придете, — она улыбается, почти хохочет, но выходит как-то тоже глухо, в глазах почему-то защиплет и только сейчас, находясь рядом с ним, она осознает насколько оказывается волновалась. Волновалась даже в своей непоколебимой уверенности, что они придут. — У вас все получилось… нет, у нас все получилось!
«Я вас больше никогда не отпущу».
[Если бы это только зависело от нас, милый. Ты бы, наверное, и вправду никогда не отпускал]
Она ухватывает его за руку, теряясь от нахлынувших в этот миг чувств – еще немного и она действительно расцеловала бы его, как обычно целовала Сашу в моменты сильных эмоций, удержал только взгляд, брошенный на его собственную ладонь к ее ужасу, окрасившуюся в кроваво-красный. Вид крови отчего-то всегда пугал, пусть она так часто бывала на охотах с отцом и братом. Но это совсем не тоже самое, что кровь человеческая.
— Нет, вы же…ранены! – не смущаясь и даже не думая о том, что это нечто предрассудительное перехватывает его руку, прижимая по инерции к своей груди и очевидно не собираясь отпускать. Но он упрямый, они бы может могли посоревноваться в упрямстве, но сейчас кажется не время и не место, поэтому придется оставить его несчастный затылок в покое. Для него, как для офицера, который к тому же был на войне, ее заявления про ранение, наверное должны были показаться забавными и детскими.
Хватается за его руку, слыша где-то рядом голос Саши. Значит встретились, значит и вправду все закончилось и закончилось хорошо. На бегу Лиза не удерживается от вопроса, который начисто слетел с языка, как только она увидела его окровавленную ладонь.
— Кирилл Андреевич, я конечно рада, что вы пришли за нами, но… скажите право, чем же от вас так пахнет и почему вы выглядите так, словно ограбили кого-то по дороге?
Саша хохочет, она тоже.
Они молоды. Они любят. Они все еще свободны. А что там дальше – это не столь важно. Важно, что сейчас.
____________♠♠♠____________
Лиза высовывает к окно кареты, которую черт знает откуда Саша достал и черт знает как собирается возвращать обратно – Лиза вообще думать не хочет о том, как он собирается объясняться с князем, у которого фактически украл невесту, а теперь еще и лошадей. Впрочем, сейчас это ее совсем не волновало. Волновал только ветер, который она ловила ладонью раскрытой, запахи полевых цветов, росших по дороге, волновало солнце, падающее на лицо, заигрывающее с волосами развивающимися.
Где-то рядом гарцует, точно красуется Саша, пересевший наконец на своего любимого Плутона и предавший себе хоть какой-то божеский вид, избавившись от рубища, в которое они нарядились. Лиза знает конечно перед кем он красуется, с небрежной легкостью умудряясь набрать целый букет полевых цветов, запах которых мигом заполняет пространство кареты. Лиза смеется, выглядывает в окошко, встречаясь взглядом с Кириллом, который за время этого их маленького приключения кажется, действительно стал родным – в конце концов ему они теперь обязаны. Обязаны все трое. И она готова, готова как и Сашу, защищать и выгораживать этого бесконечно серьезного человека, который сейчас кажется совсем другим, смеющимся мальчишкой, Лиза смеется вместе с ними, набирая в грудь этого пьянящего весеннего воздуха, ощущая ту самую свободу, которую никогда не ощутишь в дворцовых стенах.
Сашка дурачится, отрывает руки от поводьев, не мало не беспокоясь о том, что на таком быстром галопе, заданном их процессией, может свалиться, не обращая внимания на Наташины увещевания, чтобы «не дурил». Впрочем, уговаривала она его в этот раз как-то слабо.
«Люблю!» - кричит он громко, на все эти просторы распахивая душу, распахивая руки.
«Люблю» - хочется крикнуть вслед за ним.
Л ю б л ю.
***
Лиза брызгает на лицо водой, с наслаждением потягивается, пока Саша и Кирилл удумали, наконец помыться [оно и к лучшему – она, право слово, уже не знала как бы намекнуть им на то, что от их внешнего вида и запаха очень поморщиться хочется]. Саша, оставаясь в одной белой рубашке упирает руки в бока:
— Слабо? Да нет, после того, что ты со мной учинил я только и мечтаю, как бы в этой реке поплавать. Или тебя утопить! – с этими словами с силой толкает несчастного Волконского на песчаный берег реки, у которой они остановились, первым бросаясь в прохладную еще воду. Они смеются, скидывают одежду, заставляя Лизу с Наташей, которая все это время кажется просто наслаждалась свободой, окружившей ее, вздрогнуть. Наташа качает головой, ласково наблюдая за этим безобразием, Лиза же не выдерживает выкрикнет: «Совсем вы что ли стыд потеряли?», но выходит как-то совсем не грозно, остается только оставить этих больших детей развлекаться в студеной воде. Главное, чтобы дело не дошло до того, что испускаться предложат им. Хотя, Лиза, впрочем, не отказалась бы наконец окунуться в воду. Наблюдает с берега, как один пытается «потопить» другого, с какими-то криками, предупреждениями, что «это покушение на жизнь династии!» снисходительно качает головой.
— Кирилла Андреевича и не узнать… — вырывается как-то само собой, пока она наблюдает за ними, держа Наташу под руку. Она даже не замечает как это получается. Кашлянет, постараясь исправиться, чтобы это не звучало как-то двусмысленно. — Я имею ввиду, что он ведь казался раньше таким серьезным, взрослым…Прямо как ты, Наташа! – ловко уводя тему, пока Наташа не поймает ее на этом. — Что собираетесь делать, как только мы вернемся? Ты же вернешься? – неожиданно взволнованно. Вдруг Наташа и вовсе теперь во дворец не собирается?
Она не поворачивается к Лизе, наблюдая за мальчишескими проделками Саши и Кирилла, словно раздумывает. На красивом лице заиграет легкая, такая расслабленная улыбка, какой она у Наташи когда до этого не видела.
— Я подумала… Знаешь, Лиза – мне теперь совсем не важно, кем я буду там. Фавориткой, любовницей – пусть называют как хотят. Главное, чтобы с ним. Я поняла, что ничего важнее нет. Я поняла, что иначе просто не смогу.
— Ну… — Лиза лукаво наклонит голову, сощуривается от яркого солнечного света и потянет Наташу прочь от кромки воды. —…это конечно правильно, но я что-то сомневаюсь в том, что ты будешь кем-то из них.
«Нет, Саша определенно не для этого проделал весь этот путь, угрожал отречением и теперь такой счастливый, Наташа».
Саша с Кириллом, видимо отказавшись-таки от идеи утопить друг друга за только им известные прегрешения в лесу [надо же ей было пропустить самое интересное], выбираются на берег – мокрые и счастливые, вытряхивающие из мокрых волос речной песок. Рубашки плотно облепляют их влажные тела, Лиза невольно, совершенно невольно, бросает взгляд на контуры тела, мгновенно появляющиеся под ними, краснеет, кашлянет. Вздергивает подбородок, всем своим видом показывая, что совершенно не смущена. А ведь смущена. Даже очень.
Кирилл зовет Сашу «Сашкой» и это только еще одно лишнее доказательство, насколько эти двое стали близкими. Так его звал разве что отец. Отец и больше никто. Ну, и разумеется Лиза.
С а ш к а бросит недовольный взгляд на окончательно распоясавшегося, очевидно, Волконского, хмурится шутливо.
— Знаешь что, ты окончательно мне надоел за это время, Волконский! — он тычет в него пальцем указательным, а Кирилл, дурачась [как забавно, Кирилл Андреевич, а я, признаться, думала вы и не умеете] прячется за их спинами. — Он знаешь что, Натальюшка, знаешь что? – делает шутливый выпад в их сторону. — Пиво – отбирал, командует мной постоянно, вымазал лицо в грязи так, что конь родной не признал, а теперь «Сашка никуда от вас не денется!», — передразнивает Волконского каким-то противным голосом, но в глазах горят лишь огни веселья.
— Ну так и что же? – мгновенно переметнувшись на сторону, прячущегося за их с Наташей спинами Кирилла, заявляет Лиза, окончательно заражаясь этим веселым духом свободы их молодости. — Ведь и вправду никуда не денешься теперь!
Саша срывается с места со смехом, с таким же заливистым смехом, каким обладала и сама Лиза, пускаясь в шутливую погоню за неожиданно проворным Кириллом, периодически падая прямо на речной темный песок, вновь поднимаясь, не мало не заботясь о том, что совсем недавно наконец от грязи отмылись, с криками: «Я покажу тебе, присматривать! Надоел ты мне!». Наташа дипломатично не желает ввязываться в этот своеобразный спор, касающийся вопросов Сашиной ответственности [или ответственности за Сашу], Лиза хлопает в ладоши сама не понимая за кого толком болеет.
Саша вдруг останавливается, легким движением прилипший песок смахивает и крикнет, обращаясь очевидно к ним:
— Лиза – за фамилию, как говорится! – а после бросит Волконскому. — а теперь попробуй догони, мы, Романовы, быстрые!
Лиза переглянется с Наташей, прежде чем ринуться наутек от несчастного [или очень даже счастливого] Кирилла Андреевича в разные стороны, рассыпаясь счастливой, смеющейся стайкой птиц. Птиц неожиданно вольных, словно нет за их спинами дворцов, трона, правил, запретов – только крылья, которые вырастают словно. Кирилл проворным оказывается и неутомимым, неожиданно быстро поймав Наташу, а следом и Сашу [Лиза подозревает, что брат действительно специально, попросту желая остаться, наконец с Наташей], но себя она так легко поймать не позволяет. В конце концов, чтобы ее поймать, нужно такое чудо заслужить. И если уж в ход пошла фамилия, то Романовы не то что не сдаются – они не позволяют себе сдаться.
Лиза позволяет оказаться рядом с собой, прежде чем легко, ловко выпорхнуть из вот уже готовых сомкнуться объятий, рассмеяться хрустальным смехом-перезвоном рассыпаясь, снова приостанавливаясь и снова вырываясь, словно завлекая охотника, а потом улетая куда глаза глядят.
— Нет, не поймаете, Кирилл Андреевич. Вы снова долго выцеливаете! – вспоминая об их первой встрече, легко удаляясь от него, свободной птицей.
А он упрямый, она давно уже поняла, что упрямый, не оставляя попыток д о г н а т ь. Не оставлял их в том самом лесу, не оставлял их и теперь, на этом пляже. Только теперь, она, кажется, была и не то чтобы сильно против, когда в какой-то момент он таки подхватывает ее, кружит, как часто кружил Саша, а она смеется, смеется вместе с ним, их голоса перекликаются, их смех словно становится одним целым, рассыпаясь по берегу речному. Она держится за сильные плечи, славливает лучи солнечные в серых глазах, в которых неожиданно находит собственное отражение. Она все еще держится за его плечи, такие надежные, оставаясь в руках, которые и теперь она в это действительно верит в это, никогда не отпустят.
— Ну что же вы, Кирилл Андреевич? – позволяет себе шутливо взлохматить волосы у лба, вновь вьющиеся. — Если поймали, то не за что извиняться. Я всегда верила, что свои заслуги нельзя ни преуменьшать, ни преувеличивать.
Они смотрят друг на друга, улыбаются, на пару секунд пропадая для окружающих, пока Саша-таки не вспоминает про костер и какой-никакой, но ужин.
***
Он чувствует тяжесть ее головы на плече, но это, пожалуй, самая приятная тяжесть на свете. Переплетает пальцы, наблюдая как искры тлеющего костра улетают в фиалково-синее небо, краем глаза замечая две фигуры, удивительно гармонично вместе выглядящее – удивительно, что они сами этого до сих пор не заметили.
Она поднимает на него глаза свои, вобравшие в себя это сумеречное небо. Он улыбается.
— Что ты так смотришь? Неужели я так прекрасен?
Она улыбнется, легким движением пальцев убирая густые светлые волосы с его лба.
— Я просто смотрю через твои глаза на небо.
Он помолчит, а потом скажет совершенно серьезно.
— А мне нет дела до неба, когда можно смотреть на тебя.
Они помолчат, зачарованно глядя друг на друга, после она вновь положит свою голову на его плечо, прижимаясь к нему теснее.
— Саша, как думаешь, что нас ждет?
Он пожмет плечами.
— Не знаю, — признается честно. — Но знаю точно - что бы ни было завтра, сегодня я вас люблю, Наталья Алексеевна.
Он чувствует, он знает, что она улыбается, словно кожей ощущая это тепло.
***
Лиза прогуливается по берегу, обхватив себя руками, чтобы сохранить тепло от костра, у которого сидели до поры до времени, почувствовав все же острую необходимость оставить Сашу с его любимой наедине. Так и пришлось вместе гулять туда сюда, разговаривая обо всяческих пустяках, которые приходили в голову, бросать случайные плоские камни в воду. Огонек костра еще виднеется около их импровизированного лагеря.
— Да, я тоже рада. За них обоих. Ведь теперь все правильно – они наконец-то счастливы, — согласно кивает она. Едва-едва они соприкасаются плечами, пока идут по этому берегу. — Во дворец? Что ж…
Она могла бы сказать, что вовсе и нет – здесь привольно, дышится свободнее, здесь не преследуют ее портреты навязанных женихов, бесконечные опостылевшие лица придворных, здесь х о р о ш о. А с другой стороны там, во дворце, прошла вся жизнь, остались ее мальчики и в конце концов родители. Там знакомые комнаты, привычные галереи и часы, отбивающие в точности время.
Она повернется к нему, смотрит в это вновь ставшее сосредоточенно-серьезным лицо, в котором все чаще находит привлекательные черты.
— Это мой дом. Он бывает злым и там бывает одиноко, ужасно одиноко, он бывает несправедливым, но это все равно мой дом. К тому же, правда сказать, я волнуюсь о батюшке…
«И меня там кое-кто ждет» - хочется добавить, но она сдерживается, хотя Кириллу Андреевичу наверняка можно было бы рассказать про Кречетова. Вряд ли он стал бы трубить об этом всему свету.
— Но! — важно замечает она с улыбкой. — Мне может быть совсем не хочется возвращаться прямо сейчас! А за Наташу вы теперь не волнуйтесь. Саша ни за что ее больше не отпустит, уж поверьте. Ну, а если что, мы ведь всегда сможем рассчитывать на вас так? Вы же сказали мне под лестницей, что больше никогда меня не отпустите, а? — она взмахнет ресницами, сверкнет лукаво зелеными глазами в его сторону, но не успеет подумать о том не взялась ли она снова флиртовать [а если взялась, то надобно прекратить], или же просто желает развеять эту тучу, которая над ним повисла.
Не успеет, потому что за шорохом листвы и хрустом веток покажется офицер в мундире. И она узнает его кажется – один из личной охраны Императора. И сердце отчего-то тревожно пропустит удар, она машинально ухватит под руку Кирилла. Саша слишком далеко – обычно, еще с детства, она так хваталась за него, выспрашивая защиты. Саша тоже поднимется на встречу вечернему гостю. Зачем он пожаловал? Забрать Наташу? Сообщить, что Саша больше не наследник? Нет, что-то не так, не так, не т а к.
Ахнет тихо, крепче держась за чужую \\ уже совсем не чужую руку, прижимая свободную руку к губам, с которых вот-вот сорвется испуганный вскрик. Сашино лицо мрачнеет, превращаясь в каменную маску, по которой не поймешь о чем он думает – совсем как мама. И неожиданно зазвучат в голове дворцовые часы, точно и оказывается так нещадно отбивающие ход времени.
Тик.
Так.
Ваше время истекло.
Дворец еще издали величественной громадой возвышавшейся над Невой показался неуловимо и н ы м. Может быть этому способствовала погода, встречающая экипаж: хмурая, с неожиданно-прохладным ветром, дующим с Финского залива и разительно отличающаяся от той раскаленной жары, которая сопровождала их несколькими днями ранее, когда они веселые и непринужденные носились по берегу речушки, названия которой теперь никто и не вспомнит.
Нева тоже была неспокойной, волы вспенивались грозясь наплыть прямо на набережные и улицы, в очередной раз угрожая жителям столицы новым наводнением. Эта неспокойная вода реки, которая уже давно стала негласным символом города, словно предупреждала о чем-то, словно чувствовала приближение перемен и от того окончательно взбеленилась. Солнце отказывалось уже выглядывать из-за туч и только выкрашенные желтым по личному указу императора дома и дворцы, делали облик города не настолько унылым.
Лиза пару раз выглядывала из окна кареты, нетерпеливо спрашивая то у Саши, то у сопровождающего их теперь неотступно Шилова [того самого офицера, который как оказалось несколько дней искал их по всем возможным и невозможным местам], то у кучера – долго ли еще и не быстрее было бы поехать верхом. Все отвечали, что осталось еще совсем немного, но это ее категорически не устраивало. Немного понятие растяжимое, а что-то неуловимо гнало вперед, какое-то дурное предчувствие, настигающее ее с каждой верстой с новой силой. Одна мысль прочно засела в ее голове: «А если не успеем?...». Она каждый раз отбрасывала ее как можно дальше, но она снова и снова возвращалась. И вот теперь, когда великолепное строение можно было увидеть уже вживую, когда оставалось совсем вроде бы немного, ее буквально затопило на манер набережной с новой силой всем этим.
Петербург замер в ожидании.
Жизнь вроде бы продолжалась, но будто бы неохотно – лавочники прятались от непогоды, кто-то готовился к новому наводнению, перегоняя лодки подальше, корабли близ Александро-Невской лавры покачивались на якорях, а длинные мачты врезались в пасмурно-серое небо, без парусов своих напоминая обглоданные стволы деревьев. Пробегали мимо них мальчишки босоногие с корзинами фруктов, которые срочно нужно было распродать, гуляющих почти не было – ветер поднимался по истине сильный и какая-нибудь дама наверняка попросту не хотела потерять шляпку. По крайней мере так казалось внешне.
Но внутренне он словно замер в напряженном молчании, не зная что готовит ему завтрашний день. Это разумеется пресекалось, но последнюю неделю в столице все равно ходили упорные слухи о том, что хозяин города и государства, вероятнее всего уже не выйдет из стен не так давно заново выстроенного нового Зимнего дворца, не пройдется широким шагом по булыжникам набережных и не взойдет на свой ботик саморучно им построенный. А как известно, как только приходит время правителю меняться, то никогда не знаешь, что это за собой несет. В основном люди привыкли считать, что ничего хорошего. Нет-нет, все и всегда надеются, что с новый правителем непременно придет и «Золотой век» [которого все так дожидаются], но ожидают, что начнется то ли опричнина, то ли заговоры, а может и перевороты. И тогда непременно пострадают они, простые люди, попрятавшиеся в свои дома и обратившие взоры на дворец, над которым все еще был натянут флаг Российской Империи, разрываемым злым, клокочущем над городом, ветром. Они ждали. А неизвестность, обычно, хуже всего. Они ждали, вздрагивая от звона колоколов к вечерней, ожидая, что зазвучит непременно похоронный набат. Ждали, когда загремят пушки в Петропавловской, а по набережной загремят роскошные кареты одна за одной [кареты куда роскошнее, нежели те, в которых довелось им ехать сейчас] – то придворные, члены Сената, иностранные послы и дипломаты станут съезжаться к Зимнему, а звук от топота копыт лошадей будет чем-то вроде все того же похоронного колокола. Ни для кого не секрет, что к возможным похоронам самодержца все готовились заранее, чтобы в случае чего неповоротливая государственная машина сработала быстро. В случае царских похорон нет места, как в домах обычных людей, слезам – на них просто нет времени.
Лиза видит развевающийся флаг. Это приносит хотя бы какое-то призрачное успокоение, прежде чем снова оказаться в карете, практически с ума сходя от вынужденного бездействия. Она измяла платок, одолженный у Наташи, измучилась и извелась, обратная дорога от того показалась куда более долгой, чем весь путь, который им удалось проделать в поисках Наташи. Так странно – еще недавно их главной проблемой было то, где находится Наташа, как защитить ее от дальнейших посягательств на свободу, а после и вовсе никаких проблем не было. Так странно – еще недавно они смеялись, разговаривая обо всем на свете, а она призналась Кириллу Андреевичу в том, что «беспокоится за батюшку». Призналась в том, что дворец ее дом, но отчего тогда именно сейчас в глубине души она так боялась туда возвращаться, словно стоит только вернуться, подняться по парадному крыльцу дворцовому внутрь и двери захлопнутся, а с ними и все то, что знал раньше изменится. Изменится безвозвратно. И кажется чувствовала это не она одна.
На обратной дороге они почти не разговаривали, словно каждый погрузился в пучину своих мыслей и возможно страхов и может еще и от того обратный путь показался таким долгим. Саша, ехавший впереди вместе с Шиловым и Кириллом был молчалив необычайно, особенно для своей персоны. С тех самых пор, когда Шилов сообщил о том, что состояние императора вызывает определенные опасения [именно так он и выразился, видимо не рискуя говорить более прямо, именно так выражались многие в последнее время], Саша обронил всего несколько слов и то в основном с Волконским, но содержания их недолгой беседы она не могла слышать. Ее брат не то что постарел мгновенно, но серьезность не была ему свойственна, в отличие от того же Кирилла и поэтому его мрачный, неожиданно холодный вид не делал ситуацию легче. Он словно полностью ушел в себя, хмуро глядя перед собой и обычно ярко-голубые глаза подернулись серой пеленой. Он был не здесь с самого начала их обратного пути, Лиза точно знала – он уже давным давно мысленно был где-то т а м. Во дворце. И возможно у постели отца.
И Лиза время от времени пыталась как-то заговорить с ним, но он или не слышал ее или просто не хотел отвечать на вопросы, на которые у него не было ответов. Было бы проще, если бы рядом с окнами кареты ехал хоть кто-нибудь, хотя бы Волконский, так было бы спокойнее, а так приходилось разговаривать лишь с Наташей, знавшей не больше ее самой и, если честно, не особенно жаждущей разговаривать. Ее можно было понять – в один миг ситуация стала еще более непонятной, нежели была до этого. До этого нужно было разобраться лишь с матушкой и быть может с князем [ну или со всем петербургским высшим светом вместе взятым]. Теперь же к этому добавлялось то, что они могли приехать в совершенно иную столицу, а на завтра жить в совершенно иной стране, а в таких обстоятельствах всем совершенно не до дел сердечных.
Лиза гадала о том каким образом состояние отца так резко ухудшилось, что послали искать в первую очередь Сашу, наследника. А еще эти слова Шилова о том, что собралось «много медикусов», не оставлявшие надежды, что это всего лишь очередной приступ, которые можно унять, как только они переберутся из Петербурга к лету в Петергоф, близ залива и Балтийского моря с его целебным соленым воздухом. Можно было бы и вовсе рвануть на юг, в тепло, стоило только дождаться, дождаться… Состояние отца уже давно было пошатнувшимся – бесконечные военные походы в молодости, стройка Петербурга, в которой он принимал непосредственное участие, образ жизни, который никак не соответствовал предписаниям лекарей: балы до самой поздней ночи, постоянный доступ к вину и его любимый кофе, еда, в которой никто не знал меры, а самое главное эти бесконечные попойки, которым при дворе уделялось такое огромное внимание. Иногда Лизе казалось, что она выросла в пучине вина, водки и бесконечной круговерти праздников, который охочий до веселья батюшка учредил. Обилие вина и шума на каждом продолжительном торжестве не мешало гостям чувствовать скуку и тягость от обязательного веселья по наряду, даже со штрафом за уклонение. Тысяча масок ходила, толкалась, пила, плясала целую неделю, и все были рады-радешеньки, когда дотянули служебное веселье до указанного срока. Но по дворцу находили-таки пару-тройку заплутавших дворян, не проспавшихся толком, бывших не в состоянии подняться толком на ноги. Отец обычно не знал меры как в преобразованиях, так и веселье, что теперь выходило боком. Может именно поэтому, Лиза так переживала за брата, как только тот пристрастился к выпивке весной – уж больно напоминал он отца.
А после работа, работа, работа до утра, разъезды по империи, постоянные волнения. Из него, уроженца континентальной Москвы, вышел истый моряк, которому морской воздух нужен был, как вода рыбе. Этому воздуху вместе с постоянной физической деятельностью он сам приписывал целебное действие на свое здоровье, постоянно колеблемое разными излишествами.
Ирония в том, что медикусы считали, что воздух Петербурга его и погубил.
Если отец по молодости не спал, не ехал, не пировал или не осматривал чего-нибудь, он непременно что-нибудь строил. Руки его были вечно в работе, и с них не сходили мозоли. За ручной труд он брался при всяком представлявшемся к тому случае. Все в той же молодости, как любил вспоминать Борис Федорович, когда он еще многого не знал, осматривая фабрику или завод, он постоянно хватался за наблюдаемое дело. Ему трудно было оставаться простым зрителем чужой работы, особенно для него новой: рука инстинктивно просилась за инструмент; ему все хотелось сработать самому. Везде, где он бывал, рассеяны были вещицы его собственного изделия, шлюпки, стулья, посуда, табакерки и т. п. Дивиться можно, откуда только брался у него досуг на все эти бесчисленные безделки. У Лизы сохранялись резные игрушки, которые отец выстрагивал в походах и на стройках.
Сам. Все и всегда сам, не делегируя, не передавая, торопясь успеть все, словно чувствуя, что у него не так уж много времени, противясь и врачам, и советам иных придворных и даже советам Апраксина – отец никогда не делился ни властью, ни ответственностью. И теперь эта власть и эта ответственность так придавили его к собственной кровати, что уже и не давали вздохнуть. Это хотелось показать всем, кто мечтает о короне императорской – человека огромного роста и огромной энергии, которая растрачена оказалась без остатка под гнетом все той же короны.
Да, он болел. Болел все это время, старея не по дням, а по часам, это все знали. Но ведь это не значит…умирать? Не значит, нет, должно еще оставаться время, но неужели состояние стало настолько плохим, что послали за Сашей, за тем, на кого должна упасть вся тяжесть бремени, которой отец нес с младенчества?
И Лиза вновь выглянет из кареты, просто чтобы взглянуть на прямую спину брата, всегда такого веселого, не менее энергичного, нежели отец [и неужели и из него все это высосут], такого еще ю н о г о по сути, который уже казался каким-то другим, пока они подъезжали к главному входу. На него уже будто что-то навалилось, но он не говорил, не рассказывал и уже тоже, как и отец не делился.
Карета останавливается столь внезапно, что Лиза, погрузившись в свои мысли, вздрагивает когда слышит Наташин тихий голос: «Приехали», а после не дожидаясь ни протянутых рук, ни даже открытой дверцы кареты, выпрыгивает прочь, обходит карету и замирает, испуганно шарахаясь назад от неожиданности.
— Шилов, что это, черт возьми? – голос Саши сухой и резкий словно и не его вовсе. Плутон, с которого он спрыгнул, заартачится, как только заметит развернувшееся перед ними действо, на дыбы встанет, приходится успокаивать.
— Так, коршун, Ваше Императорское Высочество. Мы уже какой день мертвых голубей находить начали под окнами, а это он их терзал, ирод этакий. Ну, его видно и подстрелили наконец, все выследить не могли… Видать не убрали еще. Не до того было…
Существо, разверстое на земле прямо перед ними, может и было коршуном, но поистине огромным, напоминающим скорее чудовище, которым нянюшки пугают доверчивых детей. Его крылья, казались, могли обнять Лизу полностью, распластанные по земле беспорядочной грудой перьев, а когти все еще внушали ужас. Но особенный ужас внушал его взгляд – желтые глаза холодно уставились в пространство перед собой, непобежденные и словно бы обещающие отомстить тем, кто пресек его жизнь. Вокруг валялись и случайно подстреленные голуби, кровавое месиво перьев разных цветов и длины, под птицей, в которую видно была выпущена не одна пуля, так же уже растекалась кроваво-красная лужа, успевшая потемнеть и засохнуть.
Но напугало Лизу не столько это зрелище бойни, сколько неожиданная догадка, неожиданное сравнение, пришедшее в голову и теперь не собирающееся исчезать. Мертвый, подбитый гвардейцами коршун, своим черным оперением, клювом, статью неожиданно точно походил на изображение, которое видел каждый в Империи. Изображение, которое чеканили на монетах, изображали на вензелях, воротах, каретах. Изображение, которое красовалось на флаге, развевающимся прямо над их головами. Разве что птица, глядевшая с них была двуглавой. Их герб. Герб, введенный отцом также, как и флаг, а теперь символ с него валялся прямо перед дворцом, растерзанный и убитый, а над ним уже кружили, каркая, вороны, ожидающие скорого пира над мертвым телом. Отвратительное зрелище, от которого забежали мурашки по телу и стало нестерпимо холодно – из тела словно вытекает все тепло тех немногих дней [если не часов], проведенных вдали от Петербурга и этого места.
Лиза не знает – показалось ли Саше то же что и ей, себя она никогда не причисляла к суеверным людям и бог знает кто еще за это время мог провести подобные аналогии, но он кривится, поджимая губы, холодно приказывает [именно приказывает, как обычно приказывал барин крепостному, как приказывает цесаревич, а может и император]:
— Немедленно убрать. Падальщики налетят.
Возможно впервые за долгое время она слышит от него фразу длиннее пары слов «да» или «нет». А он, кажется, наконец вспоминает о том, что вернулся не в полном одиночестве, хочет было подойти к Наташе, которую Лиза так крепко держит за руку, но не успевает, потому что прямиком с крыльца, укутанная простым платком, словно первым что попалось под руку, спускается матушка. Лиза дернется было к ней, как к родному человеку здесь помимо Саши, но что-то остановит и она так и стоит на месте, пытливо, жадно, ухватываясь за каждую деталь, которая могла бы рассказать ей, что с батюшкой.
Мама не похожа на саму себя, словно за то время, пока их не было, здесь произошло что-то страшное, что-то непоправимое. Она словно постарела на несколько лет, а в волосах убранных в самую скромную прическу из возможных, неожиданно затесалась седина. Ее лицо осунулось, из-за чего тени, теперь ничем не скрываемые, стали глубже, подчеркивая воспаленно-красные глаза [очевидно, следствие дней и ночей без сна], морщины углубились, а сама она вся напоминала бесконечно-усталого человека, держащегося на ногах исключительно на честном слове. Измученная чем-то внутренне, внешне она все равно пыталась сдерживаться, лично встречая их. Наверное, в другой раз, будь отец здоров, их ждал бы долгий разговор, наказания, возмущенные нотации и бесконечная череда вопросов. Но сейчас, императрице определенно было не до этого. Она бросит лишь короткий взгляд на Наташу, но ничего не станет спрашивать, вновь обращаясь всем существом своим к Саше, который преодолел все ступени крыльца за несколько широких шагов-прыжков, взметнувшись вверх и схватившись за материнские руки.
— Он все это время вас к себе требовал, Саша. Поспеши, поспеши, он совсем… — слова со скрежетом вылетают у нее из груди, даваясь с трудом как обычно бывает после длительного молчания. Все здесь не похожи на себя в миг. Есть ли теперь в ее доме, во дворце хоть что-то, что осталось таким, каким она это запомнила, когда уезжала? —…совсем плох, ступай, ступай к отцу. И ты, Лизавета иди, тебя он тоже…ждет, — мать словно впервые замечает ее, стоящую под всеми ветрами у этой кареты, рассеянно кивая, не собираясь, впрочем, видимо надолго задерживаться.
Лиза с неохотой какой-то отпускает Наташину руку – единственную, которую удалось подержать и на которую можно было опереться. Саша был далеко и вряд ли сейчас имел возможность ее успокоить, матушка и вовсе казалось заметила ее по чистой случайности. Лиза словно надвое разделяется, когда настает время идти к батюшке: ведь одна ее часть с самого сообщения только и стремилась, что оказаться наконец здесь, а другая отчаянно хочет с б е ж а т ь, не желая сталкиваться с тем, к чему здесь все очевидно уже давно приготовились. Но она идет вперед, идет следом за братом, не понимая, как удается переставлять ноги, высоко держать голову, не дрожать и не спотыкаться. Как во сне.
Саша оборачивается порывисто, находит глазами Кирилла, коротко бросая, прежде чем скрыться за массивными дворцовыми дверьми, на которых вылеплен все тот же двуглавый орел:
— Ты задержись, Кирилл. Понадобишься может.
Он не сказал этого вслух, но взгляд его, брошенный куда-то поверх головы Кирилла, говорил и о том, что: «И о ней позаботься».
Дворец засасывает их, они теряются в темном пространстве [во дворце не стали зажигать свечей и от того за дверью находился казалось лишь беспросветный мрак] прежде, чем двери тяжело закроются.
Вороны продолжат кружить над крышей и каркать – громко, отчаянно и как-то зловеще.
***
Он все еще был жив, хотя жизнь угасала в нем также поспешно, как угасает свеча в последние секунды – она дотлевала. И если до этого Лиза еще могла рассчитывать на то, что войдя в отцовские покои, обнаружит его измученным болезнью [ей доводилось видеть некоторые из его приступов], то оказавшись внутри душного, забитого прежде людьми [теперь их выставили вон], заполненного кисловатым запахом лекарств помещения и оказавшись подле его постели, она с отчаянной ясностью поняла, что рассчитывать на то, что ее отец, а заодно и император огромной страны, проживет еще хотя бы день, не представлялось возможным. На самом деле часть ее знала это еще тогда, когда мы поспешными шагами, почти бегом, даже не переодеваясь [никому и не было сейчас особого дела до того, как мы выглядим] неслись по коридорам. Потому что внутри было слишком много людей даже для дворца – они толпились в гостиной и приемной, прямо у дверей, за которыми колдовали медикусы, сенаторы и прочая знать, словно стервятники, ожидающие скорой добычи. Они в тот момент не нравились Лизе [как, впрочем, часто бывало], хотелось крикнуть им, чтобы убирались прочь, но она молчала, торопливо продираясь сквозь эту богато разодетую, напудренную толпу в париках, держа перед глазами спину Саши. Успеть, успеть, успеть. И слышались в спину шепотки уважительные, виделись поклоны, когда они расступались перед пока еще цесаревичем так, словно он уже принял на себя императорскую корону: «Ваше Высочество», «Добрый день, Ваше Высочество». Возможно, все они торопливо хотели засвидетельствовать свое почтение или преданность – Лиза никогда не питала иллюзий на их счет.
Он утопал в белоснежных подушках с кружевом [на фоне которых лицо его выглядело каким-то болезненно-желтым], укрытый одеялом, под тяжестью которых его грудь едва-едва опадала и поднималась. Дыхание вырывалось хриплым, тоненьким свистом из его груди, когда он силился что-то произнести. Высохшая кожа туго обтягивала череп, казалась пергаментной маской. При боковом освещении резкие тени создавали впечатление, что перед вами не живой человек, а существо либо фантастическое, либо потустороннее. Сколько бы не вглядывался ты в это лицо, ты никак не мог узнать в нем знакомых черт. Оставшиеся в комнате Борис Федорович и личный лекарь месье Флери, не произносили не слова: медикус разбавлял что-то в специально принесенной для этого чашки – к травяным запахам примешивался стойкий запах опиума [как тихо сказал лекарь как только мы вошли – в последние дни это оказывалось лучшим лекарством, которое по крайней мере давало приятные сновидения], а Апраксин стоял около окна, растворяясь силуэтом в хмуром свете солнца. Возможно, он хотел что-то сказать, возможно и нет – слишком внимательно разглядывая бумагу с императорской печатью в руках, не желая мешать возможно последнему нашему разговору с отцом. Не знает, не помнит – все, что она тогда видела это отцовское лицо-маску, иссохшую и измученную болезнью, лекарства от которой не было.
Он почувствовал, что кто-то находится совсем рядом, с видимым усилием открывая выцветшие серо-голубые глаза, едва-едва поворачивая голову к источнику нового звука. Рот приоткрывается, но вместо слов из него по началу вырывается только непонятный, почти птичий свист.
У Лизы предательски задрожит подбородок и она ничего тут не может с собой поделать, наклоняясь к отцу ближе, сжимая в руках некогда сильные, а теперь такие неожиданно ослабленные руки. Кожа их все еще была мозолистой и шершавой, как напоминание о том, что отец никогда не гнушался тяжелой работы и того же требовал от других. Но вряд ли теперь эти руки смогут поднять хотя бы столярный молоток или рубанок – безвольно они покоились на его груди. Правда, как только она сжала их ладонями, то он ответил легким пожатием. Узнал.
— Батюшка… — вырывается молящее родное обращение, будто оно может пробудить его от дурмана сонных трав и опиумных паров, будто может спасти.
Она прикладывает эту мозолистую руку к своей щеке, до крови прикусывая губу, чтобы не расплакаться окончательно – ни к чему отцу запоминать ее плачущей. Ему необходимо было запомнить ее улыбающейся, какой всегда ее и любил. И Лиза улыбается, улыбается несмотря на застывшие в глазах предательские слезы, которым она не дает возможности пролиться. Где-то чуть поодаль, так, чтобы отец мог его увидеть стоял Саша. Свет из окна подсвечивал его фигуру в расстегнутом мундире и белой мятой рубашке – растрепанного, уставшего с дороги и напряженно-натянутого, словно струна, словно ожидает погони и вот-вот готов сорваться с места. На его лице находится печать некоторого удивления – он очевидно был готов ко многому, готовился к этому всю дорогу обратно, но обнаруженное здесь не мало смутило, сбило с толку и возможно даже напугало. Он, как и Лиза, ожидал увидеть отца в постели, но они оба надеялись, что увидят его не умирающим.
Губы отцовские приоткрываются второй раз и на этот раз выходит членораздельное:
— Успел.
Успел их увидеть, пока не ушел, не исчез, не оставил их одних, очевидно. После, сосредотачивает свой взгляд на Лизином лице и ей на какой-то предательский миг покажется, что он и вовсе не узнает ее, но тут он добавит, севшим хриплым полушепотом:
— Лиз..е… - не договорит, дыхание сбивается и он глухо откашливается, опадая на подушки, которые грозятся словно задушить его. Отец двухметрового роста, а на этой кровати неожиданно покажется совершенно маленьким и каким-то хрупким.
Лиза закивает быстро, показывая всем своим видом, что она поняла, что он пытается донести, плотнее прикладывая ладонь к своему лицу. Ладонь еще сохраняет остатки тепла. О, как много раз за ее детство он хлопал ее по щеке, когда журил, хвалил, пытался приласкать как умел. И неужели же вот так неожиданно [а бывает ли смерть неожиданной?] он больше никогда не станет этого делать, потому как будет совершенно не в состоянии?
— Да, батюшка, ваша Лизетка тут, я пришла, мы с Сашей пришли, — голос предательски дрогнет, когда придет время ей говорить, во рту появится железистый привкус крови, из-за прокусанной губы. Она уже не улыбается, просто умоляюще смотрит в болезненное лицо отцовское и не верит, что действительно придется отпустить. Шарит не глядя в пространстве, пытаясь поймать Сашину руку, а когда выходит, то немедленно кладет ее поверх отцовской. — Вот, батюшка, видите, он тоже здесь, — шепчет она, а дыхание срывается, из груди вырвется то ли вздох, то ли всхлип.
Отец может и хочет как-то успокоить – слез он никогда не любил, тем более у своих детей, но сил у него на это не хватает. Их батюшка.
Глядя на человека на подушках сложно вообразить – каким он был до этого момента. Можно было представить это глядя на портрет, выполненный кистью голландского художника: Петр с длинными вьющимися волосами весело смотрит своими большими круглыми глазами. Несмотря на некоторую слащавость кисти, художнику, кажется, удалось поймать неуловимую веселую, даже почти насмешливую мину лица, напоминающую сохранившийся портрет бабушки Стрешневой. Другой портрет, висевший в рабочем кабинете и который отчего-то особенно хорошо запомнился Лизе с детства, был выполнен французом. Тогда отец еще не оставлял идею повенчать ее, восьми лет от роду и французского короля на год ее младше. И именно тогда помимо ее портрета он заказал и свой, по мнению многих вышедший очень удачно, но самой Лизе не нравившейся. В складе губ и особенно в выражении глаз, как будто болезненном, почти грустном, чуется усталость: думаешь, вот-вот человек попросит позволения отдохнуть немного. Собственное величие придавило его; нет и следа ни юношеской самоуверенности, ни зрелого довольства своим делом. Правда именно тогда отец из Парижа уезжал в Спа, на воды в Голландию, пытаясь вылечиться от болезни, которая теперь окончательно его сгубила.
Лиза помнит своего отца совсем иным, таким наверное запомнят и все окружающие, все простые люди, запомнит сама история.
Каким был этот юноша, с буйными черными кудрями, удивительным образом никому из ныне живущих его детей не доставшимися?
Как-то отец говаривал, что всегда был гостем у себя дома. Он вырос и возмужал на дороге и на работе под открытым небом. Сейчас, перешагнув порог 50 лет, удосужившись оглянуться на свою прошлую жизнь, он увидел бы, что он вечно куда-нибудь едет. В продолжение своего царствования он исколесил широкую Русь из конца в конец, от Архангельска и Невы до Прута, Азова, Астрахани и Дербента. Многолетнее безустанное движение развило в нем подвижность, потребность в постоянной перемене мест, в быстрой смене впечатлений. Торопливость стала его привычкой. Он вечно и во всем спешил. Его обычная походка, особенно при понятном размере его шага, была такова, что спутник с трудом поспевал за ним вприпрыжку. Ему трудно было долго усидеть на месте: на продолжительных пирах он часто вскакивал со стула и выбегал в другую комнату, чтобы размяться. Эта подвижность делала его в молодых летах большим охотником до танцев. Он был обычным и веселым гостем на домашних праздниках вельмож, купцов, мастеров, много и недурно танцевал, хотя не проходил методически курса танцевального искусства, а перенимал его «с одной практики» на вечерах у Лефорта.
Возможно, легкую обучаемость наукам и искусствам они и переняли у отца, который схватывал на лету все, за что брался.
А сейчас он лежал неподвижной восковой фигурой и это было совершенно неправильно. Отец – знатный охотник до танцев едва мог пошевелить пальцами и Лизе оставалось лишь гадать о том, что он испытывает при этом. Мучает ли его собственная немощность, а быть может отец настолько устал от болезни, что ему было как-то все равно.
Отец не был столь блистательно приучен к высшему свету, как Саша, чувствовавший себя что на балах, что в гвардии одинаково комфортно. Ни в чем не терпевший стеснений и формальностей этот властительный человек, привыкший чувствовать себя хозяином всегда и всюду, конфузился и терялся среди торжественной обстановки, тяжело дышал, краснел и обливался потом, когда ему приходилось на аудиенции, стоя у престола в парадном царском облачении, в присутствии двора выслушивать высокопарный вздор от представлявшегося посланника. Лиза помнит, как пряталась за троном отца в эти моменты и помнит, как неизменно потом он жаловался на необходимость «торчать там как медведь на потеху». Тогда она непременно обещала ему, что как только вырастет, станет слушать посланников вместо него. И он смеялся, гладя ее по рыжей головке.
Однажды Лиза уличила момент, умудрившись надеть бриллиантовую корону на голову – уж больно этот венец красиво сверкал, переливаясь на солнце алмазами и рубинами. Царский венец оказался до того тяжелым, что она заплакала от неожиданности той боли, сдавившей детскую глупую головку. Отец, подождав пока она утрет мокроту с лица посадил ее к себе на колено и спросил: «Ну что, Лизавета Петровна – тяжела отцовская ноша?». Он даже не наругал ее тогда, впрочем, как и всегда.
Его, монарха, которого в Европе считали одним из самых могущественных и богатых во всем свете, часто видали в стоптанных башмаках и чулках, заштопанных собственной женой или ими, его дочерями. Лиза, правда науку это постигала неохотно и штопала неумело, но отец не гневался, когда штопка шла вкривь и вкось, все равно их надевая. Дома, встав с постели, он принимал в простом стареньком халате из китайской нанки, выезжал или выходил в незатейливом кафтане из толстого сукна, который не любил менять часто; летом, выходя недалеко, почти не носил шляпы; ездил обыкновенно на одноколке или на плохой паре и в таком кабриолете, в каком, по мнению многих людей при дворе [которое разумеется не смели высказывать ему лично], не всякий московский купец решился бы выехать. В торжественных случаях, когда, например, его приглашали на свадьбу, он брал экипаж напрокат у щеголя сенатского генерал-прокурора Ягужинского.
Он совмещал в себе привычки старорусского хозяина и простого мастерового. На заведенных им в Петербурге зимних ассамблеях, среди столичного бомонда, поочередно съезжавшегося у того или другого сановника, царь запросто садился играть в шахматы с простыми матросами, вместе с ними пил пиво и из длинной голландской трубки тянул их махорку, не обращая внимания на танцевавших в этой или соседней зале дам. Он бывал весел, обходителен, разговорчив, любил и вокруг себя видеть веселых собеседников, слышать непринужденную беседу за стаканом венгерского, в которой и сам принимал участие, ходя взад и вперед по комнате, не забывая своего стакана, и терпеть не мог ничего, что расстраивало такую беседу, никакого ехидства, выходок, колкостей, а тем паче ссор и брани. Привыкнув поступать во всем прямо и просто, он и от других прежде всего требовал дела, прямоты и откровенности и терпеть не мог уверток. Именно поэтому, Лиза ненавидела врать и ненавидела, когда врут ей – отец отучил ее от такого поведения. Саша же, зачастую излишнюю прямоту принимал за грубость, умело лавируя между откровенностью [зная, с кем это можно] и придворным лукавством. Может поэтому они не были с отцом так близки, как была она.
И все же, Лиза не сомневалась в том, что отец любил ее брата, единственного сына не меньше ее.
А еще в том, что такого как ее отец не будет. Саша станет прекрасным императором, к чему его готовили с детства, но никогда не станет курить махорку с матросами. Не потому, что гнушался простых людей, вовсе нет. Скорее потому, что табак терпеть не мог, затягивая руки в белоснежные перчатки.
Отец чувствовал себя в блистательном свете медведем – Саша был в нем львом.
Добрый по природе как человек, Петр был груб как царь, не привыкший уважать человека ни в себе, ни в других; среда, в которой он вырос, и не могла воспитать в нем этого уважения. Простота обращения и обычная веселость делали иногда обхождение с ним столь же тяжелым, как и его вспыльчивость или находившее на него по временам дурное расположение духа, выражавшееся в известных его судорогах, которые среди прочего и способствовали ухудшению прочих болезней. Успокаивала их обычно только матушка, садившая его на кресло или стул, а после брала его за голову и убаюкивала, как ребенка и все вокруг замирало, пока она неподвижно держала его голову в своих руках. Лиза помнила эти припадки, казавшиеся ей чем-то страшным – она пугалась и пряталась за мебель или придворных, пока отец не просыпался и как ни в чем ни бывало продолжал беседу или веселье.
Вспыльчивость сыграла с ним злую шутку.
Этот человек, человек которого она помнила и знала то безудержно веселый, то не находивший себе места, если ничего не делал, трудолюбивый и слишком энергичный, теперь стал лишь болезненной копией самого себя.
Он уходил. Она видела, что уходил, но отказывалась отпускать его корабль в последнее плаванье.
В одном они с Сашей были увы, но похожи чрезвычайно. В добрые минуты он любил повеселиться и пошутить, но часто его шутки шли через край, становились неприличны или жестоки. Сашины были не столь грубы, но вряд ли ее брат когда-нибудь обращал внимание на кого-то через чур ранимого, как не обращал и отец.
И вот теперь они смотрели друг на друга: отец и сын, император и наследник престола, родные и далекие одновременно. Лиза любила отца безотчетно, закрывая глаза на вспышки ярости, на бывало неумный характер и равнодушие, которое бывало проявлял к ним, но никогда к своим любимым кораблям, спуск на воду которых в лучшие годы отмечался не менее пышно, нежели рождение ребенка. Саша же относился к нему с тем почтительным уважением, которого требовалось от сына, но не более того.
Отец жестами требует разместить себя повыше, даже в таком состоянии не желая глядеть на них снизу-вверх, уж больно для него неприлично. И Лиза быстро выполняет эту просьбу, вызывая на его лице подобие улыбки облегчения. Флери говорил, что дал отцу какое-то лекарство со сложным названием, которое должно было на некоторое время облегчить испытываемые им страдания и позволить ему поговорить с ними. Но как же этого, оказывалось мало. Как же оказывалось мало того отведенного с отцом времени.
Перед смертью все одинаковы. И царским детям также тяжело оказывается терять отца, как это бывает у любых иных детей.
Он всегда был в первую очередь для нее отцом, а не императором. Пожалуй, так было только с ней.
— Светлячок мой, светлячок… — бормочет он, слабыми движениями поглаживая ее по волосам. Лиза еще до этого склонила голову на его плечо, не ощущая никаких знакомых запахов кроме удушливого запаха трав. Больше от отца не пахло ни табаком, ни морем, ни свежеоструганным деревом. Только болезнью. —…оставляю на брата не устроенной совсем…может и к лучшему, достойных не нашел…
— За кого скажите замуж пойду, батюшка, только вы останьтесь еще, я боюсь, я боюсь здесь без вас оставаться, такого не может быть… — Лиза прячет лицо, прячет его на слабо опадающей и вздымающейся вверх груди.
— Не может моя дочь бояться… глупости говоришь… — он долго молчит, заглатывая ртом воздух, сиплые вдохи делает, словно выдыхать ему с каждой секундой сложнее. Он сжимает ее руку, впрочем крепче, заставляя посмотреть в свое лицо родное и чужое одновременно. — Ничего никогда не бойся, дочка. Ты дочь Петра Великого, первого Императора Всероссийского. Ты дщерь огромной державы. Никогда ничего не бойся. Пообещай, пока я жив.
Видит, как она поджимает губы, не желая давать такого обещания. Лиза может ничего не бояться. Но не хочет этого говорить – это будет значить, что они вправду прощаются, а она не хочет, не может позволить Костлявой забрать отца сейчас, когда все стали такими счастливыми. Тяжесть венца ведь к счастью не располагает, а его тень так и нависает над ними. Над Сашей так точно.
— Обещай…— голос глохнет и ей приходится кивнуть, чтобы он немного успокоился, тяжело сглотнув. После, отец обращается к молчаливо стоящему рядом сыну, заставляя его наклониться к своему лицу.
Его рука неожиданно крепко удерживает его за шею, сжимая ее по-отцовски [а может и по-императорски] твердо, глядя в глаза, от части похожие на его собственные. Отец смотрит не отрываясь, кажется из последних сил пытаясь оставаться в сознании. В конце концов задрожит рука, задрожит все тело и единственное, что сможет расслышать Лиза в этих неразборчивых словах, сказанных хриплым шепотом будет отчетливое:
— Береги.
А после он падает на подушки, с глазами закатившимися, обнажая пожелтевшие белки глаз, не произнося уже более не слова.
Просил ли он беречь державу, самого себя, или же сестру и мать уже не будет известно.
Лиза задрожит вся, вглядываясь в посеревшее лицо отца, не желая отпускать отцовской ослабевшей, но все еще теплой руки даже тогда, когда Сашины пальцы сомкнутся на ее плечах, мягко, но настойчиво оттаскивая от постели, где началась а г о н и я [так вроде бы сказал медикус].
— Нет, батюшка, как же…как же…
Кто-то ласково почти что-то шепчет на ухо – Саша ли? Борис Федорович?... уговаривая ее подождать за дверью, подождать где-нибудь подальше отсюда, звучат слова утешения, а после дверь закрывается, оставляя за ней Сашу, оставляя ее одну в окружении удивительно-молчаливой толпы придворных, взирающих на нее в нелепом дорожном платье, выкупленном за гроши по дороге, какими-то неживыми лицами. Лиза вновь вспоминает о воронах, мертвом коршуне, вспоминает и о своем наверняка красном и увы, заплаканном лице. А такое лицо видеть этим людям непозволительно. Вот и приходится снова с леденящим душу спокойствием прошествовать мимо, не произнося ни слова и держа как заповедь библейскую отцовские слова: «Никогда ничего не бойся…».
И она не боялась.
По крайней мере все так думали.
Поделиться162024-05-20 20:45:50
Лиза замечает его фигуру ещё издалека, как только наконец вырывается из толпы окружавшей дверь в отцовские покои, оставляя тихие голоса знати все дальше и дальше, выдыхая с каким-то отчаянным облегчением как только оказывается на мнимой свободе. Она не замечала в течении этого времени насколько много пересекла комнат, гонимая прочь от места, где уже поселилась смерть и почти наверняка не уйдет обратно. Он стоял около картины, приведенной среди прочего добра в свое время отцом из Германии [еще одна вещь из целой плеяды, которая станет напоминать о том, что интересы отца распространялись буквально на все, а также о том, что не будет ни единого места во всей империи, на которое не наложил он свой отпечаток – так как же тогда страна останется без него?]: художник нарисоватл реку с маленькими лодками, одинокими фигурами, каменным мостом и деревьями в завораживающей атмосфере, освещенной множеством источников света. Он смотрит на картину так внимательно, словно фигуры, изображённые на ней вдали вдруг ожили не иначе. Лиза судорожно втянет в себя воздух, понимая насколько оказывается скучала по нему, оставшемуся здесь и, быть может, даже не заметившего ее отсутствия. Правда сказать – Иван Дмитриевич безусловно отличался от ее кавалеров с самого начала [Наташа всегда говорила, что отличается он лишь только тем, что был первым мужчиной в ее окружении, кто умел недурственно петь, от чего она воздвигла на его голове нимб в свои тогдашние 15 лет, но мало ли кому ещё из окружения Лизы Иван Дмитриевич приходится не по вкусу]: он не отличался армейской выправкой, но отец всегда говорил, что был удивительно верток в случае владения оружием и удивительно внимателен, что и сослужило добрую службу на охотах и сделало на отцовских охотах одним из основных действующих лиц. И эта чуткость проявилась и сейчас – он оборачивается на тихий шорох ее платья, а карие глаза вспыхнут двумя янтарными звёздами радости [как ей хочется верить].
— Лиза!...
Она вздрагивает, словно это его «Лиза» спускает неведомую волну, которую до этого момента всеми возможными усилиями сдерживала в себе. Она передернется всем телом, рвано всхлипывая, утыкаясь в широкую грудь, цепляясь за него, как уцепилась бы кажется сейчас за любого родного человека, только бы не ощущать этого ужасного давящего чувства потери. А он был рядом и от него не пахло лекарствами и смертью – от его одежды, как и всегда, пахло лесной хвоей, теплым запахом свечного воска из церкви, пахло теплом, которое она успела растерять покамест шла по кажущимися бесконечными дворцовым коридорам, в своих тщетных попытках по крайней мере найти с п а с е н и е. Ей кажется, что он ее спасение, по крайней мере в данный момент.
Он никогда раньше не звал ее по имени и это сейчас кажется особенно важным, словно они стали ближе. Всегда уважительно называл Елизавета Петровна, а когда она почти требовала звать ее по имени [а такой чести на самом деле не то чтобы многие удостаивались] он, глядя на нее своими большими карими глазами мягко замечал, что не смеет называть ее так, потому что простой смертный не станет называть имени богини, которой поклоняется. В пятнадцать лет это казалось невероятно красивым, когда юноши только начинают проявлять к тебе знаки внимания помимо ругательств и кидания камней из рогатки. Он, впрочем, всегда выражался очень красиво.
Лизе кажется, пока она обнимает его, пряча заплаканное лицо в бархатных [он всегда одевался несравненно лучше многих людей своего статуса] складках его камзола, что она наконец-то не одна, что кто-то вспомнил о ней, кто-то бесконечно важный и в конечном итоге близкий. За все время пребывания д о м а ей еще никогда не было так одиноко: все словно позабыли о ней, погружаясь в это горе, в котором она находилась ничуть не в меньшей степени, ее отец угасал, а она ничего не могла сделать. Но всем будто бы не было дела – Саша не произнес ни слова, матушка была похожа на тень, Наташа очевидно была где-то вместе с Кириллом. Никого не было, а ей так было необходимо почувствовать чье-то тепло, в этом месте неожиданно ставшим таким холодным, необходимо было сжимать чьи-то руки, необходимо было с о г р е т ь с я. А он оказался рядом, всегда красивый, словно сошедший с полотен известных художников, а она как никогда раньше вдруг осознает всю хрупкость жизни и быстротечность данного им времени – совершенно некогда ни в чем сомневаться.
— Ваня, Ванечка, как же это может случиться?... Как же? — она отрывает наконец окончательно заплаканное и наверняка ужасно не симпатичное лицо от его груди, умоляюще вглядываясь в его глаза, словно он мог дать ответ на этот вопрос, а может быть все и исправить. — Если батюшка все же… нет, я не могу об этом думать! Я не знаю, как быть дальше, совсем не знаю.
Он не выпускает ее из своих теплых и таких уютных объятий, одним осторожным движением большого пальца убирая с лица горячие слезы. Лиза – усталая от долгой дороги, сердечных волнений и драмы, которая разворачивалась где-то там, почти завороженно смотрит на него, как смотрят обычно на восточных заклинателей.
— Ах, Лиза моя Лиза… — он говорит сочувственно, а в сердце, которое как оказалось насмотревшись на любовь вокруг отчаянно ее хотело [или же хотело возместить тот ущерб, который нанесет ему возможная потеря] встрепенется просто на слове «моя». Как мало оказывается ему нужно, чтобы затрепетать. Ей кажется, что она любит. — Мне так жаль, если бы ты знала только. Его Величество Петр Алексеевич так много сделал для меня… Скажи мне, отчего ты не сказала о том, что уедешь? Я бы мог отправиться с тобой. Бог знает о чем я только не думал в твое отсутствие!
Лиза смотрит на него во все глаза, все еще надежно захваченная в его объятия, словно видит впервые. Так необычно было слышать от него такое. Ведь обычно все их общение состояло их долгих взглядов, когда она воображала себе, что никто их более не видит, случайных касаний рук, многозначительных фраз. Иногда они, пожалуй, разговаривали дольше, но всегда это походило на какой-то танец или же игру, понятную только им, когда ты говоришь одно, но подразумеваешь другое, выдерживаешь долгие паузы, не говоря главного, но вы будто итак это главное знаете. Но о таком она даже во сне мечтать не могла. Словно подменили.
Губы раскрываются в почти детской улыбке, сквозь все те же капающие с подбородка слезы. Эмоции сегодня определенно ее захлестывают и она никак не может разобраться, что в итоге чувствует.
— Так ты…ты заметил, что меня нет? Ты волновался?
Словно во дворце был хоть кто-нибудь, кто не заметил бы отсутствия сразу двух венценосных особ, которых принялись разыскивать по всем углам столицы и близлежащим городам. Но Лиза пропускает это, не замечает этого, не желает замечать, уже придумав картину в голове душевных терзаний предмета своей влюбленности.
Он не отвечает ей, неожиданно его лицо оказывается совсем близко, она делает вдох, попытавшись вобрать в себя воздуха, которого резко стало недоставать, а он делая одно быстрое движение, очевидно расценивая это как приглашение, окончательно сокращает и без того ничтожное расстояние между лицами и целует ее.
Лиза замирает на месте, даже руки по началу как-то неловко замрут в какой-то нелепой позе застигнутой врасплох птицы, даже не успевая сразу закрыть глаза [ведь именно так обычно бывает?]. И ведь не сказать, что это был первый ее поцелуй – нет, при дворе редко такое бывает, что к 18-ти никто и никогда еще не целовал тебя. Обычно это были невинные, почти шутливые поцелуи, которые ты раздаривал [кто-то скажет кому попало], означающие победу в каком-то споре или невинной забаве. И уж конечно не сказать, что она никогда не помышляла об этом раньше – нет, разумеется она представляла себе этот первый поцелуй с человеком, которого любила как думала по-настоящему. Она все же закрывает или даже скорее зажмуривает глаза, пытаясь отдаться хотя бы на мгновение на волю чувств, которые непременно должны были появиться, но отвлечься как-то не выходило, словно что-то мешало. Быть может, она и мечтала о поцелуе, о том, чтобы однажды он поцеловал ее, но наверное, никогда не мечтала о нем тогда, когда где-то там умирает ее отец. И тем не менее, она осторожно и кажется слегка нелепо отвечает на него, потому что просто стоять столбом уже как-то совершенно не правильно. Она возвращает движение застывшим рукам, несмело касаясь густых темных волос, ощущая пальцами их шелковистую мягкость.
Ужасно мешает отчего-то манжеты на платье своими нелепыми кружевами, кажется и вовсе застилая ему глаза. А еще как-то неистово громко стучат часы, которыми любил хвастаться батюшка, как новомодным изобретением. Она успевает подумать даже о том, что Серебрянке, пожалуй, необходимо будет втереть мазь в ноги, а еще голова Кирилла Андреевича ее все же беспокоит, говорят если сильно приложиться головой, то можно заработать те же припадки, что и у отца. А после Лиза злится на себя потому что как можно думать обо всякой ерунде, когда тебя целуют!
Делая все возможное, чтобы даже несмотря на некоторую неловкость и почти неуклюжесть этого поцелуя, он стал особенным, ждала ли она, что их первый поцелуй будет таким? Кольнуло ли в груди тонкой иголкой разочарование, вместо ликующего чувства победы и соединения с любимым? Она отказывалась отвечать себе на эти вопросы, да и потом попросту не успела. Потому что к бою часов примешивается звук чужих шагов.
Кто-то останавливается, а она едва ли успевает отпрянуть от Вани, словно уличенная в каком-то преступлении, развернуться порывисто и натолкнуться на взгляд, сопровождавший ее все это время. Пожалуй, весь сегодняшний день сведет ее с ума, определенно.
— Кирилл Андреевич? – она почти выкрикнет это с какой-то вопросительной интонацией в голосе, словно сомневается он это или не он. Естественно он. — А вы здесь?... Ах да! – фальшиво бодро, стараясь свести всю неловкость этой странной ситуации к минимуму воскликнет она, делая вид, что он не становился возможным свидетелем сцены весьма интимной. Но он ведь стал. — Я совсем забыла, что Саша просил вас…задержаться…— бодрость голоса подводит ее, голос затихает, как и энергия которой за то время, пока она находилась с отцом увы, не остается.
Она бросит на Волконского быстрый, пытливый взгляд. Что он подумал? Что она жестокая, равнодушная дочь, способная целоваться в тот самый момент, когда ее отец умирает? А может о том, что у нее нет никакого стыда, приличествующего благовоспитанной девицы? А может в конечном счете решит, что это именно те пороки, о которых она говорила и окончательно раздумает нарекать ее звездой и тому подобным…а впрочем, самый главный вопрос почему ее вообще так волнует, что себе подумает друг ее брата? Это Саше пристало об этом волноваться!
И все же она волновалась, глядя ему в глаза своими ярко-мерцающими, пытаясь разглядеть в сумрачно-сером в этом дворцовом полумраке взгляде ответы на свои вопросы.
Лиза выдавит на губах улыбку – выходит вымученно. Она снова чувствует, что бесконечно устала и все же протягивает ладонь, вспоминая о тех самых правилах приличия:
— Кирилл Андреевич, я полагаю вас следует друг другу представить, хотя честно признаться мне бы хотелось сделать это несколько в иных обстоятельствах… — пусть понимают как хотят. Она говорит о том, что если и представлять двух х о р о ш и х людей друг другу, то уж точно не в следствии тяжелой болезни родного отца, когда боишься любых шагов, которые могут стать предвестниками с м е р т и. — Это Иван Дмитриевич Кречетов, батюшка очень его ценил… Кирилл Андреевич Волконский — добрый друг моего брата и очень помог нам, — голос неуловимо теплеет на этих словах. — и надеюсь, мой друг тоже.
Она терпеливо дожидается, что они по крайней мере сами разберутся как проявить доброжелательность [которой, впрочем, не прослеживалось] кивками головы ограничившись или все же рукопожатием.
— Что же, человек, которого Елизавета Петровна называет своим другом должен обладать по истине выдающимися качествами, — может быть ей показалось, но в знакомом бархатистом голосе просквозит скрытый вызов. Впрочем, ей действительно могло показаться. — Имею честь быть представленным.
— Ну вот и славно… — устало взмахнет рукой, прежде чем опасно покачнуться, окончательно растеряв последние силы, потерявшись под грудой эмоций, ворохом чувств, в котором не готова разбираться. К счастью, рядом мгновенно оказывается рука, которая подхватывает с одной стороны и рука, которая подхватит с другой. Так и застынут оба, разглядывая друг друга, успевая удерживать ее от неминуемого соприкосновения с полом. — Благодарю… вас, — Лизе, если честно самой становится неуютно от повисшей атмосферы молчаливого вызова. Иногда мужчины неисправимы. Уж лучше бы просто проводили в покои.
— В таком случае, я попрошу у Вас прощения, Елизавета Петровна, оставляя вас одну, — Ваня сожмет с чувством ее пальцы, прежде чем поцеловать руку. Показалось или нет, но кажется, будто задержатся губы на коже дольше обычного. Она слабо улыбается, всем своим видом показывая, что не против его ухода. — Кирилл Андреевич, был р а д знакомству.
Где-то в глубине души она почти рада этому, пусть и кажется это каким-то предательством. Уж слишком неловкая ситуация эта.
Они остаются одни. Лиза молчит некоторое время, разглядывая знакомый рисунок на паркете дворцовом, впервые за долгое время не зная с чего начать. Она злит саму себя – в конце концов, ничего такого не произошло! Так почему же такое черт возьми чувство, что произошло и надобно это исправить? Так и хочется заставить его все высказать, чтобы по крайней мере иметь такую возможность, хочется снова разговаривать о том, о чем могла говорить разве что с собственным братом, в конце концов хочется просто выговориться, пожаловаться, рассказать все то, что не смогла рассказать Ване, оборванная неожиданным поцелуев, который дотлевал на губах.
— Как… — поворачивается к нему, осторожно и несмело касаясь рукава. —…ваша голова? За всем этим я так и не спросила, но вы уверены, что все в порядке? — это неловкая попытка беседы из-за его головы, наверняка провалится, а она отчаянно не хочет, чтобы провалилась. И в конце концов – она ведь действительно переживает, что ему досталось. Просто никак не удавалось спросить толком – сначала они убегали из Архангельского, после бежали в Петербург.
— Кирилл Андреевич… — рука безвольно опускает рукав кафтана, голос глохнет, стихает совсем, они стоят близко друг к другу и кажется так далеко, едва-едва касаясь пальцами рук. —…он умирает. Он умирает, а я не знаю, что буду делать, у меня право никто не умирал, а батюшка казалось вообще всегда будет, а теперь он умирает, а я ничего не могу поделать… И мне страшно, возможно впервые в жизни, страшно, а он сказал мне, что я не должна бояться, а я, признаться, все равно боюсь…
Так хочется тепла, просто тепла, без обязательств, притязаний и даже поцелуев. Иногда это бывает неуместным. Способов справиться с болью, если потребность в близости не удовлетворена, крайне мало. И именно сейчас, ей бы хотелось безумно, чтобы никто не вспоминал о каких-то нелепых приличиях, о неловкости, а просто выслушал ее.
Часы выбьют три часа по полудни. Красивые часы, покрытые сусальным золотом, те самые отцовские часы, которыми он хвастался среди прочего и ожидал, что хвастаться будут и другие. А следом за этим боем послышатся шаги, чьи-то тяжелые шаги, за которыми она никогда не узнала бы Сашиных шагов – у него они всегда легкие были и почти не слышимые, благодаря чему ему всегда удавалось подбираться к ней незаметно. А теперь казалось, что это шаги бесконечно-уставшего человека, еле волочащего ноги.
Но все же, это был он. Все в той же рубахе белой, в которой не так давно носился по пляжу вслед за Кириллом и смеялся. Теперь это казалось сном. На лицо легла та самая неуловимая печать усталости, которая когда-то была видна на лице отца только разве что на более поздних портретах. Лиза не знает о чем они с отцом говорили, как только ее выставили в момент припадка, очередного припадка ведь, теперь Саша лишь должен сообщить, что с батюшкой все будет хорошо. Ведь так?
Он останавливается, смотрит на них некоторое время совершенно молча, прикрывая глаза руками, из груди вырывается тяжелый вдох и послышится негромкое: «Боже, как же я устал…». После возьмет себя в руки, кажется, обращаясь к Волконскому, протягивая ему два конверта с императорской печатью.
— Держи. Отдашь кому следует – здесь объяснение, где носило тебя все это время. Не спорь, отдашь кому указано, — твердо, не давая времени рот раскрыть и возмутиться, что справится сам. — Хочешь служить – будешь служить и если есть возможность не влипнуть по уши из-за глупости, то не стоит. А это… — он выпрямляется, подходит к окну, раздвигая шторы, а взгляд голубой отдаст сталью, не дрогнет, хотя очевидно это стоит ему некоторых усилий. Лишь на секунду, когда он бросит взгляд на Лизу, они потеплеют. В горле комок появится. Отчаянно не хочется знать, что там во втором. —…а это ты тоже отвезешь в гвардию, отвезешь в казармы сейчас же, как можно быстрее, точно также, как объявлено будет всем прочим полкам. И скажешь, что сегодня в три часа по полудни, скончался император Всероссийский… Скончался… — повторяет это, задумчиво, отстраненно, устало. — А следовательно отныне мне будут приносить присягу, что нужно сделать незамедлительно… — голос словно не его. — Таков будет мой первый императорский приказ тебе. — заканчивает, вновь берет себя в руки, руки за спину убирая.
И только теперь она понимает, что именно в нем изменилось – стать стала другая. Какой она раньше будто и не замечала.
Лиза охнет, из груди вырывается стон, совершенно уже все равно становится, кто рядом, все равно на то, что следует в такой ситуации немедленно присягнуть на верность н о в о м у императору, в ее случае просто поклонившись – но вряд ли Саше сейчас это было нужно. Наверняка те люди, там, уже это сделали, поторопившись выказать почтение тому, на кого написано завещание с последней волей. Она просто вскрикивает, рвется к нему, заставляя в конце концов расцепить руки, заставляя очнуться, в конце концов на секунду вернув себе брата, которого знала. Своего брата. И он обнимает ее, прижимаясь подбородком к ее взлохмаченной макушке, обнимает так крепко, как никогда не обнимал за всю жизнь. И, наверное, большего им и не нужно.
…мы не увидели, как триколор медленно спустили вниз.
…мы пропустили мимо ушей первый удар огромного колокола, прорезавшего обуявшую Петербург тишину.
…мы не видели, как покачнулись корабли – любимые детища, уплывающего навсегда императора.
Город прощался со своим часовым, сдавшим пост.
____________♠♠♠____________
—…да в конце концов!...
Он отбрасывает от себя тяжелую папку, набитую бумагами и документами, которые необходимо подписать или же наоборот отправить на доработку. Саша ненавидит беспорядок на самом деле, но сейчас стол представляет собой зрелище весьма жалкое – вот уже несколько дней он вообще не выходит из этой комнаты, погребенный под бесконечными донесениями, выслушивающий доклады и прерывающийся разве что для того, чтобы выпить кофе [наконец правильно сваренный]. Наташа, наблюдая за всем этим, однажды сказала: «Если ты немедленно не отправишься спать – я уеду в Ревель или еще куда». Он знает, он легко славливает это выражение на ее лице, которое она прячет, но в ее случае спрятать это бесконечное беспокойство на дне синих глаз не выход. Пожалуй, совершенно дурная затея с первых месяцев самостоятельного правления следовать дурным отцовским привычкам, но навалилось за это время столько всего, что иначе не выходит. Если вести иной образ жизни, то гора бумаг и донесений, предписаний и докладов, только станет больше. Нечего было и думать о том, чтобы отправляться куда-то с инспекцией, пока не решишь первоочередных задач, оставленных отцом в свое время без присмотра. К концу жизни отец занимался разве что флотом ослабевшей рукой разбирая чертежи кораблей – не было никому дела до новых обмундирований, до дипломатических миссий, до распоясавшихся губернаторов, до предложений по новым мануфактурам. Но теперь, как только чиновники почуяли новую кровь все резко решили об этом вспомнить, да так резко и в одночасье, что он не успел вздохнуть, как оказался здесь, в окружении бумаг, огарков свечей от ночных посиделок, да таза с водой, в котором успевал разве что умыться. Какие уж тут свои собственные проекты, когда нужно разобраться с бесконечными проектами отца. Смешно.
Сашу называли Императором вот уже некоторое время, обращались «Ваше Величество», но внутреннее чутье подсказывало, что на самом деле не торопились этого признавать. Опыт определенный подсказывает, что клятву можно произнести с каким угодно выражением лица, не вкладывая в нее ни малейшего смысла, а выйдя за двери мгновенно о ней забыть – так говорила матушка, так считал и отец. Он чувствовал, читал это в глазах на каждом заседании Сената [который, как оказалось уже отвык вовсе от посещений властвующей особы, поэтому все долгое заседание, они смотрели на него так, словно он был слоном в посудной лавке – неудивительно, ведь наверняка долгие годы до этого они занимались там тем, что обсуждали какое вино у кого на празднике лучше, судя по завалу дел], слышал в вежливых отговорках, когда он требовал отчетности, требовал хотя бы каких-то действий, улавливал в недовольном поджимании губ как только он начинал говорить об изменении того или иного закона, порядка или черт возьми перестройки казарм. Нет, в их глазах, в глазах «сих почтенных старцев», самому младшему из которых было 53 года, он оставался лишь сыном великого императора, который взобрался на трон и сучит оттуда ногами. И ей богу, как сильно хотелось и вовсе распустить этот институт, чтобы сделать что-то свое, да только сейчас стране было вовсе не до очередных преобразований. Стране требовался порядок, а ему не помешал бы хотя бы сон.
Если уж говорить честно, то деятельность Сената оказывалась ему не понятной и по той простой причине, что в его ведомство ходило все и ничего. Они разбирали споры армян и китайцев, следили за фискалами, разбирали вопросы торговли, науки, в общем делали все, но делали так неохотно, что вопросы не разбирались, вот он возьми и прикажи принеси все неразобранные дела себе, не рассчитывая на то, что они заполонят пространство вокруг. По указу отца еще от 1718 года сенаторами являлись президенты коллегий, что вносило в его работу еще большую путаницу и медлительность. Саша же находил эту систему откровенно говоря не функционирующей – дела разбирались медленно ввиду того, что члены коллегий не успевали следить за своими делами на местах и сенатствовать, кроме того, он нашёл, что Сенат как высшая инстанция над коллегиями не может состоять из лиц, которые сидят в коллегиях. В коллегиальном решении дел не было в итоге никакого смысла – одни просто подавляли других. А в довершении всего, как только отец ослаб и до этих заседаний ему окончательно не стало дела и желания, состоялось запрещение приносить государю жалобы на несправедливые решения Сената, что все тем же старцам кажется развязало руки.
Но отменять решения отца, как все полагали, было едва ли не кощунством. Борис Федорович советовал не рубить сгоряча, собственно говоря он всегда это советовал, но сам тоже особенно не поддерживал новых стремлений воспитанника, чем зарождал в душе различные мысли о том, что возможно он от части разделяет убеждения сановников о том, что молодому императору требуется протекция и предводительство их опытом, а самому ему следовало бы развлекаться [а проще, как думалось Саше – не совать нос в их дела, как привык уже делать отец, скучающий от всех этих «писулек»].
Бумаги шуршат, когда он встает из-за стола, хмурым взором окидывая упрямца напротив. Тоже, нашел время упираться рогами в землю, заводя историю про службу Отечеству, словно то, что предлагает Саша к этому отношения не имеет. Такое чувство складывается, словно его все решили чему-нибудь поучить и даже чертов Волконский, упрямо называющий его «Величеством», но умудряющийся при этом отказываться выполнять то, о чем его просят.
—…в конце концов, ты думаешь это так легко? Нет, брат, вот именно, что нет. Вот именно, что Мое, как ты меня величаешь теперь, Величество, требует от тебя по крайней мере уважения! Всем в этом дворце, оказывается, плевать на то, что я там требую – потребую и перестану! – Саша возбужденно заходит взад и вперед по кабинету, который повелел оборудовать специально для себя. В отцовском слишком много вещей, которые напоминали бы о нем, о том, что хотел делать он и даже его портрет кажется взирал на него с недовольством.
Он сказал ему: «Береги», разумеется в первую очередь имея ввиду страну, отстроенную за столько лет заново, но не рассказал, как лучше это делать. Вечерами, сидя на этом месте под светом свечным, Саша иногда жалел о том, что так редко интересовался у отца как ему удавалось быть везде и всюду, редко спрашивал о том, каким он видит будущее своих преобразований и видит ли его вообще. Иногда этими же вечерами пробирала тоска, о которой он говорил разве что Наташе, кладя голову ей на колени и позволяя убаюкивать себя также, как когда-то позволял это делать отец, только припадков у Саши не было, у него просто голова раскалывалась набатом. Он рассказывал Наташе о том, что может быть вовсе не был хорошим сыном, был не таким сыном, которого хотелось видеть отцу. Говорил о том, что положительно не имеет понятия, о том, что делать с такой горой идей, многие из которых ему и не принадлежат и теперь нет возможности поинтересоваться – что он в них вкладывал. Говорил, что в конце концов не справится, потому что он не отец, никогда им не будет, не сможет им быть, прикрывая глаза.
Ее прохладная ладонь покоилась на его лбу, приглаживая волосы, словно обещание, что все будет хорошо – ей для этого даже не приходилось произносить слов, им это было и не нужно.
«А зачем тебе быть своим отцом, если ты можешь быть императором Александром?» - сказала она однажды простую истину, целуя его в переносицу, очевидно ожидая, что он и сам мог да такого додуматься, говоря это ласково, словно ребенку. «Зачем тебе идеи, которые тебе не принадлежат, если у тебя есть свои? Зачем пытаться быть человеком, которым ты не являешься, если я полюбила тебя?».
И он успокаивался, так и засыпая на пару часов на ее коленях, как засыпал в детстве, забываясь хотя бы на какое-то время от вещей, которые не давали покоя пока он бодрствовал. К проблемам государственным, примешивались проблемы личные, словно требовательной и капризной России недостаточно. Наташа не говорила с ним об этом, смиренно принимая ту роль, которая теперь была отмерена ей – любимая фаворитка молодого императора, но эта роль его не устраивала категорически. Его такие разговоры при дворе, о которых он был наслышан, честно говоря раздражали и оскорбляли, как говорила Наташа «больше нее». Обижала и молчаливая отстраненность матери, которой следовало бы помогать возможной н е в е с т к е, но вместо этого она лишь подпитывала все те же слухи.
И Лиза.
Лиза.
Кречетов на глаза ему не попадался толком со смерти отца, но известного рода фискалы при дворце, шмыгающие по потаенным лесенкам, не дремлющие в своих каморках как водится, все записывающие, все знающие, сообщали, что видятся они с завидным постоянством. Саша терпеть шпионов не мог, но и отказаться от них тоже – императору полагается все и про всех знать.
Кречетов не нравился ему, ни разу не внушая доверия своим ангельским лицом, он ни разу не сомневался и в том, что никогда их сокольничий не был доволен своей должностью, тем более когда на пути замаячила своими зелеными глазами совсем еще юная цесаревна, которой в голову ударила упрямая мысль, что «вот это вот точно любовь». Саша к своей любви шел десять лет, окончательно убедившись, что это определенно она, а Лизе хватило пары минут пения при батюшке, чтобы точно уж в этом убедиться. В отличие от сестры он не испытывал ни малейших иллюзий, относительно этого человека и раздумывал иногда над тем не отправить бы его куда-нибудь под Москву. В конце концов близ Александровской слободы и угодья охотничьи лучше и дичи больше, да и москвичи к охоте большее расположение имеют. Но каждый раз откладывал это, жалея очевидно сестринские чувства, да и до того ли сейчас было? Лизу правда нужно было замуж определить, как бы не любил он ее, как бы не хотел оставить рядом с собой, но в конце концов у каждого своя жизнь должна быть…но с этим можно было не торопиться, по крайней мере пока у него есть время оглядеться.
И он оглядывается, играя с Волконским в упрямые переглядки теперь, когда они стоят друг напротив друга – молодой император и такой же молодой гвардеец, который за закрытыми дверьми умудряется говорить ему «нет». И нет, Саша за это его пожалуй и любил – если уж что ему не нравилось он говорил это в лицо, а не передавал в кулуарах, как делали сенаторы. Но сейчас ему от друга требовалось вовсе не его ослиное упрямство, а согласие. Он, Саша, предлагает ему быть не просто посыльным в конце концов, не забирает из гвардии, он также требует служить, как требовал бы ото всех, но этому фрукту все равно что-то не нравится [разбираться что именно он не хочет – сил нет].
— Может страной еще научишь как править лучше? — воскликнет в сердцах, обходя стол и становясь напротив Кирилла на близком расстоянии. — Чем тебе служба эта не службой? С каких это пор ординарец не престижным стал? Мне легко что ли думаешь? Вот гляди, гляди, — он забирает со стола пару случайных бумаг, пробежится глазами и начнет перечислять. — Донесение из посольства нашего в Турции, где говорится что в последнее время участились притеснения дипломатов наших на берегах Босфора, — откладывает, берет следующее. — Вопросы финансовые по поводу строительства нового судна, на которое не хватает оснастки, — снова откладывает. — О, а это особенно важно: «Бьет челом Первого Московского полку прапорщик Григореи Бражников а о чем мое прошение тому следують пункты: «Минувшаго генваря 30 дня был именованы в гостях за Яузою рекою в приходе церкви Мартына исповедника в доме ассесора Ивана Иванова сына Мокеева на лошади своеи мерине рыжем грива налево с отметом впряжена в сани пошевни на неи хомут ремённой узда ременная, вожжи пенковые.
И с оного двора не вемь каким случаем оная моя лошадь ушла неведома куды. И того ж генваря 31 дня оную свою лошаду смотрил в приводе при Московскои полиции.
И дабы высочайшим вашего императорского величества повелено было показанную мою лошадь отдать мне именованному с роспискою.
Всемилостивейшей гсдрь прошу вашего императорского величества о сем моем прошении решение учинить…». Цитирую тебе в точности, — Саша отбрасывает последнюю бумажку, складывает руки на груди и смотрит недовольно. — Прапорщик писал это еще зимой, а до меня добралось, как добралось бы и до батюшки только к лету. Получил он обратно свою лошадь или нет – не ведаю. И знаешь сколько таких? В Сенате я только и слышу, что «заняты мы делами государственными, важными, а за всем уследить, Ваше Императорское Величество Александр Петрович, не имеем сил физических». Готов поспорить, что они просто привыкли ко вседозволенности. Я устал, знаешь ли ото всюду слышать только «нет»!
Саша отходит к окну, разглядывая уже совсем летний Петергоф [в который и уехали на лето], отошедший от траура и во всю готовящийся к коронации нового императора – молодого, здорового и который должен непременно исполнить все, о чем народ мечтает. Готовилась, видно и Москва, в которую нужно было выехать – начищались лошади, очищались улицы, чинились кареты и все были в общем-то в предвкушении, когда же на его голову наденут венец, тяжесть которого и без официальной церемонии он с полна ощущал. Он стал императора с того самого первого дня, когда отец издал последний вздох, не особенно принимая участие во всех этих празднованиях и всеобщем возбуждении. Народ устал от траура. А Саша…
— Я даже толком времени не имел, Кирилл Андреевич, по отцу отгоревать. С корабля, как говорится на бал… — он смотрит на дворцовую площадь, рассеянно осознавая, что забыл когда в последний раз позволял себе по крайней мере прогуляться. Так он себя действительно загонит, загонит совершенно. Как можно загнать быстрого, но не выносливого коня, пусть даже молодого и пылкого. — Так что хочешь не хочешь, а приказ о твоем назначении я все равно подписал. Не волнуйся ты так – будет тебе гвардия, в конце концов вечно при себе держать не собираюсь…
***
Лиза осторожно, на цыпочках подбирается к двери, за которой определенно происходит какая-то словесная баталия, предварительно, чтобы не шуметь, снимая туфли, оставаясь в белоснежных чулках и, тихонько открывая дверь. Фигура брата маячит туда-сюда, возбужденно размахивает руками и что-то, кому-то доказывает. В такие мгновения он напоминает ей отца, в минуты его крайнего возбуждения, но Саша умел успокаиваться быстрее. В последнее время, впрочем, ей казалось, что она и вовсе забудет как он выглядел – настолько Саша решил погрузиться в свои новые обязанности, словно пытаясь доказать всем и каждому, что по праву императорское звание носит. И все же, так было нельзя. Наташа изводилась вся на нет, глядя на этого упрямого человека, отказывающегося выбраться на улицу хотя бы ради конной прогулки [а это учитывая то, как она сама боится лошадей, но знает, как он их обожает], а Лиза изводилась за Наташу, да и в концов отказывалась принимать тот факт, что как раньше уже не будет.
А тут Варя шепнула на ухо, что-де за рекой снова бродячие цыгане лагерь разбили, а значит артисты будут, огнеглотатели разные, да и цыгане народ веселый, а уж как поют!... Отношения у Вари с цыганами всегда было какое-то особенное – сама иногда напоминающая цыганку своими буйными черными кудрями, княжна Вяземская была обязана такому простому общению с кочевым народом и тем, что во дворце их всегда среди прочего люда жила пара-тройка цыган: веселых, пестро одетых, поющих, объезжающих лошадей, которых ее отец привозил с востока [в основном все арабские]. Поговаривали, что и нянька у малолетней тогда Варвары Григорьевны была цыганкой, она-де и научила ее врачеванию не хуже западных медикусов, а после снова следовали самые невероятные слухи о них. Вяземские слыли большими оригиналами с их любовью ко всему восточному, к их молчаливым слугам в тюрбанах и расшитых шелках халатам, к их китайскому фарфору и маленьким нефритовым статуям Будды. Во дворце петербургском всегда пахло какими-то неизвестными благовониями, курительные трубки там набивали весьма забористой травой, а в оранжереях дворцовых выращивали невероятные экзотические цветы. Зато – такой как Варя нигде больше и не было, а уж в веселье они всегда знали особенный толк, так что Лиза не особенно долго сомневалась, когда придумала, чем следует занять похоронившего себя за работой брата. По крайней мере хотя бы на один день.
Нет, Лиза вовсе не отошла от смерти отца полностью, да и возможно ли это было сделать, когда повсюду стоит напоминание о нем и даже великолепный Петергоф, со своими хитрыми фонтанами, покрытый золотом и мрамором оставался его детищем? Куда ни глянь – стоит печать отца, а его самого уже и вовсе нет. Никто больше не назовет ее «душа моя», никто не погрозит шутливо пальцем. Казалось раньше, что отец будет вечным – такой высокий, такой сильный, а его не стало всего за какие-то несколько минут. Но жить было нужно и жить побеждала. Побеждала в случайных свиданиях с Ваней, побеждала, когда мальчики ее принесли однажды букет цветов в комнате, а после носились по всему дворцу прочь от разгневанного главного садовника, который эти цветы с таким трепетом выращивал, а «эти разбойники несносные все подчистую собрали», побеждала в радостном лае Карая, который во всю наслаждался парковыми петергофскими просторами, в новых жеребятах, в новых рассветах, закатах, белых ночах – победила в итоге. Правда, она не была императрицей, поэтому может ей и было легче, быть может поэтому и не заметила сильных перемен, пока Саша закрывался в своем теперь кабинете.
До коронации оставалось совсем немного, а кто знает, что там дальше – возможно, как раньше уже действительно не будет, а значит нужно воспользоваться днем сегодняшним. Непременно надо!
Головка рыжая просовывается в щель, а после она осторожно в нее входит, мгновенно натыкаясь на Кирилла Андреевича, с которым Саша все это время видимо и спорил. Ее брат стоит спиной к ней, повернувшись к окну, что-то терпеливо втолковывая и очевидно даже не замечая присутствия в их разговоре еще кого-то. Лиза прикладывает палец к своим губам, показывая всем видом: «Не выдавайте!», смеющиеся глаза разглядывают серьезное лицо Волконского, совершенно уверенные, что непременно не выдаст. Убедившись, что он правильно ее понял, она на цыпочках преодолевает небольшое расстояние, которое отделяет ее от напряженной и очень важной теперь спины старшего брата, императора [как же это непривычно], поднимаясь как можно выше и немедленно закрывая ему ладонями глаза, заставляя замереть на некоторое время на месте. Прежде, чем он попытается от чужих ладоней избавиться заявляет с довольной улыбкой:
— Нет, сначала скажи, кто я, а иначе не выпущу!
Он почти наверняка уверена, что он улыбается, даже против воли, даже если хочет сердиться – улыбается.
— Не знаю даже, сестра императора может, которая глупости выдумывает разные, — немедленно отвечает он, заставляя таки разжать ладони и поворачивается к ней. Ему сшили новый камзол и кафтан – ему шедший идеально, предавая и без того величавому Саше еще более величественный вид.
Лиза притворно надувается, закатит глаза и покачает головой, мол, невыносимый ты, как и обычно.
— Вовсе не глупости, я по делу к вам, Ваше Величество, — присаживается в реверансе, который со стороны выглядит почти издевательством. Саша выгибает бровь, очевидно уже догадываясь, что все совершенно не просто. — А именно – вытащить тебя хотя бы на день на свет божий, пока ты здесь не окочурился, любезный брат мой, — прежде чем он откроет рот и заспорит, заупрямится, прежде чем вернется за стол на который смотреть больно, продолжает. — За рекой бродячие артисты. Мы же всегда плавали на тот берег, так поплыли и сегодня к вечеру. В последний раз может! – Лиза склоняет голову на бок, моргнет пару раз длинными ресницами, совершенно уверенная, что уговорит его. — Ты когда долго взаперти сидишь становишься, право, невыносим, хуже батюшки, Кирилл Андреевич, подтвердите! – требовательно оборачивается к Волконскому, нуждаясь в союзниках.
Саша качает головой, возвращается-таки за ненавистный стол свой, упрямый. Оба упрямые вот и спорят друг с другом постоянно. Лиза же отступать не собирается от задуманного.
— Нет, Лиза, дел много, да еще и этот вот, друг наш любезный, вздумал нос от них воротить, — он кивнет подбородком в сторону Волконского, которого очевидно отпускать не собирается. Лиза озадаченно переводит взгляд то на подпоручика, то обратно на Сашу, не желая вникать сейчас в то, что старшего так уж разобидело. — Не поеду, не проси. Хотя, можно было бы сплавать на твоем суденышке к Ромулу, если он все еще с ними обретается, дельце есть одно… Впрочем, — хлопнет в ладоши, откинется назад, насмешливо глядя на Кирилла, задумывая очевидно что-то до нельзя коварное. Знакомое больно выражение в глазах затаится. — впрочем я поеду, так уж и быть, в конце концов и правда нужно быть может за здоровьем следить, да и к тому же в последний раз воли вдохнуть… я поеду, да определенно, но только если вот он, — кивнет в сторону Кирилла Андреевича с таким же издевательским видом-победителя. Даже руки снова на груди сложил. — примет свою ординарскую должность. А иначе Лиза прости – остаюсь здесь. Ничего не поделаешь.
Ход поистине коварный и может даже и не честный вовсе. Потому что теперь коли откажется – обидится уже вовсе не Саша, а Лиза. А с другой стороны – как вообще можно отказаться, когда она мгновенно и почти умоляюще уставится на него, забывая на какое-то время о старшем брате.
— А вы не хотите? – это сбивает с толку, многие же только об этом и мечтают. — Вы же тогда с Сашей вместе будете… И с нами всеми…
И с ней.
Она на самом деле уговаривать его должна, а не интересоваться причинами, по которым он не хочет находиться во дворце, а следовательно с ними [с ней] постоянно, но это не отпускает. Лиза то ли обижена, то ли разочарована, ведь всегда казалось, что не существовало на этой земле большего счастья, чем служить с е м ь е. Нет большей награды – казалось всегда, что они и есть высшая награда, которую можно получить, а от таких предложений и вовсе никто и никогда не отказывался [во-первых потому, что было оно верным путем к высоким олимпам, а во-вторых…да кто ж в своем уме станет отказывать императору? Император ведь не просит никогда не самом деле, а следовательно и не откажешься].
Лиза отходит от ухмыляющегося заранее победоносно Саши, оказываясь рядом с Кириллом, заглядывая в глаза так умоляюще-искренне, словно от него зависело ее личное счастье.
[знать бы милый, что однажды так оно и будет]
— Кирилл Андреевич, соглашайтесь! Бродячий цирк это прелесть что такое! Там фокусы разные показывают, огнеглотатели будут, животные совсем как люди – ходят на задних лапах, я слышала у них даже волк ручной будет – соглашайтесь! А знаете, как красиво они поют, там, за рекой? Если вы никогда не видали их, то непременно должны увидеть хоть раз в жизни! — Лиза с привычным восторгам к вещам, которые ей нравятся, рисует картины из бродячего балагана, раскинувшегося за речкой. — И потом, у меня ведь лодка своя есть – по батюшкиным чертежам, своя собственная… — восторг несколько поутихнет, как бывает, когда наступишь на еще в общем-то свежую мозоль. Отца больше нет. А лодка осталась. —…под парусом чтобы по речушке плавать. Вы же обещали, что в команде моей будете! – немного погодя, возвращая голосу привычную веселость, сообщает Лиза.
Они с Сашей оба играют нечестно, улыбаются одинаково и знают, что победили.
Лиза припечатывает последним заявлением, точно зная, что говорить следует:
— Ведь в конце концов слово офицера, данное даме нельзя забрать обратно. Офицер, дающий пустые обещания, уже не может называться офицером. В конце концов, от этого зависит офицерская честь, верно?
Саша молча зааплодирует.
Бессовестный.
***
Управлять суденышком, которое в детстве казалось целым кораблем, стоящих на рейде в акватории Невы, а на самом деле являвшейся небольшой, вмещавшей человек шесть лодочкой, учил ее отец, особенно когда имел особую охоту. Такую науку Саша изучал самостоятельно, а так как девочкам не положено было [что она легко исправила], то как только наступало лето, он брал ее с собой к берегу реки близ строящегося Петродворца, заставляя изо дня в день учиться сматывать веревки, пришвартовывая лодчонку к песчаному берегу, заставлял управляться в парусами, которые то и дело норовили превратиться в катастрофу, в эти минуты представляясь скорее невыносимым тираном – настолько он бывал беспощаден, немало не интересуясь, что перед ним не матрос, не сын, а всего лишь дочь. «Хочешь плавать, а сама от мозолей ревешь!» - возмущался он, пока она разглядывала лопнувшие мозоли на нежных ручках, отвратительного красного цвета волдыри, которые приходилось мазать ужасно щипучей мазью. «Реветь станешь еще – в жизни больше лодки не увидишь!» - угрожал он, если она ленилась, капризничала как любой ребенок, которому быстро наскучивает однообразный труд. И она мгновенно слезы утирала, а после и вовсе терпела неудобства с сомкнутыми плотно губами.
Зато какой восторг охватил ее в тот самый первый раз, когда удалось держать лодочку с парусом на воде самостоятельно, глядя как отец стоит у берега, радуясь очевидно очередному удачному предприятию – кому еще в империи удавалось из женщины сделать матроса, в конце концов? И пусть речка вовсе не была морем с его волнами и течениями, а обладала нравом порядком кротким и была совсем не широка, но все равно за саму себя гордость брала.
Вот и сейчас, когда обнаружила свою красавицу, названную «Лизет», по настоянию отца [да, любил он это имя, вот и называл им многое из того что создавал], сердце радостно забьется от нетерпения. И не важно, что дно деревянное облеплено песком и илом со дна, а еще, что ее нужно хорошенько с берега подтолкнуть, отвязав канат веревочный, не позволявший лодочке уплыть куда глаза глядят. Лиза не боится ноги замочить – это смешно, когда на лодках плаваешь, забираясь в свою посудинку, развязывая намотанный на одну-единственную матчу парус. Ветер весело подхватывает его, развивает, а серовато-белое полотнище станет отражаться в мутноватой речной воде, поддернутой красками закатными. Где-то на той стороне виднеются огни костров, шатры и кибитки, принадлежащие каждый год летом приезжающим сюда бродягам, всегда веселым и всегда свободным. И кажется, словно отсюда слышен звон бубнов и тихая игра на струнах – нет никого лучше цыганского народа, кто умел бы на этих диковинных инструментах играть.
Управлялась лодка без весел – только штурвалом, расположенном на корме и ходила по воде исключительно благодаря ветру, надувавшего паруса. Именно поэтому она прежде чем отплыть определяла – насколько ветер сегодня хорош и только убедившись, что его силы хватит, чтобы унести лодочку на другой берег. Саше за штурвал сесть не позволяет отгоняя вместе с Кириллом к носу.
— А если утопишь нас? – Саша конечно же шутит, избавившийся от императорской одежды, снова в белоснежной рубашке.
— Ты плавать умеешь, — отрезает она, ухватываясь за деревянный штурвал и плавно направляя лодку вправо, выравнивая киль. — А лодка моя, так что и командовать мне.
Варя ждала их на месте – непокорные волосы свободно падали по плечам не стянутые никакими шпильками, оно и правильно, когда идешь в табор ни к чему это. Рамул – их барон Сашу знал, а значит знал, кто к ним пожаловал, но пользовался простым правилом. Бродячие, всегда свободные, кочующие с места на место – они выказывали уважение любому гостю, но никому не торопились подчиняться.
То тут, то там виднелись яркие шатры, кибитки на четырех колесах, в которых сидели черноглазые цыганки, обвешанные звенящими золотыми браслетами и ожерельями, в разноцветном тряпье, цыганские дети носились туда-сюда, пробегая между зажжёнными кострами, рядом мирно послались лошади – особенная цыганская страсть. Звучала музыка ото всюду – тонкие звуки скрипки и гитары, верных спутниц любого табора волей-неволей зрителей собирало. Ручной волк тоже присутствовал - его выступление пользовалось успехом на ярмарках, на приходских праздниках, на уличных перекрестках, где толпятся прохожие; толпа всегда рада послушать балагура и накупить всяких шарлатанских снадобий [как Варя сказывала – важно знать, что выбирать, чтобы не надурили] Ей нравился ручной волк, ловко, без принуждения исполнявший приказания своего хозяина. Это большое удовольствие – видеть укрощенного строптивца, и нет ничего приятней, чем наблюдать все разновидности дрессировки.
Это был вольный народ, которому можно было отчасти позавидовать – их ничто и нигде не держало, они бежали вслед за ветром, пели и танцевали. Кочевали с перекрестка на перекресток, с площадей Петербурга на площади Москвы, из одной местности в другую, из губернии в губернию, из города в город. Исчерпав все возможности на одной ярмарке, они переходили на другую. На ночлег они располагались где придется – среди невспаханного поля, на лесной прогалине, у перекрестка нескольких дорог, у деревенской околицы, у городских ворот, на рыночной площади, в местах народных гуляний, на опушке парка, на церковной паперти. Когда возок останавливался на какой-нибудь ярмарочной площади, когда с разинутыми ртами сбегались кумушки и вокруг балагана собирался кружок зевак, тогда хозяин волка [еще совсем мальчишка по сути, но волк слушался его беспрекословно] начинал разглагольствовать, а волк с явным одобрением слушал его. Затем волк учтиво обходил присутствующих с деревянной чашкой в зубах. Так зарабатывали они себе на пропитание.
Были здесь и те, кто действительно умел исцелять и врачевать, которых можно было бы и ведьмами окрестить, но Варю особенно это не волновала. «Все это вздор и суеверия!» - говорила она Лизе. «Но они знают как травы целебные работают, а значит полезными могут быть».
Хорошо разбираясь в лекарственных травах, они и Варя умело использовали огромные целебные силы, заключенные во множестве всеми пренебрегаемых растений – в гордовине, в белой и вечнозеленой крушине, в черной калине, бородавнике, в рамене; старый цыган, раскладывающий на прилавок около кибитки снадобья был и вовсе особенно умел: он лечил от чахотки росянкой, пользовался, сообразно надобности, листьями молочая, которые, будучи сорваны у корня, действуют как слабительное, а сорванные у верхушки – как рвотное; исцелял горловые болезни при помощи наростов растения, именуемого «заячьим ушком»; знал, каким тростником можно вылечить быка и какой разновидностью мяты можно поставить на ноги больную лошадь; знал все ценные, благотворные свойства мандрагоры, которая, как всем известно, является растением двуполым. У него были лекарства на всякие случаи. Варя среди них ощущала себя своей – Лиза же в этом балагане скорее чувствовала какую-то запретность.
Она торопит Сашу с Кириллом, привязывая лодку к берегу, они огибают цирк, дивясь и дрессированному волку, послушно слушающего человека, смотрят на огнеглотателя и человека, что может по иглам ходить, они смеются под уходящим солнцем, находясь в самом центре этого праздника вечного, этого яркого балагана, цветастого, свободного, поющего и танцующего – куда ни глянь то тут, то там люди танцевали, счастливые в своей кочевой жизни. Завтра, наверное, выступление будет, а сегодня все только готовились, но Лизе лишние зрители и не нужны.
Ухватывает за руку вдруг чья-та цепкая костлявая рука. Лиза вскрикнет от неожиданности, резко оборачиваясь и заставляя следующих за ней брата и его друга замереть также, видимо вспомнив, что охрану оставлять у реки было глупо. Но потом немного успокоится, когда обнаружит, что остановила ее лишь цыганка – черноглазая и смуглая, как и все ее племя, с платком красным повязанным на слегка поседевшие уже черные волосы. На ее шее зазвенит монетное ожерелье, звякнут весело браслеты.
— Дай погадаю, девица, — обнажает желтоватые зубы в таинственной улыбке, отражается в черных глазах пламя костров. Совсем почти и стемнело. На противоположном берегу ярко светятся окна дворца. — Всем погадаю, будущее расскажу, — она обводит их быстрым, цепким взглядом, Варя передернет плечами – для нее все это привычное, а Лиза после своего гадания у зеркала в это откровенно говоря не верит, но отчего же не попробовать, раз они здесь и веселиться могут может в последний раз.
Лиза всмотрелась в разукрашенный бумажный прямоугольник, висевший рядом со входом. Полотняные стены шатра выкрасили пурпуром – цвет явно некогда был насыщенным, но теперь поблек от солнца и дождя; на афише рядом с хрустальным шаром изобразили лицо некой дамы в разрисованной вуали.
— Ну, а у нас тут дело одно есть. Мне мое будущее не интересно, а девицы наши пусть развлекаются, коли хотят, — Саша пожимает плечами, забрасывая руку на плечо Кирилла и настойчиво увлекая в сторону. Не замечает он пристального цыганского взгляда, брошенного на него. — Что она нового сказать может? Мне в детстве один юродивый у храма уже наобещал жизнь подобную звезде небесной. Вот ведь – говорили бы сразу и прямо! – ворчит он, отходя на некоторое расстояние и оставляя Лизу с Наташей наедине с цыганской женщиной. — Идем, ждут нас тут.
Плотные стены шатра, изнутри задрапированные ярким алым шёлком, не пропускали свет, но мрак рассеивали десятки свечных огарков, сиявших в маленьких стеклянных банках, что висели в воздухе под потолком. Пахло дымом и черносливом. У стены стояли несколько низких деревянных табуретов, прямо перед нами висела плотная бархатная занавесь, похожая на гардины. Видимо, они находились в некоем подобии прихожей.
Помещение за занавесью оказалось вдвое больше того, что я оставила за спиной. Его озарял свет масляных лампад с цветными стёклами, расставленных тут и там – на полу, на сундуках с вещами, на небольшом круглом столе у дальней стены, который нарочно расположили как можно дальше от входа. На скатерти поблескивал прозрачный хрустальный шар, ждала своего часа колода карт, и теперь стало ясно, откуда взялась дымка и запах чернослива: цыганка курила трубку, прикусив уголком рта длинный тонкий мундштук.
Огненным пламенем светятся и волосы Лизы. Наташа несколько раз настойчиво, словно опасаясь чего-то просит уйти отсюда восвояси, но Лиза не слушает – она уже внутрь зашла, а что же это выходит отступать, когда совсем уж не следует? Лиза лишь сжимает Наташину ладонь, мол, что случится собственно может? Ну, расскажет цыганка, что сосредоточенно разглядывает протянутую ей ладонь, что будет она счастлива, богата и плодовита – предсказания такого рода неизменно сквозили пространностью. И что с того? Все одно никто в них не верил.
Цыганка долго ничего не говорит, завороженно линии на руке разглядывая, а после не менее долго вглядывается в Лизино лицо, словно видит в нем что-то, что ведомо ей одной. И как только говорить начинает, то ее голос звучит отстраненней некуда.
— Золотая рука, — начинает она. — На руках внесенная в золотой зал девица. Удивительная судьба… удивительная.
Лиза так и знала, что ничего путного сказать цыганка все равно не сможет, но слушает терпеливо, пусть и все равно не верит.
Цыганка, тем временем продолжает, пристально глядя своими черными как ночь летняя поздняя глазами в ее лицо и становится странно-неуютно. Совсем не похоже на тех, кого иногда приглашали во дворец для развлечения и говоривший одно и то же. Здесь казалось, словно твою душу выворачивают наизнанку.
— Меньше доверяйте своей голове, — она неожиданно переходит на «вы». — И голове, и глазам. Вы видите не то, что есть на самом деле, а то, что хотите видеть, но ваши фантазии и сомнения не доведут до добра. Это невероятная удача – встретить того, с кем ты можешь быть действительно счастлив. Того, кто послан тебе самой судьбой. Уникальный шанс, стечение тысячи обстоятельств, которое встречается до обидного редко. И если вы упустите этот шанс, будете жалеть всю оставшуюся жизнь. –отложив трубку, она подалась Лизе навстречу. – Будьте смелой. Не бойтесь переступить через то, что вам и так не страшно потерять. И больше думайте о себе. Быть эгоистом порой полезно – не только для самого эгоиста. Могу сказать одно: выберите того, кого вам так захочется однажды выбрать, и вам откроется путь к счастью, о котором многие могут только мечтать… и вам, и тому, кто любит вас не меньше, чем вы его.
«Никто не рассказывал мне, что предсказатели, заглядывая за завесу туманного, на самом деле забывают о том, что видят будущее и говорят в настоящем – для них время ничего не значит, нежели для простых смертных».
Под её пристальным взглядом Лиза только и смогла, что кивнуть.
Чувствуя, как эхо её слов, звучащее в голове, растворяет всю нервозность, вместо неё разливая в груди медовое тепло странного ликования.
Она права. И была права, доверяя Ване. Что бы там ни было – он никогда ей не навредит.
И он любит ее.
Любит, любит!..
Лиза даже забывает о том, что собиралась во все эти сказки не верить вовсе. Как же тут, спрашивается, не поверишь, когда тебе обещают счастливую жизнь с любимым?
Цыганка явно уловила это настроение довольно улыбнулась сквозь стиснутые трубкой зубы и требовательно потянулась за другой рукой, которую Лиза с куда большей теперь готовностью протягивает.
Но сердце упало еще прежде, чем она резким движением отдернула руку. Схватилась за трубку, явно ища в дыме успокоение.
Глаза ее заволакивает словно каким-то туманом, голос зазвучит устало и сочувственно.
— Непростые испытания предстоит тебе пройти, девочка, – проговорила цыганка в конце концов. – Непростые… если не сказать страшные.
Лиза передергивает плечами, с вызовом почти глядя в это отстраненно-пугающее лицо, не собираясь особенно пугаться таким предсказаниям. Ее уже пугали чертом, который в итоге оказался всего лишь Волконским – вряд ли ее напугает цыганка.
— Ты мне лучше вот что – расскажи про мою любовь. Что с моей любовью будет? – прорезываются в ее голосе повелительные нотки, смешанные с чистым любопытством.
И цыганка, разумеется, отвечает подумав немного, голову склонив. Мелодично задрожат в ушах крупные сережки. Становится здесь нестерпимо жарко, на воздух хочется на самом деле безумно.
— Любовь… вот что скажу тебе, милая. Много мужчин вижу, много любви, разной любви. Но вижу одну-единственную, невероятную, что огонь, который видишь ты сейчас. Приготовься к потерям, – отстранённо проговорила она, ведя длиннопалой рукой над картами. – Владычица Предопределённости следует за тобой по пятам. Она уже забирала за грань тех, кто тебе близок, и заберёт опять, ещё прежде, чем луна два раза станет полной. Вскоре ты встанешь перед сложным выбором. Ты захочешь спасти того, кто тебе дорог, однако плата за это будет слишком велика. За его спасение тебе придётся заплатить собой. Выбирать тебе, и тебе одной. Но мой совет – не мучай себя. Забудь о самоотречении. Твоя жертва всё равно окажется напрасной. Послушай старую цыганку, милая – беги от этой любви, она как огонь принесет и тепло и спалит дотла душу. Сделает и счастливой и несчастной. Не лети к ней, хотя она рядом с тобой. Не лети – иначе ничего от тебя не останется.
Лиза слушает и не верит, в голове помутится наверняка от духоты. Ну, право, что это за вздор! Наговорила всякой страшной чуши, а теперь ей следует еще и заплатить за это. С чего бы любовь Вани была такой опасной, да и от чего любовь эта женщина рисует чем-то вроде плахи? Лиза встает со своего места, не обращая внимания на испуганный взгляд Наташи, которая очевидно к подобным пророчествам отнеслась куда серьезнее.
— Что же, благодарю, а теперь пойду, пожалуй, — прозвучит чопорно-холодно, но еще долго станут преследовать ее черные глаза, что продолжали следить за ней даже тогда, когда оказалась на свежем летнем воздухе.
Лиза выдыхает с наслаждением, наблюдая за тем, как светлячки вокруг кружатся, мгновенно отпуская гнетущее чувство, которое преследовало в шатре, забывая о том, что наговорила очередная шарлатанка, дожидаясь когда выйдет Наташа. Та, впрочем, выходит несравненно быстрее того времени, которое провела в шатре Лиза. Лицо у нее бледное, обеспокоенное. Наташа ухватывается за ее руки, всматривается в лицо.
— Лиза, говорила же уйти. А если она правду сказала? Она таких вещей тебе наговорила.
Лиза тряхнет волосами распущенными.
— Ну и что же? – с вызовом. — Неужели ты этому веришь? Грешно в конце концов! И потом – тебе она тоже ужасов наговорила?
Наташа задумчиво качнет головой.
— Нет, мне она сказала, что я буду невестой, — особой радости при этом в голосе у нее нет. — и добавила, что она очень сожалеет по этому поводу.
— Ну вот видишь – все это вздор! – горячо заубеждает ее Лиза, но та еще сомневается, покачивая головой. — Ну, хорошо, кроме невесты, — добавляет лукаво. — Идем лучше танцевать к Варе, а то что она одна развлекается!
И Лиза летит, порхает к веселящейся толпе цыганок, танцующих под звуки бубнов и скрипок, танцующих совсем не похоже на то, как обыкновенно танцуют при дворе, но Лиза легко подстраивается к Варе, легко подстраивается под эти движения, окончательно забывая обо всех невзгодах на этот восхитительно-пламенный миг.
Ей никто не скажет, что шатер «предсказательницы Мирелы», в котором она побывала пользуется особенной славой.
Славой того, что старая цыганка никогда не ошибается в своих предсказаниях.
***
Лошадь была великолепной, как он и рассчитывал. Спесивый нрав кобылы, которую под уздцы подвел к нему сам цыганский барон [интересно сколько вкладывали цыгане в эти титулы?...], с лихвой компенсировался статью, вытянутым сухим корпусом, великолепной выправкой. Она была элегантна и необычайно красива, на такую лошадь положит глаз любой, кто мало-мальски в лошадях разбирается. Мускулистая, выгнутая шея, сильные копыта, благодаря которым она наверняка смогла бы быстро перемещаться даже по очень плохой местности. В общем-то то, что нужно. Рамула он знал – еще давно договариваясь с ним о том, что он найдет ему такую лошадь, что подходила бы его собственному коню и была умна и вынослива и кажется цыган наконец нашел ее. Ну, или же у кого-то украл, в чем он никогда не признается, а Саша не станет допытываться – сделка есть сделка.
— Ты смотри, Кирилл, какова… — любовно похлопает по изящной золотистой шее, восхищенно глядя в выразительные глаза лошади. — Рамул говорит, твердая рука нужна, но да разве другие лошади у меня были… Она выносливая – то что нужно, чтобы новую породу завести! И ноги какие мощные, ты глянь только – вообрази какой жеребенок у них с Плутоном получится может!... — Саша с восторгом ребенка оборачивается было к Волконскому, ожидая заслуженных восторгов для кобылы и заодно себя или по крайней мере справедливого мнения, но вместо этого натыкается на совершенно отсутствующий взгляд, направленный в противоположную сторону. И Саша возьми, да проследи, что же так увлекает его друга. Смотрит и сам поневоле заглядывается. С ней ведь, с Лизой, по другому и не выходило.
Она танцевала с простыми цыганками, словно на миг сама стала одной из них, разве что волосы, эти медово-рыжие волосы пышные в свете огней становившиеся и вовсе медными, выдавали в ней чужачку. Она кружилась вокруг костров – свободной, яркой птицей, заливаясь прозрачным смехом, разгоряченная танцем, теплом огня, летом в конце концов. Взоры толпы были прикованы к ней, все рты разинуты. Она танцевала под рокотанье бубна, который ее округлые девственные руки высоко взносили над головой. Тоненькая, хрупкая, с обнаженными плечами и изредка мелькавшими из-под юбочки стройными ножками, медноволосая, быстрая, как оса, в золотистом, плотно облегавшем ее талию корсаже, в пестром раздувавшемся платье, сияя очами, она казалась существом воистину неземным.
Саша вздыхает, внимательно разглядывая лицо Кирилла – он заметил это на самом деле еще там, у безымянной речушки, где тот с таким упоением за его сестрой носился. Будь это не Кирилл, пожалуй бы попросил перестать пялиться, да вот только это был именно его друг, рискующий пропасть безвозвратно в том, от чего Саша его предостерегал.
— Красивая? – промолвит он с таинственной улыбкой на лице, опуская руку на вздрогнувшее от неожиданности плечо. Встречается взглядом с серыми глазами, ухмыляется. — Кобыла я имею ввиду, — выдержав паузу и выслушав все оправдания, которые тот мог придумать.
Эх, Лиза – нельзя так запросто брать и похищать совершенно невинные сердца. Остается гадать – что делал бы сам, оказавшись на его месте.
— Эх, друг мой, пропадаешь ты, ой пропадаешь… — не желая слушать никаких отговорок. Перед глазами возникнет невинное кареглазое личико Кречетова, заставляя нахмуриться, развернуть Волконского лицом к себе. — Вот что скажу тебе, любезный мой. Не как император, а как друг. Ты лучше него, — он не удостаивает его чести, впрочем, объяснить о ком именно идет речь. Догадаться должен сам.
А Лиза, тем временем, обернется к ним. В руке венок, который черт его знает кто успел ей сплести. Обернется – сверкнет изумрудной зеленью, а после устремится к ним, румяная, юная – как такую замуж отдавать за кого попало? Вот ведь задачка.
— Ну сколько можно своих лошадей выбирать. Идемте со мной – в последний раз, быть может. Идемте, идемте, Кирилл Андреевич! Идемте танцевать со мной! – тянет за руку, надевает на голову венок, снова хохочет в своей непосредственности и не замечая, насколько заманивает в свой омут, насколько сильно влюбляет в себя неокрепшую и не сталкивающуюся с этим душу.
— Иди-иди, мне еще лошадь покупать, — смеется Саша в ответ никак не выручая Волконского от участи танцевать с ней, задумчивым взглядом провожая их обоих.
Пропадет, точно пропадет.
____________♠♠♠____________
Саша в крайнем возбуждении находится, то садится, то снова вскакивает со своего места, энергично размахивает руками и требует от Кирилла то одного отчета, то другого – отвез ли депешу срочную, как вел себя при чтении ее губернатор. В глазах горит огонь, он выдохнет в конце концов и просто-напросто выпаливает: «Женюсь! Непременно женюсь!», а после обхватывает этого вечно-серьезного человека в объятия и хохочет совсем уж неприлично, отмахиваясь: «Да не пил я, ишь чего удумал! Но непременно напьюсь, ей богу, как только предложение сделаю». Он вести себя так может только разве что с Кириллом, с остальными превращается в того самого иронично-насмешливого молодого императора, припечатывающего всех и каждого одним словом, придирчивым и недовольным, любящим, чтобы все было идеально и никак иначе.
Апраксин, находящийся в этой комнате уже некоторое время не разделяет всех этих молодых душевных порывов, да и вообще, кажется, был чем-то недоволен, разбавляя этим ясным летним утром их молодое общество. Канцлер пришел с докладом, а так же с неким «личным делом», терпеливо ожидающим, когда Саша успокоится. Но как тут успокоиться, когда у тебя в душе и в мыслях даже не собственная коронация и бесконечные балы, которые должны были за ней следовать, а собственное счастье, которым требуется со всеми поделиться. Недовольство Апраксина так или иначе чувствуется.
Поделиться172024-05-20 20:46:53
И знал бы только Саша, насколько прав был – Борис Федорович внутренне просто лютовал. Был в тихой ярости от происходящего, упорно не понимая, как вышло так, что воспитанный можно сказать им, нынешний император столь легко и быстро отбивался от рук. Взять хотя бы эту невозможную идею с пошлинами – глупость несусветная. По всей Европе они функционировали, а он возьми и провозгласи: «Требуется упразднить!». И сколько бы Апраксин не доказывал, что по его опыту такое может стоит казне не малых денег – бесполезно. К его мнению молодой император, которого еще даже не короновали прислушиваться не хотел. А теперь он на полном серьезе собирается делать предложение…кому? Женщине, у которой за душой ничего нет кроме лица красивого? Нет, он просто обязан теперь его переубедить, убедиться заодно, что его мнение все еще что-то значит. Или же теперь во дворце прислушиваются черт знает к кому?
Апраксин иногда посматривал на этого по сути юнца, взявшегося черт знает с каких границ, напоминающего своим принципиальным взглядом отца, который куковал в своей ингерманландской губернии, а сын надо же – по нраву пришелся романовскому. Очень уж хочется предупредить о том, что романовская благосклонность бывает обманчива, а кулаки очень тяжелы – покойный император, царство ему небесное, иногда знатно вмазывал вроде бы товарищу. И видится ему, что сын недалеко от отца ушел. Какое разочарование.
И все же, быть может надежда есть еще. Он дожидается пока император усядется, наконец, на место, не мало оскорбленный прочем тем, что приходится доклады нести в присутствии черт знает кого.
— Вот, Ваше Императорское Величество, бумаги подготовил по ситуации с продовольствием. На капусту следовало бы обратить внимание, а в особенности на ее закупки в гвардию… Очень подозрительно.
Тот едва ли на это взглянет, пробежится глазами едва-едва, закатывая глаза на недовольное апраксинское лицо.
— Боже, Борис Федорович, ну какая к черту капуста? – не выдерживает он, веселится отчаянно. — Ты послушай только, что я тебе говорю! Что в конце концов за вид такой все утро?
Вот, хороший шанс. Апраксин кашлянет, поглядывая на подпоручика и ординарца недовольным взглядом и им же показывает удалиться. Император замечает, качнет головой и на красивом лице возникнет неожиданно холодная гримаса недовольства.
— Останься Кирилл, — голубые то ли материнские, то ли отцовские глаза теперь смотрят совсем иначе. Он меняется, как бывало менялся его отец. П р о ж и г а е т. — Если хочешь что сказать – говори, Борис Федорович. При нем можно. Кириллу доверяю как себе.
Апраксин тут не удерживается.
— И как давно Кирилл Андреевич, — в голосе зазвучит некоторая неприязнь, которую он легко спрячет. — Столь близок?
— Борис Федорович – ты либо мне скажи, что хочешь. Либо не начинай даже переводить разговор. Дел много.
— Ваше Величество… позвольте говорить откровенно, — начинает он, а Александр махнет рукой, устало, словно заранее знает, что услышит. —…ситуация с Натальей Алексеевной несколько…необычна. Позволю заметить, что разгром у князя Юсупова и драку с охраной, в которой я так понимаю и вы, Кирилл Андреевич, участвовали, не слишком благотворна… Князь обижен. Я бы сказал оскорблен.
Император лишь пожимает плечами – так типично, не желая кажется принимать его слова всерьез. Не этому он его учил, не на это рассчитывал.
— Оскорблен? – он усмехается. — Ну так и что с того? И вообще – оскорбляться нужно было мне, это его люди пытались меня избить. Не я ли должен оскорбляться?
— Замечу, что это не они ворвались в чужой дом… Впрочем, я понимаю, вы влюблены. И я ни в коем случае, не смею этому мешать. Но, Александр Петрович, отец родной, послушай крестного. Не женись. Мы с французами уже почти договорились, принцесса приедет на коронацию. В конце концов свадьба лишь формальность – люби ты кого хочешь…
Улыбка, которая быть может еще маячила на лице молодом сходит на нет, оставляя за собой одну яростную эмоцию. Он не дает ему договорить, неожиданно хлопнув по столу ладонью – ни дать ни взять отец, в моменты ярости вечно терзающий несчастную мебель. Александр поднимается из-за стола, медленно и угрожающе.
— Ты правда считаешь, что я стану на одной жениться, а к другой в постель бегать? Я думал ты, Борис Федорыч, первый меня поддержишь. И позволь спросить почему без моего ведома ведутся договоры с иностранной державой? Насколько помню меня ты не спросил. Забыл? Или же нужным не посчитал?
Пот выступает на лбу. Хочется выпить воды, а может чего покрепче. Все ускользает из рук, как не дергай за ниточки, он чувствует это и это пугает его. А кроме страха в душе поселяется липкая неприязнь, с которой ничего уже не поделаешь.
— Я подумал…
Он поднимает вверх руку, властно, по-императорски. Боже, совсем еще ведь щенок, но Романов. В этом вся соль.
— Нет, ни капли не подумали и даже не извиняетесь за сие. Ступайте, Борис Федорович. У нас дела.
И ему ничего не остается как попятиться к двери, со всеми приличествующими предосторожностями. Дверь закроется перед его носом.
Оскорблен. Унижен. Да еще и перед кем, черт возьми? Не ожидал, а, Борис Федорович. Ну ничего, в конце концов всегда нужно ожидать подвоха даже практически от собственного с ы н а, коим всегда его считал.
Он постоит немного на одном месте, размышляя. Он, быть может все одно, что отец его – вспыльчив, да отходчив. Если принцесса приедет – деваться будет некуда и ему придется Апраксина послушать, выказывая должное ему уважение.
____________♠♠♠____________
Страна, надо признаться, по пышным торжествам изголодалась. Разумеется, в первую очередь разгульного веселья, к чему Петровский высший свет приучился, в первую очередь ожидали дворяне, ожидала и гвардия точно зная, что по таким праздникам непременно ждёт или вознаграждение из казны или по крайней мере добрая попойка. На время траура все увеселительные мероприятия были отменены – люди собирались в чьих-нибудь дворцах, имениях и играли в шашки, выкуривали табак, тоскуя то ли по бесконечной череде праздников, которые утопали в вине то ли собственно по ушедшему императору. Столичные модницы изнывали от тоски, в невозможности выгулять своих лучших нарядов, юношам негде было щеголять красноречием или от скуки некого было вызвать на дуэль, чем черт не шутит. Именно поэтому, нынешние торжества в честь коронации обещали быть такими масштабными, и продолжительными – казне пришлось хорошенько раскошелиться [и простой народ мог бы справедливо возмутиться, ведь в конце концов только на одни украшения для тортов было потрачено столько, что какой-нибудь рядовой обыватель мог прожить на эти деньги несколько месяцев, прокормив при этом свою семью, но народу также обещаны были столы в центрах городов и добрая выпивка, так что народ милостиво на разгул господ закрыл глаза]. Планировалось провести главный бал, на который высший свет съезжался в Петергофе со всевозможными приличествующими увеселениями: фейерверками, которых никто ещё не видывал, богато обставленными столами, представлениями, разбросанными по парку [пошли слухи, что в первый день всю воду в форматах Петергофа заменят вином и венгерской водкой]. А после этого всех ждали долгое недели самых разнообразных развлечений, которые проводились бы как в Москве, так и в Петербурге: прогулки с музыкой по Неве или в садах, концерты, неофициальные балы, маскарады, приемы в императорских дворцах и домах крупных вельмож. Все ждали и, наконец, дождались.
Лиза сама себя не узнавала в этот день, пусть всегда имела привычку затмевать на балах всех и вся: белое платье жемчужно-перламутровым блеском оттеняло кожу невероятно в этот раз пышное с красивыми кружевными рукавами и нитью все того же жемчуга в волосах, над которыми ещё с утра пришлось колдовать Марфе, словом, даже по своим весьма взыскательным вкусам Лиза была приятно удивлена. Два вьющихся локона тонких игриво спускаются по обе стороны от сложной прически, касаются шеи. Она заглядывала пару раз в комнату Наташи, загадочная и таинственная, давала указания как лучше уложить ей волосы и самолично выбрала платье, совершенно уверенная в том, что на сегодняшнем балу обязано произойти что-то необыкновенное [предчувствие подсказывало].
Коронация прошла прекрасно, как и положено – ликующая гвардия, ликующие толпы людей на пути к Кремлю, императорская бриллиантовая корона [та сама, которую надела на голову в далёком детстве и расплакалась от ее тяжести]. Что корона, что мантия на Саше смотрелись великолепно, словно только для него и были придумали. Лиза не соврет, если скажет, что слышала невольный общий вздох, что пронесся над сводами древнего московского собора, как только корона сверкая бриллиантами опустилась на его склоненную голову из рук митрополита. Саша был великолепным императором и все вокруг невольно тоже делал таких же сияющим, словно солнце. Никто внешне не заподозрил бы, насколько корона тяжёлая или о каких-то его волнениях. Отнюдь – казалось, что он сам наслаждается этим, пусть Лиза и знает как долго он ходил из угла в угол бальной залы, имитирующей путь от дверей до алтаря собора, где его венчали. Солнце летнее освещало, заливало собор ярким светом, словно благословляя светлокудрого государя на долгое-долгое царствование и хор церковный, где не изменяя привычки пела и она, настояв на этом в горячем спора с распорядителем вторил этому солнцу: «Многая лета». По истине люди получили нового императора, которым могли гордиться, которого жаждали. И она гордилась за него ничуть не меньше.
И теперь, стоя в освещённой огнями зале Петродворца, она невольно ахнула вновь – настолько преобразилась она трудами невидимых рук. В залах дворца были изображены громадные вензеля, буква «А» (Александр) из настоящих бриллиантов и жемчугов. Паркет сверкал так, словно его положили только вчера и можно было б почти наверняка в него смотреться. Всего в этот вечер дворец освещали 20 тысяч восковых свечей и 140 тысяч лампад. Из больших окон виднелся парк, освещенный не менее богато.
О кушаньях разнообразных и говорить было нечего. Подавались апельсины, ананасы, персики, яблоки, груши, виноград, сливы, вишни, черешня, смородина, малина, клубника, арбузы, дыни. Их раскладывали по хрустальным тарелкам, перекладывая виноградными листьями. Различные фруктовые напитки охлаждались на льду и разливались по стаканам. В отдельном зале, ожидающим пока гости вдоволь натанцуются, стояли блюда с десертами: многоярусные торты, пирожные со сливками, украшенные сахарными бабочками, разноцветное желе из фруктов, собранных здесь же. Разумеется множество видов вина, ликеров и водки [для тех, кто в первых двух видах все равно не разбирается]. На серебряных подносах покоились целые гигантские рыбины: осетры, щуки. Разносился восхитительный аромат свежих трав, которыми приправляли вторую блюда: галантин из индейки, ростбиф, судак, паштет из фазана с трюфелями, индейка фаршированная, майонез из цыплят, котлеты из кур, дичи и т. д. Пожалуй, этого хватило накормить целую роту, но можно было удивиться насколько местная публика прожорлива. Да и к тому же, Саша в этот день несколько нарушив церемониал позволил находиться в нижнем парке людям из гвардии – сколько, как говорится удастся вместить. Гвардию забыть было никак нельзя.
Разоделись, впрочем и гости, кареты которых у заднего подъезда ко дворцу заполонили положительно все пространство. Бал был самый блестящий и такой парадный, каких в петровское время и быть не могло: дамы и девицы все в платьях или золотых и серебряных, или шитых золотом, серебром, камений на всех премножество; и мужчины тоже в шитых кафтанах с кружевами, с каменьями. сколько лент, сколько крестов, сколько богатых одежд и алмазов. Определенно, барышням будет что рассказывать, как только вернутся они в свои дома и губернии [светились на этом балу и губернаторы самых дальних краев, в начищенных сапогах и при всевозможных орденах]. И правду сказать: едва ли петербургское общество было когда-либо в такой сильной степени расположено к веселой и открытой жизни, как в начале царствования императора Александра.
Экипажи отъезжали, и все подъезжали новые с красными лакеями и с лакеями в перьях на шляпах. Из карет выходили мужчины в мундирах, звездах и лентах; дамы в атласе и горностаях осторожно сходили по шумно откладываемым подножкам и торопливо и беззвучно проходили по сукну подъезда. Почти всякий раз, как подъезжал новый экипаж, в толпе пробегал шепот и снимались шапки.
– Государь?..
– Нет, вельможа… принц… посланник… Разве не видишь перья?.. – говорилось из толпы. Один из толпы, одетый лучше других, казалось, знал всех и называл по имени знатнейших вельмож того времени.
Зеркала по лестнице отражали дам в белых, голубых, розовых платьях, с бриллиантами и жемчугами на открытых руках и шеях.
Лиза произносит одни и те же слова входившим в залу, стоя рядом с матушкой у входа, то на всем понятном русском, то на французском: «Charmé de vous voir», [Очень, очень рады вас видеть]. Матушка выглядит благосклонно, очевидно радуясь за успех Саши ничуть не меньше ее. Среди прочих гостей Лиза видит Варю с отцом, которого наконец удалось вывести в свет. Князь Вяземский замечает ее так же, подходя с дочерью ближе и после формальных приветствий подставляя ей вторую руку и она, весело усмехаясь устремляется следом в этот сверкающий мир, приветствующий нового императора.
Отец Вареньки был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Лицо у него было очень румяное, с белыми подвитыми усами, белыми же, подведенными к усам бакенбардами и с зачесанными вперед височками, и та же лукавая, радостная улыбка, как и у дочери, была в его блестящих глазах и губах. Сложен он был прекрасно, с широкой, небогато украшенной орденами, выпячивающейся по-военному грудью, с сильными плечами и длинными стройными ногами. Он был воинский начальник типа старого служаки петровской выправки. И пусть обманчиво казался простаком, но Лиза, да все прочие знали, что до того как отойти от дел, князь был искусным дипломатом и не менее искусным придворным. Он сохранил живой ум, как и удивительно добрые отношения почти со всеми. По званию носил он гордо полковничьи отличия и действительно, в отличие от многих присутствующих здесь не стремился навесить на себя как можно больше наград, словно были они рождественской елью, он скромно украсил себя орденом святого Андрея Первозванного и парой медалей, заработанных ещё в бытность его в артиллерии при Азовских походах.
Пока Саши не было [как и полагается он должен был войти в залу под звуки фанфар, как только все соберутся] гости танцевали какие-то незамысловатые танцы, чтобы не успеть заскучать, переговаривались, кто-то у дальних столов уже отправился играть в карты, но так или иначе все находились в приподнятом расположении духа.
Когда они подошли к дверям, полковник отказывался, говоря, что он разучился танцевать, но все-таки, улыбаясь, закинув на левую сторону руку, вынул шпагу из портупеи, отдал ее услужливому молодому человеку и, натянув замшевую перчатку на правую руку, — «надо всё по закону», — улыбаясь, сказал он, взял руку дочери и стал в четверть оборота, выжидая такт. Дождавшись начала знакомого мотива, он бойко топнул одной ногой, выкинул другую, и высокая, грузная фигура его то тихо и плавно, то шумно и бурно, с топотом подошв и ноги об ногу, задвигалась вокруг залы. Грациозная фигура Вареньки плыла около него – если бы не Лиза, пожалуй именно княжна бы и стала первой среди танцовщиц высшего света. Снова становится немного грустно, потому что когда-то точно также отплясывала бы сама с батюшкой. Что же, быть может удастся потанцевать с Сашей, если только все танцы не будут у него заняты всевозможными важными дамами.
Лиза оглядывает залу уже порядком наполненную, замечает Волконского среди прочих, складывает веер и взмахнет рукой, мол сюда, сюда, к нам! В конце концов пора было бы познакомить его хоть с кем-то из света, в котором они теперь уже с Сашей вращались.
Его проводят сразу несколько недовольных пар глаз, в основном разумеется мужских.
— Кирилл Андреевич, это князь Григорий Сергеевич Вяземский. А это наш Кирилл Андреевич Волконский, дядя Гриша, — она зовёт его «дядей» ибо знает столько же, сколько знала Бориса Федоровича. Оставляет их разговаривать, увлекаемая Варей в незамысловатый танец по кругу с весёлыми прихлопами руками – не выдерживают и хохочут, провожаемые снисходительными взглядами.
Князь подкрутит усы, поседевший слишком рано, но сохранивший молодой проницательный огонек в глазах.
— Что же, подпоручик, я наслышан о вас, - улыбнется в усы. — Предположу, что вы и не представляете на самом деле сколь интересны для всей этой публики. Знайте, молодой человек, здесь все друг за другом наблюдают, даже если на вас не смотрят. Знаете как зарабатывается ранг при дворе? Он исходит из того сколько репутаций было погублено, - деликатно под видом невинной беседы отводит этого совсем ещё молодого по сути своей юношу к столу с шампанским. — не знаю, как вас сюда занесло, но знайте, что я могу судить о том, что есть у вас недоброжелатели – так всегда бывает, когда монарх оказывает кому-то любезность. Кирилл Андреич, чего я только о вас не слышал, но посоветую одно – дворец не поле ратной битвы, увы, здесь друг и врагом может стать. Понимаю, понимаю – скверно, на войне оно проще, а? – неожиданно подмигивает по-мальчишечьи, прежде чем сжать плечо ладонью стянутой перчаткой. — можете спросить чего это я вам взялся советы раздавать? Так вот – нравитесь вы мне, хоть и месту этому не подходите. О, а вот и Его Величество пожаловали-с.
Вдруг все зашевелилось, толпа заговорила, подвинулась, опять раздвинулась, и между двух расступившихся рядов, при звуках заигравшей музыки, вошел государь. За ним шла вдовствующая императрица. Саша шел быстро, но впрочем не выглядел суетливым, кланяясь направо и налево, как бы стараясь скорее избавиться от этой первой минуты встречи, но при этом никого не обидеть. Он был одет на этот раз в белоснежный [они с Лизой были одеты сегодня в тон] камзол с серебристыми пуговицами, в чулках и башмаках, выделяясь на фоне всей этой толпы, пусть и богато разодетой. Музыканты играли польский, известный тогда по словам, сочиненным на него. Слова эти начинались: «Александр, Елизавета, восхищаете вы нас». Государь прошел в гостиную, толпа хлынула к дверям; несколько лиц с изменившимися выражениями поспешно прошли туда и назад. Толпа опять отхлынула от дверей гостиной, в которой показался государь, разговаривая с хозяйкой. Какой‑то молодой человек с растерянным видом наступал на дам, прося их посторониться. Некоторые дамы с лицами, выражавшими совершенную забывчивость всех условий света, портя свои туалеты, теснились вперед. Мужчины стали подходить к дамам и строиться в пары.
Саша был на своем месте здесь, это всем было понятно, понятно и Лизе – казалось, что он искренне этим наслаждается, всем этим вниманием и собственным блеском. Что же, сегодня праздник был его и это было законное его право.
Танцы сменялись одним другим, пару они оттанцевали с Сашей вдвоем, заслужив восторженных отзывов без меры. И всюду он был в центре внимания, всем успевал его оказывать. Правда что кульминация была лишь впереди.
***
Саша и вправду отчасти наслаждался произведенным эффектом. В отличие от батюшки высший свет не тяготил его – он был ребенком своего времени, привыкшим к пёстрым маскарадам, блистательным признаниям, искусству этикета и в конце концов флирта. Но, если бы пришлось прожить без всей этой мишуры, то пожалуй бы согласился. Он одинаково любезно отвечает каждому, кто заговорит с ним, любезничает как может, а сам глазами постоянно ищет ее. Так странно, что она не подходила к нему, зарождая в душе в этот день червоточину и предательскую мысль: «Она решила не стеснять меня». Она смирилась с простой мыслью о том, что действительно станет кем-то вроде многочисленных отцовских фавориток, что надолго не задерживались во дворце и в итоге таки выдавались замуж. Она решила, что он пойдет на это просто потому, что иных вариантов не было. Но право, какая глупость, милая. Он уже сказал Волконскому, что собирается сделать предложение. Осталось, сказать об этом ей.
Шаря по головам придворных, незаметно пытаясь поймать ее фигуру в этой пестрота вычурности собственной коронации. И, наконец, где-то в дальнем углу зала находит ее и уже не может потерять из виду.
Она держится чуть поодаль остальных, сознательно скорее всего ее игнорирующих: на ней восхитительное небесно-голубое платье, в волосах живые незабудки. Она вся – словно кусочек летнего неба, оказавшийся запертым в этой золотой, но клетке. И как бы ни старалась она остаться незамеченной – разве можно, глупая спрятать целое н е б о.
Саша дернется было в ту сторону, но тут рядом с ним окажется Борис Федорович. Император остаётся на месте, лишь бровь дернется раздражённо слегка – прервали. Но по совести говоря, со своим крёстным, он, может и погорячился. Не стоило выставлять его вон, в конце концов Борис Федорович может хотел как лучше. Саша думал извиниться перед ним, но удачного момента не находилось, так что теперь, что бы он там не хотел по крайней мере стоило бы показать свое доброе расположение вновь.
— Ваше Величество, — почтительно склоняя голову. — Прекрасный день, соответствующий столь прекрасному событию, которым нахожу честь быть свидетелем.
Саша, вновь испытывая стыд за свое недавнее весьма несдержанное поведение с ласковой почти улыбкой ответит:
— И верно, Борис Федорович, дай бог и дальше все будет радовать.
Он замнется на некоторое время и Саша словно почувствует седьмым чувством, что что-то снова не так, но не хочется делать каких-либо преждевременных выводов относительно намерений человека, которого знал всю жизнь.
— Ваше Императорское Величество… здесь французская принцесса Мари Элен. Я полагаю…
В висках застучит кровь и улыбка, которая до этого еще была доброжелательной, сойдет на нет, оставляя за собой холодную вежливость: он просто не может себе позволить в присутствии всех придворных взять и сорваться, но бог свидетель — как же хочется!
— Так значит, Борис Федорович, вы решили, что я в не серьез и снова стали действовать так, как вам угодно в обход такой незначительной фигуры, как я? Мне казалось свои намерения я обозначил четко.
Совесть теперь его больше не мучает.
Он смотрит и не узнает некогда родное лицо человека, что вырастил его. Человека, который должен был понимать его. Саша улыбается, хотя и не хочется вовсе, вновь находит в толпе Наташу. Раздумывать больше и незачем.
— Что же, Борис Федорович, в таком случае, кажется мне стоит яснее продемонстрировать вам свои намерения.
С этими словами, громким и звонким голосом сообщит:
— Господа! Пришло время, как того требует традиция избрать царицу этого бала. И я возьму на себя эту нелегкую обязанность, — с этими словами, разворачиваясь к канцлеру спиной, уходит.
Перед ним расступаются, расступаются самые влиятельные из людей, потому что он среди них наиболее влиятелен. А он все идет дальше – белоснежный с серебром царь, император.
Он пересекает целую бальную залу, чтобы подойти к ней, вскинувшую на него свои восхитительные синие глаза, почти испуганно от этой его «выходки». Обычно, это к нему в случае необходимости все идут, но ради нее и море можно пересечь, уж не то что какую-то бальную залу дворца.
Протянет ей руку и одновременно с этим заиграет музыка для заключительного танца. Выводит на центр. Слышится шепот – слишком громкий, чтобы его даже музыка могла заглушить, но сегодня его день, его праздник и всем приходится смириться, словно громом пораженным и тоже разойтись по парам.
Они танцуют – белое и голубое, удивительно подходящие друг другу, удивительно красивые. Она во все глаза смотрит на него, сжимающего ее руку.
— Саша, — шепнет тихо и укоризненно, ее лицо совсем бледное. — что ты делаешь, все ведь смотрят?
А он рассмеется тихо, искренне, качая головой, удивляясь тому, что ей вообще есть до этого дела.
— Ну и что? В конце концов – пусть привыкают. Они всегда будут смотреть. К тому же на царицу бала принято смотреть.
Они танцуют за руку, одно целое, одно целое уже навсегда, сверкающие, влюбленные. А что там вокруг хоть весь мир смотрит – кому какое дело? Музыка постепенно подходит к своему завершению, дамы легко обегают кавалеров, встающих на одно колено, держащих их за руки. Но ее руку он не торопится отпускать, так и оставшись на одном колене, заглядывая в ее озадаченное слегка прекрасное лицо, образ которого спасал тогда, когда было совсем уж паршиво. Который спасал всегда.
Все замирает, блестит в какой-то бешеной круговерти. Ее лицо кажется совсем белоснежным, только в глазах звезды сияют синие.
Он – император огромной страны. Вокруг – весь высший свет, который можно было собрать в одном месте. И он стоит на одном колене перед ней.
Она медленно качает головой, слабо попытавшись руку отнять, но не выйдет. Больше никогда не выйдет.
— Я стою перед вами на коленях. И перед всеми, перед Богом, признаю царицей этого бала. Но куда счастливее я был бы, согласись вы, Наталья Алексеевна, стать не царицей на один день, а стать моей женой и императрицей. Скажите «да» и вы сделаете меня самым счастливым из людей на этом свете. Потому что только вам я могу доверить свое сердце и эту империю ради которой оно будет биться отныне и навсегда.
Кажется, что она и вовсе перестает дышать. Какая-то тихая музыка все еще льется, но музыканты играют не в попад. Здесь никто не верит своим ушам, никто не может поверить. Вот так – взять и признаться на глазах у чиновников, сановников, генералов, иностранных послов и даже…принцесс. Не оставляя уже шансов на побег и отступление. Она заглядывает в его глаза, а в ее собственных слезы застынут. Если бы мог встал бы с колен и утер эти слезы, сделал бы все, чтобы она вообще больше никогда не плакала. Но нужно ответа дождаться.
Улыбается ободряюще, как обычно улыбался.
— Ну же, я стою на одном колене, а значит вся страна стоит и умоляет. Скажи мне «да». Скажи. Скажи, что хочешь прожить остаток дней со мной.
Ее молчание кажется вечностью, прежде чем она, наконец ответ дрогнувшим голосом, затопленным нежностью:
— Я не смогла бы прожить без тебя и дня.
И он сочтет это за согласие.
____________♠♠♠____________
—…но как же прекрасно, господа, право! Как в сказке! – Лиза шествует во главе процессии молодежи, которая веселой шумной гурьбой шествует по петергофским дорожкам. Гуляния после бала всегда были чем-то традиционным – подвыпившая, сытая и сплетничающая толпа разошлась в теплых летних сумерках, чтобы еще раз подивиться на циркачей, гигантов и карликов, диковинных птиц, цветы и посмотреть на фейерверки, которые должны были начаться с минуты на минуту.
Вместе с ней Варя, которую держит под руку, Коля и Гриша Голицыны – погодки братья, известные кутилы Петербурга, разумеется Вася, без которого обойтись никак было нельзя, Даша Никопольская – дочка адмиральская, ее мальчики и еще пара-тройка детей дворянских, что не пожелали находиться с родителями и отправились на прогулку. И, разумеется, Кирилл. Лиза просто отказалась оставлять его одного, когда Саша оказался слишком занят – чего недоброго налетят какие-нибудь любопытствующие.
Они смеются – молодые и почти все беззаботные в своем богатстве, живо принимающиеся обсуждать предложение государя, а следовательно и скорую свадьбу. Кто-то сомневается в том, что это идея добрая, да и вообще скандал полнейший, кто-то как и Лиза находит это смелым поступком, но в общем и целом никто не осмеливается слишком уж громко осуждениями заниматься.
— Кирилл Андреевич, вы ведь рады за них? Ах, а вы знали, что он выкинет это? Как же прекрасно, сделал он это признание… Даже я бы от чего-то такого не отказалась право!
— Так за чем же дело стало, Елизавета Петровна? Хоть сейчас припадем на колени! – немедленно ответствует старший Голицын, шутливо падая на колени прямо на дорожке и целуя руку. Лиза смеется, руку отнимая и грозит шутнику пальцем.
— Господа, ну так гулять попросту скучно! – замечает Варя и все соглашаются. Зазвучит отовсюду: «Играть! Играть!».
— В таком случае предлагаю самой прекраснейшей из женщин выбрать нам забаву! – провозгласит несколько высокопарно Вася, который определенно перебрал с вином. Лиза не находит глазами Нади, которая словно отделилась от их компании еще где-то в самом начале, превратившись в воду опущенного призрака.
Лиза задумается на секунду, а после хлопнет в ладоши и выдаст со счастливым видом:
— «les grelots!»
Все одобряюще закивают, отлично знакомые с популярной дворцовой игрой, а она не успеет опомниться, как Гриша Голицын неожиданно снисходительно замечает, кивая на Волконского:
— Вам, сударь, должно быть игра эта неизвестна.
Ну да, ведь именно дети князя Голицына хотели быть ординарцами нового императора, а здесь непонятно откуда взявшийся подпоручик с неизвестной особенно в широких кругах фамилией. Лиза мгновенно нахмурится, демонстративно захватывая Кирилла под руку.
— Право, Гриша, неужели вам больше нечем похвастаться, нежели знанием правил детской игры? — обернется к Кириллу Андреевичу. — Игра простенькая.
Кто-то посмеется и пробормочет: «Но с отличным окончанием!».
Лиза мимо ушей пропускает.
—…совсем простенькая. Мужчины ищут – девушки убегают и прячутся, пока вы считаете до тридцати. Разница с прятками лишь в том, что у девушек на ноге по браслетику с бубенцами, поэтому ищущий слышит звон. Отсюда и название французское – «бубенчик», — она улыбается. — Тому, кто нашел – приз. Искать следует до первого удара в гонг. Вот в общем-то и все.
Принесут бубенцы на подносе неизвестно откуда подоспевшие слуги, разбросанные сегодня по всему парку.
— И помните, господа – тому, кто решит жульничать и подсматривать, пока считает – вечное порицание! А дамы – бубенцы не снимать! – заявляет Варя, глазами сверкая и первая, как только водящие отвернутся и начнут отсчет обратный сорвется с места. За ней и прочие дамы, с ними Лиза, разумеется позабывшая сказать, в чем приз заключается и то, что ее в этой игре почти никто не обнаруживал.
***
Лабиринт она знала также хорошо, как и прочие уголки в этом парке изученном ею вдоль и поперек. Может поэтому, придумывать подобную забаву было не совсем честно, но уж больно она ее любила. Звенят весело серебряные бубенчики, выдавая ее место нахождения, пока она смело заходит в лабиринт петляя между дорожками и искусственной изгородью выше нее размером. Вступая в лабиринт, я вспомнила последовательность, которую заучивала на крыше. Считая повороты, пошла вперёд по гравию, легонько шуршащему под ногами.
Направо. Пропустить два.
Во тьме высокие стены, сплетённые мелкой листвой и причудливо изогнутыми ветвями, казались серыми, повороты – сплошь одинаковыми. Но не для нее разумеется.
Налево. Пропустить три.
Если кто и увяжется, то рискует заблудиться здесь, пытаясь определить откуда раздается звон – лабиринт этот поистине огромен. Она замечтается лишь на миг, поднимая голову к верху, пытаясь рассмотреть звезды – не выходит, для звезд все еще слишком светло на небе. Зато, слышит чьи-то шаги и приходится шаг ускорить, но шаги настойчивые.
Направо. Пропустить один.
Сбивается в итоге со счета, слишком увлеченная погоней, раздумывая, кто же это может быть, в итоге упираясь в тупик. Впервые в своей жизни кажется с тех пор, как впервые вообще в него вошла – в тупик. Лиза резко повернется в своем молочно-белом платье, присматриваясь к фигуре напротив, которую до поры до времени надежно скрывает полутьма лабиринта. Но Лиза его все же узнает. Узнает и по росту и по легкой офицерской походке.
— Удивительно, что вы меня нашли. Хотя я догадывалась, что найдете. Кирилл Андреевич, — улыбается просто, выходя на пятно лунного света. Где-то над головой послышится первый залп грандиозного салюта: в воздухе целое светопредставление разыгрывается, вырисовываются огненные фигуры, пирамиды разноцветные, цветы, все искрится не хуже звездного неба [впрочем, лучше него вряд ли что-то придумать можно], а Лиза подходит совсем близко.
— Что же, в таком случае вам приз, как нашедшему полагается, верно? — улыбается загадочно. — Но тогда глаза закройте, вот что, доверяете мне? — спрашивает у него, не прекращая улыбаться, держась совсем близко от него.
Еще один залп.
— Подглядывать не станете? Смотрите – не подглядывайте!
Не будет – это ведь в конце концов Кирилл. И это хорошо, что нашел ее именно он.
Распускается на небе очередной цветок искрящийся.
Она легко-легко, едва уловимо касается губ чужих. Это поцелуй-прикосновение, едва-едва, похожий на то, когда касаешься чужих губ подушечками руки – можно и не почувствовать ничего, словно цветок лепестками губ касается. Он совсем быстрый, секундный. Одно мгновение за которым мир, что вращается и кружится из-под ресниц трепечущих. Она часто играла в эту игру – для двора поцелуи редко что-то значат. Всего лишь забава. И все же. И все же.
На одну-единственную секунду что-то всколыхнулось в душе. На одну секунду, которую этот поцелуй длился – секунды мало, чтобы в этом разобраться.
Она легко отрывается от губ чужих, возвращаясь на свое место легкой птицей, которой все не по чем. Жестокая пташка.
Улыбается все также невинно, выпархивая быстрой птицей мимо, прочь, из лабиринта, который, обманщик завел ее не туда. Развернется, крикнет весело, беззаботно:
— Как вы меня нашли? Вы только не думайте ничего – это ведь ничего не значит! Просто игра!
«Вас ведь наверняка однажды какая-нибудь девушка поцелует, которая вам нравится».
То, что было во сне – остается во сне.
…
Для кого-то стал этот праздник началом новой жизни.
Для кого-то – разбитым сердцем.
И никто не заметил, в парах вина и искр фейерверков, как тень набежала на луну и закрыла ее.
Князь Юсупов, на коронацию, между делом, не приехал.
____________♠♠♠____________
Этот день не должен был отличаться от прочих дней, следовавших за коронацией Саши, призванных развлекать и быть еще одним лишним доказательством того, что все хорошо и будет хорошо впредь. Лиза пытается вышивать, отгоняя от себя назойливых и ставших ленивыми крупных мух – стоит летний зной, от которого спасаться разве что у реки или фонтанов, не перестающих работать в Петергофе ни днем, ни ночью.
Получается, разумеется скверно, впрочем, как и всегда до этого получалось, она то и дело умудряется уколоть палец, раздосадовано отбрасывая пяльцы куда подальше. Ей бы выйти прогуляться, но она упрямо сидит в душных покоях, разозленная на брата, который как и всегда не думает извиняться, потому что свято верит, что прав. Саша всегда прав, а как только надел корону на голову официально, так и вовсе кажется уверился в непогрешимости своих суждений относительно людей [пусть она ранее сама говорила, что в людях ее брат разбирается]. Предметом ссоры, как это уже бывало ранее стал Иван Дмитриевич. Лиза рассчитывала, что после того как Саша сделал свое предложение, как начались помимо всего прочего неспешные подготовки к свадьбе, он уж точно ее поймет. Но он не понимал и очевидно считал, что по любви жениться следует исключительно ему, глядя на нее с какой-то потаенной жалостью. «Ты можешь просить у меня чего угодно, но не этого – я не могу обманывать сам себя» - категорично, давая понять что в вопросах ее личной жизни оказывается ушел не далеко от батюшки. Как несправедливо оказывается, когда судьба твоя целиком и полностью зависит от мнения и решений мужчин. За Сашу-то никто не решал! Сделал, что захотел и она поддержала!
Дверь распахивается, заставляя в очередной раз уронить пяльцы, за которые было вновь взялась [потому что как Наташа говорила это прекрасно успокаивает, но как оказалось – совсем это не так]. Вскидывает голову, ожидая увидеть мальчиков, вернувшихся с рыбалки, или по крайней мере Варю или на худой конец Сашу с извинениями, но вместо них всех вместе взятых перед ней стоит Иван Дмитриевич. Он несколько растрепан, что кажется несколько необычным – обыкновенно он всегда причесан. В карих миндалевидных глазах поселяется плохо скрываемая паника. Лиза даже спросить не успевает то ли обрадованная, то ли испуганная тем, в каком состоянии его обнаружила, что случилось, как он с каким-то глухим стоном падает прямо к ее ногам, хватая за уколотые иглой руки.
— Ваня, Ваня ради всего святого, что с вами? – пытаясь привести совершенно безутешного кажется Кречетова в чувства вопрошает она, но он лишь мотает головой, с отсутствующим видом в лихорадочно-блестящих глазах избегая на нее смотреть. После вновь подрывается, прикрывая лицо руками, заставляя окончательно потеряться в догадках.
— Я пришел, Лиза для того чтобы попрощаться с Вами. Я совершенно-определенно уверен, что в скорости еще до свадьбы Его Величества меня удалят от двора. Я так подозреваю, что так меня наказывают из-за того, что я смею любить вас.
Последнее особенно врезается в испуганный разум. Любить, любить, любить. Лиза подбегает к нему, совершенно ничего не понимающая, но определенно не желающая никуда его отпускать. Обхватывает лицо ладонями, пристально в него всматривается, не давая взгляд отвести от себя.
— Что вы такое говорите, Иван Дмитриевич? Почему вы должны уехать? Куда?
Он сокрушенно мотает головой, вглядывается в ее лицо с невероятной тоской и сердце, глупое сердце дрогнет отчаянно. Что-то произошло.
— Ах, Лиза, неужели не видишь ты, что Его Величеству я не мил. Твой батюшка, покойный император Петр Алексеевич любил меня, вот и держал здесь. Но я простой сокольничий, против воли Его Величества я не пойду. Может быть отошлют от двора под Рязань.
Рязань…слишком далеко, чтобы добраться. Не мил. И Лиза хочется было заспорить, да только в голове мгновенно всплывают многочисленные разговоры с Сашей, которые ярко свидетельствовали о том, что подобное действительно могло оказаться правдивым. Саша бывал невыносим с теми, кто ему не нравился – именно тогда его шутки становились жестокими, именно тогда он становился придирчив до безобразия [это не замечая того, что он в принципе оказывался достаточно въедлив] и оставалось только гадать сколько приходилось претерпеть Ивану Дмитриевичу от ее брата, пока она не знала.
Она ухватывается за его плечи, обнимает отчаянно и не желает верить в то, что он действительно может взять и исчезнуть, но что-то подсказывает, что Саша действительно мог такое устроить. Вот только – неужели бы ее брат, которому верила всегда беззаветно, не предупредил бы об этом ее? Саша бывал невнимателен или жесток к тем, кто его не интересовал, быть может даже не специально, но в конечном итоге никогда – с ней. Но мысль эта ускользает из испуганного новостями разума быстрее, чем она успевает ухватить ее за хвост.
— Именно поэтому, я пришел попрощаться с вами, Лиза. В конце концов я не думаю, что у нас появится возможность…
Прикрывает пальцами ему губы не желая этого слышать, не желая снова терять тогда, когда совсем недавно у ж е теряла. И, не особенно даже думая, предлагает, умоляюще вглядываясь в лицо:
— Тогда давайте убежим! Убежим куда-нибудь подальше, где всем все равно будет, кто вы, а кто я! А Саша в итоге разрешит, наверняка разрешит нам с вами пожениться! И будем свободными…
Она успевает, впрочем, пожалеть о том, что это слетает с губ сразу же, потому что совершенно не подумала. Свою свадьбу хотелось сыграть хотя бы в родном доме, вместе с родными, да и в конце концов нельзя было так поступать с братом, с матерью, да и куда бежать… Лиза гонит эти трусливые сомнения куда подальше – время рассудит, а она не хочет его отпускать, совершенно точно уверенная в том, что он ее любит. Ведь настоящая любовь, она говорят один раз встречается!
Он смотрит на нее не верящим взглядом, осторожно целуя каждый палец на руке и бесконечно-преданно всматриваясь в ее глаза. Она и мечтать никогда не могла, чтобы о н так на нее смотрел.
— Неужели вы готовы пойти на это ради меня?
И Лиза окончательно забывает обо всех возможных сомнениях, которые клубились в голове, кивает головой, улыбаясь самой широкой улыбкой на свете. Голос разума затухает и теперь говорит только сердце, а сердце, как известно дурной советник.
— Ну конечно же да! Какой вы глупый, право!
Он обхватывает ее, кружит по комнате и кажется нет момента счастливее и искреннее этого. И так-то оно так.
Если бы в душе Иван Дмитриевич и вовсе не сомневался, что она предложит нечто такое. А если бы и не предложила, то это сделал бы он – и она все равно непременно бы согласилась.
***
Саша вызвал его к себе сразу же, как обнаружил у себя на столе письмо, письмо, которое пахло ее духами и подорвался с постели быстрее, чем тогда, когда кто-то решил подшутить над ним и сообщить, что украли лошадь. Ему даже читать его было не нужно, чтобы понять, что произошло нечто скверное и главное совершенно необдуманное. Но он, все же прочитал, все еще сжимая, написанное на дорогой бумаге письмо в руке, изрядно его измяв, хмуро вглядываясь в утреннее марево и гадая насколько далеко они могли уехать.
Сбежала. Попрощалась письменно, надеясь, что благословит.
Руки сжимаются в кулаки – на плечи накинуто первое, что попалось под руку. Саша проклинает себя – слишком сосредоточенного на собственном счастье, слишком уверенного в том, что все непременно будет теперь хорошо. Но так ведь не бывает, не бывает… Попадись ему Кречетов под руку сейчас, он бы не то что вызвал его на дуэль – жаль марать шпагу, но просто застрелил бы из первого попавшегося револьвера, а после сбросил бы на корм рыбам. Это его, Сашина вина, только его, что не уследил, не упредил, не мог догадаться, что однажды все закончится этим.
Кириллу он ничего не говорит очень долго, не зная на самом деле с чего начать, держа руки за спиной и даже к нему не оборачиваясь. Волконского разбудили немедленно, когда Саша убедился в плачевности ситуации и теперь мысленно раздумывал над тем, что же ему сказать.
«Она будет ненавидеть тебя, Саша».
Пускай, зато не сломает себе жизнь.
Но веру сломает.
Возможно, впутывать его в это несправедливо, но что делать, если подобное дело больше некому доверить? Поэтому Саша и не торопится, поджимая губы все плотнее. Разбуженный слишком поздно, но все же выдернутый из кровати, успевший разве что умыть лицо и только.
— Она сбежала.
Вот так, просто, взяла и сбежала, не сказав ему лично ни слова, не дав в конце концов даже шанса отговорить. Оставила. Вот и вся тебе благодарность, но зато можно надеяться на понимание.
— Лиза сбежала, — находит в себе силы это уточнить. — ты уж прости, что так рано позвал, но ничего лучше не придумал. Письмо оставила и сбежала, а никто и не подумал удержать - нечего сказать, хороша дворцовая охрана! – прижимается лбом к стеклу, ощущая прохладу, которая скоро наверняка перерастет в удушливый зной. — С Кречетовым. Очевидно, чтобы обвенчаться. И вот, что, Кирилл. Ты поедешь за ней, ты ее найдешь, ты ее вернешь.
Безжалостно и почти холодно сообщает \ приказывает это, разворачиваясь, охваченный солнечным светом – тон непререкаемый. У Саши нет ни времени, ни желания сейчас упрашивать, быть вежливым и уж конечно шутить. Он смотрит на друга тяжелым взглядом, отлично осознавая какую ношу на него взваливает, несправедливо распределяя ее возможные обиды между ними.
Лицо у Кирилла врать не умеет – черта для человека прекрасная, отец любил, вот только для двора невыносимая. Сразу понятно, когда неприятно, сразу видно, когда не согласен. Еще немного и заспорит, черт его возьми.
— Что? – усмехается, отходя от окна и усаживаясь за стол. — Не согласен? Не поедешь? Пусть бежит на четыре стороны с человеком, который ее не достоин? Или думаешь, что права не имею им мешать? Или… - сузит глаза. — думаешь почему это я должен этим заниматься, если на такие случаи Тайная канцелярия со своими шпиками существует? Да потому что я так сказал в конце концов, император здесь все еще я! – стукнет кулаком по столу, обхватывая голову руками, в сердцах, злясь на себя, ненавидя себя, что не предусмотрел, что не уберег.
— Извини, — через некоторое время, тише, спокойнее, куда более устало. — злюсь на себя. Сам виноват – надо было сразу избавиться, как только возможность была. Ты не думай, Кирилл, что все дело в том, что он не дворянин, хотя очевидно очень хочет им стать. Он не любит ее. Прочти, — протягивает небольшое письмецо, уже не Лизино, но написанное Кречетовым. Подождет, пока Волконский пробежится глазами по тексту, отпивая воды из бокала рядом стоящего. — получил его под дверь некоторое время назад. Он пишет, что ввиду любви моей сестры к нему не видит иного выхода, как пожалования ему титула, выдачу поместья черт пойми его за что, чтобы цесаревне соответствовать. Хороша любовь? Х о р о ш а. Не думаешь же ты теперь, что я из вредности счастью чужому мешаю?
И здесь возникает другой вопрос, который он тоже легко читает по лицу Кирилла. Если он знал заранее, то от чего ничего не сделал. Отчасти – из-за глупой своей уверенности в трусливости Кречетова и что угрозы пустые. Отчасти – чтобы иметь возможность доказать Лизе, в кого она влюблена, да только… весь ужас в том, что гораздо быстрее сестра его, оказывается доверилась Кречетову, нежели собственному брату. И даже покажи он ей это письмо – ведь не поверила бы, решила, что клевещет из личной неприязни. И пусть у него, у Саши было много качеств отрицательных и уж больно лично он мог относиться к некоторым вещам, да только неужели она взяла, что стал бы он заниматься такими глупостями… а впрочем, именно так, пожалуй что она и думала.
— Ты найдешь их, Кирилл. Я никому более доверить этого не могу – она моя сестра, а я не позволю всю жизнь ей сломать такой личности по которой плачет камера, а не венец и не титул. Об это никто не должен знать – я мог бы перекрыть выезды из городов, но тогда каждая собака узнает, что цесаревна сбежала и никогда уже в глаза никому не посмотрит. Мог бы дуболомов из канцелярии отправить, чтобы напугать ее до полу смерти. Но я не могу, могу просить тебя, потому что знаю, что никому не расскажешь, пойми меня – сам бы поехал, но только всех взбудоражу. А как найдешь… отдашь эту бумагу, — протягивает свернутую бумагу с гербовой печатью.
За это она никогда его не простит.
— В ней ему жалуют то, что он хочет. Титул, положение и прочая и прочая, — тяжело поднимается с места. — но взамен от прав на мою сестру он отказывается. Я не сомневаюсь ни секунды, что он согласится. Но она обязана этот текст услышать. Только так она увидит, в кого влюбилась. Или решила, что влюбилась… Иначе никак нельзя, Кирилл Андреевич. Только увидев его истинное лицо она поверит. Дашь и письмо его прочитать. Пусть ненавидит меня, но я сделаю все, чтобы у нее было хоть какое-то будущее. Таков мой долг. Ты уж прости, Кирилл, что впутываю. Возьми с собой кого посчитаешь нужным, хоть ее пажей – но только чтобы более ни одна живая душа об этом не знала. И после – ничего не болтала. И не переживай, — Саша прикроет глаза и грустно усмехнется. — меня она ненавидеть будет сильнее.
Жестоко. Ужасно несправедливо, да только выбора н е т и никогда его, в общем-то и не было.
За это утро, Александр Петрович постарел, казалось, на несколько лет. Наташа сказала ему после, что он поступил верно – иных путей нет и никогда не было. Да только отчего-то верно поступать особенно тяжело оказывается.
***
Домик ютился в лесу так хорошо спрятанный, что и найдешь не сразу. Я о нем не знала, но знал Иван Дмитриевич, так как отец, как оказалось любил охотиться в этих местах и дом срубил сам. Да и дом – слово громкое, скорее покосившаяся избушка. Странное чувство охватило меня, когда я вошла внутрь – скрываться от собственного брата в доме, что сделал отец.
Мы были в дороге около суток, скрываясь в разных сомнительных местах, пока не достигли этого убежища, но я не чувствовала усталости – что сделано, то сделано. Я лишь надеялась на то, что Саша поймет, не станет устраивать погони и в конце концов благословит. Пути назад не было тоже – позади остался Петергоф с фонтанами и статуями, Петербург с кораблями, позади возможно осталось все, к чему привыкла, но ведь любовь стоит того?
Невысокий кривенький домик из старых рассохшихся бревен казался надежным убежищем, если о нем никто более не знал. Крыльца у него не было, но зато была невысокая плотная дверь, закрывающаяся на засов. Угловатая крыша, сделанная из маленьких тонких дощечек, обросла хорошим слоем зеленого мха. Забора не было, дом стоял между небольшими деревьями ясеня и молодого дуба. С левой стороны болотце и поваленное дерево. Рядом с домом ветвистая дикая яблоня с мелкими желтыми яблочками. Старый пень, как будто поставленный здесь специально, был накрыт снопом сена, в нижней его части выдолблен леток – сразу видно, что отец бывал здесь когда-то, устраивая пасеку. Знатный любитель меда.
Потолок был низким, но его хватало только на то, чтобы не наклонять голову. У дальней стены старая промазанная глиной печка, резной стол и скамейка. Окошки маленькие, разбитые на четыре секции, без форточек. По всему дому, от угла в угол были приделанные тоненькие длинные прутики, на которых висели засушенные травы. Чабрец, Иван чай, мелиса, мята, душица, весь дом был заполнен ароматами этих трав. Подойдя к печке, я отодвинула небольшую льняную занавеску обнаружив два сшитых небольших мешочка. В одном были сухие листья и цветки липы, а в другом листья смороды. Небольшое долбленое корытце с сухими листочками земляники и малины. С угла печи воткнутые в стену прутики с сушеными грибами и яблоками. Стоял около окна грубо сколоченный стол. Скатерти не было, на столе лежали несколько деревянных ложек разных размеров. Глиняный горшочек стоял ровно посередине, горлышко горшка затыкала деревянная крышка от спила дерева и запечатана пчелиным воском.
Иногда мне казалось, что Иван Дмитриевич чего-то или кого-то дожидается. Это чувство усиливалось тем фактом, что он то и дело смотрел в окно, ожидая, очевидно, что непременно должно что-то произойти. Ожидал ли он гостей или просто опасался погони, но что-то неуловимо изменилось в его поведении, как только мы покинули под покровом ночи Петергоф.
Иногда он спрашивал меня, от чего я такая задумчивая и я признавалась, что от части сожалею, что пришлось так внезапно попрощаться и с любимым, но бесконечно неправым братом, с друзьями, с домом и тогда он целовал меня, заставляя на время забыть обо всех своих страхах, отдаваясь на волю этих эмоций.
Целовал он меня и в тот самый момент, когда около домика послышалось лошадиное ржание – глуховатый топот копыт по лесной земле возвестил о гостях, на которых впрочем очевидно и рассчитывал Иван Дмитриевич.
Мы забрались под полог, как раз улеглись на мягкой постели из толстого слоя мха, укрытого чистой простынёй. Подушки были тоже набиты мхом. От этой постели и от всей хижины удивительно хорошо пахло лесной свежестью. И пришлось буквально выпрыгнуть оттуда, потянувшись за платком, взятым впопыхах из дома.
О, как бы мне хотелось отчего-то, чтобы это был кто угодно, даже сам архангел Михаил с мечом, только не он. Только не он с этими его теперь уж наверняка осуждающими глазами, глядящими из-под треуголки. Саша послал. Хочет вернуть, наверняка вернуть черт знает каким образом догадавшись об этом доме. Но как же право жестоко, посылать за ними именно е г о, именно Волконского.
— Кирилл Андреевич? – право, талант у меня есть даже в такой ситуации умудриться сохранить подобие самообладания. — что вы здесь делаете? Вы же не хотите попытаться меня отговорить и моему брату передайте, что я не передумаю!
Последнее выходит каким-то дрогнувшим голосом, слишком высоким голосом. Я плотно укатываюсь в платок предательски понимая, что на самом деле краем души рада, что ничего между нами пока не было. Так странно – я думала, что буду ждать этого таинственного мгновения, который случается обычно между мужчиной и женщиной и означает полное доверие, а здесь едва ли не хотелось мне крикнуть: «Подождите!». Впрочем, к Волконскому это отношения не имело.
Я уставляюсь на него, вздергивая подбородок, выслушивая и чем дальше слушаю, тем больше не верю, что Саша вообще может такое п р е д л а г а т ь. Все существо так и трепещет от ярости на брата, который решил ее обменять на титул и состояние.
— Кирилл Андреевич! – голос дрогнет от плохо сдерживаемого возмущения. — Вам должно быть стыдно! Приезжать сюда и предлагать такое, потакая моему брату в мысли, что все продается и покупается! Уж конечно как можно думать, что Иван Дмитриевич… — я порывисто оборачиваюсь к Ване, ища поддержки. Неожиданно голос громкий, возмущенный, утихает, теряя всякую уверенность. —…согласится…
Может быть, в тот момент я впервые увидела того, что никогда не замечала – этот алчный огонек в глазах.
Может быть, в тот день мое сердце впервые разбили.
Может быть, в тот день, я впервые разуверилась в том, что понимаю что такое любовь.
Он отвечает не сразу и мне неожиданно хватает этой заминки, чтобы мгновенно засомневаться в том, что хоть что-то знаю об этом человеке. Проклятая бумага с красной печатью маячит перед глазами – хочешь, бери. Бери и откажись от какой-то глупой девочки с рыжими волосами, которая поверила, что любит и любима.
Какая-та наивная, детская в своей уверенности часть моей души все еще видимо надеялась, что не права. Но она была слишком уж слабой. Слишком ничтожной.
— Кирилл Андреевич, — голос бесчувственный, не мой голос, но неожиданно спокойный. — покажите мне письмо, — замечая заминку и не обращая внимание на все возражения, которые мог придумать человек, которого несколькими минутами ранее я любила, я протягиваю руку и забираю у Волконского письмо, которому еще недавно не поверила бы. Но мне хватило чертовой секунды сомнения. Любовь ведь не терпит сомнений.
Я читаю его.
Читаю строчки о том, как чего он в самом деле хочет. Читаю и хочу ослепнуть, чтобы не видеть, чтобы не знать. Иногда хочется вовсе никогда не рождаться, только бы никогда с таким не сталкиваться.
— Лиза, неужели ты этому поверишь? – звучит как из-под воды чужой голос. Пусть не звучит, не звучит! Пусть замолчат все! Как больно, больно, больно! — В конце концов, этот человек мог его и сам придумать, его могли подделать. Ты же ему нравишься – неужели не видишь, как можно…
Мои плечи заходят ходуном в истерическом смехе, задрожат мелкой дрожью. Я хохочу, как хохотала бы над веселой шуткой, но теперь самой шуткой стала моя жизнь. Хохочу, сквозь злые слезы, которые никак не могут политься. Нет уж – я не стану плакать из-за человека, который как оказывается не заслуживает ни то что моих слез, но даже моих ногтей.
— Вы…действительно полагаете, что теперь я поверю в то, что Кирилл Андреевич… — «что я нравлюсь ему? А впрочем теперь об этом определенно не может быть и речи». — …что этот человек, который ни разу не подвел ни меня, ни моего брата, этот прекрасный человек пошел бы на такую низость? Право, Иван Дмитриевич, насколько же вы полагаете меня д у р о й? — и я снова хохочу, хохочу зло, словно пытаясь достучаться до самых небес.
Какую же сказку выдумали люди, играющие в любовь. Какая глупость. Какая жестокая глупость.
Смех прерывается резко, а зеленые глаза становятся совершенно непроницаемыми. Я чувствую себя оголенным проводом, желая на самом деле провалиться сквозь землю, но нет – я выдержу это, я выдержу это так, как должна выдержать дочь Петра Великого.
— Отдайте мне, — не глядя ни на кого, подразумевая бумагу, обещающую ему райские кущи. Заветная бумага окажется в руках, она помедлит немного, снова посмотрит в когда-то любимые вроде бы глаза, в которых теперь не находит совершенно ничего. Пустота. — я говорю отдайте, Кирилл Андреич, я не прошу, требую.
И все же, словно цепляясь за последнюю призрачную возможность спрашивает. Спрашивает, ненавидя себя за то, что голос станет таким умоляющим. — Вы хотя бы когда-нибудь… любили меня? Хоть однажды? — но его взгляд прикован вовсе не к ней, а к бумаге.
Деньги, золото, положение. Дура, дура, дура, полагающая себя умной девицей.
Лицо станет каменной маской, а после руки на мелкие кусочки порвут злосчастную бумагу, она бросит остатки ему в лицо, хрипло хохоча и на вид, пожалуй что напоминая умалишённую.
— Это, пожалуй, что все, чего вы заслуживаете помимо Петропавловской.
Завязывается после этого отвратительная сцена, в которой он пытается то ли собрать остатки бумаги, то ли накинуться на Волконского, а может и на нее, а после роняя неразборчивые проклятия устремится вон, убегая, оставляя и не оборачиваясь, отлично понимая, что теперь может ждать. Лиза, поддаваясь какому-то совсем темному порыву, не помня толком себя, следует за ним, наблюдая за тем, как садится на лошадь, как скачет прочь.
Перед глазами кружится все, голова совсем тяжелая.
— Не стреляйте, — голос императорской дочери и сестры все равно прореживается, даже несмотря на то, что совершенно кажется уже нет сил. И она любила его. Она л ю б и л а его. Правда ли любила его или образ нарисованный? Голос цыганки в голове заиграет. Обманула. Ведь если сказала правду – то никакой любви у нее не будет именно от того, что любви не существует как таковой.
Лиза долго смотрит ему в убегающую спину, точно зная, что ведь не промахнутся, если выстрелит. В голове звучит голос, который говорил, что ее любит. Вранье. Голос рассказывает, какая она прекрасная. Голос, голос, голос.
— В лошадь попадете – жаль ее…
И это последнее, что она скажет, прежде чем лишиться чувств, цепляясь за чье-то плечо, которое все это время было рядом. Последнее, что увидит, погружаясь в ласковую тьму, из которой так не захочется выплывать – серые глаза, в которых отражается лесная мгла и она сама.
Глаза закрываются.
***
Лиза не помнит, как они оказались здесь – волны лениво вылизывают песчаный берег залива. Где-то не так далеко, значит, д о м. Впрочем, есть ли теперь у нее дом? Она молчаливо уставится на горизонт догорающий с ничего не выражающим видом. Она не плакала – может было бы проще, если бы плакала, но она не плакала. Наверное, люди с разбитым сердцем в принципе плакать не могут. Где-то позади костер горит, но она видимо вознамерилась замерзнуть на берегу залива, отчаянно раздумывая не броситься ли в воду. Но нет – как глупо из-за такого кончать с жизнью. Как глупо…
Лиза впервые так сильно ненавидит себя, чувствуя себя глупо обманутой. Она слышит тихие шаги по песку. Так странно – кажется уже в другой жизни так счастливо бегали по такому же песку. Так странно… Она не смотрит на него – невыносимо смотреть и увидеть…увидеть разочарование, увидеть что угодно скрываемое за вежливостью и долгом.
— Вы хорошо свой долг выполнили, Кирилл Андреевич. Что, не очень я теперь похожа на звезду, а? – выйдет горько, она усмехается, наблюдая за тем, как солнце играет на волнах. — От чего… — ком в горле проглатывает, прикрывает глаза. — от чего из всех людей на этом свете, это должны были быть именно вы? Вы единственный человек, кто знает все, что здесь произошло и единственный человек, который знать ничего не должен был. А ведь это невозможно забыть, Кирилл Андреевич. Я сама не смогу. Я совершеннейшая дура, подпоручик. Не спорьте из вежливости, не надо. Батюшка говорил как-то, что пьяный хоть проспится, а дурак никогда. Кто я теперь? – она обернется к нему, мерцающие тускло в вечерних сумерках глаза пристально вглядываются в его лицо. — Падшая женщина, которая по глупости едва не отдалась недостойному человеку? – отвернется. — Мне видеть-то вас больно, потому что каждый раз когда смотрю вспоминаю об этом.
Лиза вздыхает, плотнее обхватывая себя за плечи. Не хочет жалости, не хочет добрых отношений просто потому что к царским детям нужно относиться с восхищением. Даже если они совершают глупости.
— Скажите, Кирилл Андреевич… Саша ведь знал заранее, что он это сделает? Знал и о его письме? Решил меня научить на собственной ошибке? Хорошо же… х о р о ш о. Саша любит играть, что в карты, что с судьбой своей, что… с моей. Вот только я этого делать не позволяла. И этого не прощу.
С этими словами развернется, спотыкаясь на песке, побрела к костру, так и не заплакав.
***
Лиза разглядывает пожелтевший лист на руке, прижимается к теплой спине Карая, а пасмурная погода как нельзя лучше отражает то, что она чувствует все это время. Прошло достаточно времени с тех пор, как вернулась во дворец, где кажется все делали вид, что ничего и не произошло, но п р о и з о ш л о. Первое время она и вовсе отказывалась есть, разговаривать, предпочитая общество разве что собаки и иногда Вари, потому что она единственная не боялась говорить о произошедшем, не вела себя с ней как со смертельно больной. После, стало чуть легче. Она даже улыбалась, пусть и слабо. Не стало легче только в одном – она упорно избегала их обоих. Сашу – потому что не могла простить таких жестоких уроков, считая, что и вовсе все можно было бы предотвратить, а Кирилла… здесь было сложнее. Она просто боялась. Боялась заглянуть в совершенно не умеющие врать глаза и увидеть там то, за что корила себя сама – глупая девушка, совершеннейшая дурочка, в конце концов просто падшая женщина. Никакая не звезда.
Они гуляют с Варей под руку по осеннему парку, когда она в сотый раз требует ее объясниться.
«Лиза, в конце концов я не пойму, почему вам так важно в таком случае, что подумает о вас Волконский?»
«Да потому что!... Потому что он хороший, Варя. С такими людьми рядом хочется быть, чтобы становиться лучше. А теперь он думает обо мне невесть что. Я просто не верю, что может не думать…».
Лиза на островке в паре, приплыла на лодке – любимое ее место теперь исключительно потому, что уединенное. Лиза даже написала письмо, которое никогда не отдаст. Трусиха. Противно, противно, противно….
«Мой любезный друг, Кирилл Андреевич… Я вынуждена объясниться с Вами, потому что полагаю, мое поведение могло задеть вас. О, как бы хотелось мне никогда не оказаться в том доме, а может и в том лесу, где мы впервые встретились. Вы можете думать, что я зла на вас ровно также, как на своего брата, но это не так . Просто, мой милый друг, мне невыносимо даже вообразить, что теперь вы думаете обо мне плохо. О, как бы мне хотелось, чтобы все позабыли… Не встречайся я с вами, я бы и не знала, что такие хорошие люди еще существуют. О, я знаю также, что никогда не сказали бы вы обо мне дурного при ком-либо, но боже мой, боже мой, как бы мне хотелось, чтобы никогда вы ничего дурного обо мне и не знали. Так странно – на мнение многих мне глубоко безразлично, никогда не стремилась я выглядеть лучше, чем была на самом деле. А в ваших глазах хочется быть лучше. Хочется и вовсе не иметь недостатков, или по крайней мере хочется их скрыть.
Было бы гораздо проще, мой друг, если бы я так и жила, теперь окончательно уверенная в том, что любовь лишь миф, которым упиваются люди, не зная что люди бывают честными и благородными. Как Вы. Право слово, я так боюсь, заглянуть в ваши глаза и увидеть, что вы разочарованы мною также, как я собой разочарована. Вы помогали нам бесчисленное количеством раз и уж конечно будете помогать и дальше, но ничего уже не будет как прежде, верно? Как бы мне хотелось все вернуть назад, но за свои поступки нужно отвечать.
Я трусиха, стоит признать. Иначе от чего пишу вам письмо, которое наверняка и не отдам вам в руки, а не объяснюсь с вами лично. О нет – я предпочту убегать. От себя, видимо и от Вас.
Всегда думающая о Вас, тоскующая Елизавета.
***
— Кирилл Андреевич! – Варя догоняет его, легкой походкой, берет под руку. — Не составите ли вы мне компанию в этой прогулке? А то вы слишком сумрачный – я готова решить, что это из-за вас дождь собирается.
Отводит его в сторонку, протягивая письмо, определенно понимая, что цесаревна не будет рада такому повороту событий.
— Возьмите. Возможно, я и не должна его вам отдавать, но я убеждена, что любое письмо должно найти адресата. А оно Ваше. Право слово – невыносимо смотреть на то, как она не может объясниться с вами, да и ни с кем, впрочем – ее ведь даже никто не винит! — раздосадовано. — А как прочтете, я думаю захотите ее отыскать – так она на острове, как и обычно. Не стану вам мешать.
***
Лиза читает книгу, а голова Карая покоится на ее коленях. Она доплывала до островка на лодке, а после сидела у берега с книгами или просто играя с собакой. И как только увидит вторую лодку, причаливающую к берегу первым желание будет побег. Только куда здесь, собственно говоря бежать? В воду, чтобы утопиться?
Словно он позволит.
И она правда по началу дернется прочь не имея ни малейшего желания пересекаться, но потом понимает, что это совсем уж глупо и не достойно. Вот и приходится напряженно вытянувшись стоять на месте, дожидаясь как лодка причалит к берегу. Дожидаясь, пока он подойдет.
— Кирилл Андреевич! – преувеличенно бодро, фальшиво, а глаза предательски упрутся куда угодно, лишь бы не смотреть на него. Карай доверчиво уткнется знакомому человеку в руку. — И что вы…здесь делаете? Я может пойду тогда, чтобы не мешать… - со слабой улыбкой, надеясь ретироваться.
Не выйдет.
Поделиться182024-05-20 20:48:57
Закат стремительно приближался. Закат ли великих начинаний некогда удельного, патриархального государства, иль закат, обещающий не менее полыхающий, яркий рассвет? Замершая Империя могла лишь гадать, отсчитывая последние часы, пока ещё Великий Император дышит. Волнение обнимает вихрем, ведь каждый причастен к завершению, каждый был причастен ко времени, когда поднималась держава с колен. В особенности те, кто присягали, клялись защищать ценой собственной жизни. Кирилл знал императора издалека. Не в пример батюшки, который вторил каждому шагу и каждому вздоху молодого правителя, завоевавшего миллионы сердец. Возьмётся Пётр Алексеевич то немецкий учить, то плотничать, — Андрей Григорьевич по следу ступает, пытается образ мыслей уразуметь. Однако же, Кирилл знает Сашу. Как и любой другой, знает, что последует и что ему уготовано. Знает, что отец остаётся отцом для своих детей. Сердце сжимается болезненно, словно ощущает на расстоянии чужую боль. Саша заметно переменился. Кириллу оставалось лишь словить говорящий взгляд, взглянуть в последний раз вслед уходящей спешно Елизавете, прежде чем протянуть руку Наталье Алексеевне. Они находят взаимное понимание, какого прежде не бывало. Они п о х о ж и, если не одинаковы в своих несчастных судьбах. Впрочем, их несчастье поджидало самым коварным образом в засаде. Заходить внутрь дворца, оказавшегося в плену смерти, не иначе, никому не хотелось. Бледность лица Натальи Алексеевны подсказывала, что стоит задержаться на воздухе, да и посторонних (а таковыми они стали) внутри не приветствовали. Без них народу собралось невиданно, от знатных персон до потеющих медикусов, предчувствующих к о н ч и н у. А потому, неспешным, прогулочным шагом они направляются в сторону сада. Кирилл то и дело оборачивается, бросает встревоженный взгляд на окна, будто вот-вот разглядит её лицо. Как никогда хочется оказаться рядом. Отчего же? Отчего же?
— Отчего же вы так встревожены? — возвращает на землю спокойный голос Натальи, которая держится за его руку. Кирилл ловит себя на том, что оборачивается слишком часто, и от лёгкого смущения (собственных чувств) опускает голову. Она улыбается слабо, вымученно. Быть может, бесконечная дорога утомила. Быть может, события последние её жизни оставили отпечаток на красивом лице с тонкими чертами. Он старается уменьшить собственный шаг, дабы не подгонять её ненароком. Окружающие словно поняли давно то, чего Кирилл и не заметил. Взгляд голубых глаз мимолётный, однако, говорящий.
— Знаете, Наталья Алексеевна, я и не заметил, как они стали мне родными, — губы невольно трогает такая же слабая улыбка, разве что тёплая, — с такой улыбкой говорят о близких, любимых. В её глазах появляется понимание. — Странно, я бы не смог признаться в этом кому-либо. Только вам.
— Мы с вами приятели, по несчастью или счастью, — решать лишь нам. Беда в том, — она останавливается и разворачивается в сторону величественного дворца, глядя на него мужественно, не дрогнув, — что платить приходится за это чувство. Вы правильно делаете. Никому не говорите о том, что мне сказали. Никто не должен знать. Тогда ваше счастье продлится дольше.
Ей ли не знать, девице, выросшей в царской семье. Кирилл согласно кивает, находя лишь подтверждение тому, о чём размышлял сам. Первоначальное стремление оставаться в тени и лишнего не болтать было совершенно верным. Теперь они оба смотрят на дворец, поглотивший их любимых и родных, гадая безмолвно о будущем. Будущее, впрочем, не за горами притаилось, — оно совсем рядом.
— Я понимаю, к чему вы. Родные, а следовательно, вы тревожитесь за них. Мне знакомо это чувство беспомощности. Привыкайте, — она горько усмехается, чуть крепче за его руку ухватываясь. — Главное, переждать, а потом вы сможете сказать и сделать всё, что желаете ваша душа. А знаете, — отпускает руку вдруг и поднимает взгляд на его лицо, — ступайте во дворец. И мне тревожно. Вы ему понадобиться можете. Ступайте, сейчас самое время быть подле него. Исполните его любое поручение, чтобы никто другой этого не сделал.
— О чём вы, Наталья Алексеевна? — серьёзные взгляды пересекаются. Серьёзные и неизменно упрямые.
— Вы представляете, сколько молодых людей захотят оказаться там? Рядом с ним? А ему нужны вы. Я это знаю. Ступайте немедленно, — жизнь в кругу монарших особо даром не прошла, отражается в повелительном тоне. — Заодно узнайте, как Елизавета Петровна. Поверьте, если выбирать из нас двоих, то лучше вам появиться во дворце.
— А как же...
— В саду отдохну, там покойно и свежо. За меня не волнуйтесь. Ступайте же.
Наталья Алексеевна, которая не была замечена за прикосновениями к кому-либо (помимо Саши, разумеется), вдруг разворачивает его в нужную сторону, тем самым поторапливая. Кирилл послушно разворачивается и направляется быстрым, широким шагом во дворец. Он хотел. Сердцем и душой чувствовал, что обязан быть р я д о м.
Неужто столь явное и кажущееся правильным чувство, может оказаться поддельным? Обманчивым? На мгновение, лишь на мгновение показалось что может. Он замирает на пороге комнаты, наблюдая неожиданное действо, — вот уж поворот на сцене театра жизни. Внутри что-то обрывается. Словно отнимают надежду. На что ты надеялся, мальчик? Кирилл отчаянно не понимает, что творится душе. Отчаянно не понимает, что за надежду вырывают из сердца. Перед взором предстаёт человек, который, вероятно, и привлёк её сердце. Разумеется, такой человек мог быть и весьма странно, не окажись его. Елизавета Петровна того достойна. Знать бы только, что достойна любви, а не подлых мужчин. Впрочем, первое впечатление никогда не обманывает. Кирилл будто и не слышит её голоса, не замечает пытливого взгляда, лишь вытягивается струной, сохраняя на лице маску серьёзности, дышащую непременно холодом. Сколь эгоистично в сей момент разбираться в собственных чувствах, когда решается судьба отечества. Не пристало так вести себя офицеру русскому, и он себя отдёргивает, оставаясь тем самым офицером.
«Иван Дмитриевич Кречетов», — вот она, скала, о которую разбивается маленькое, деревянное судёнышко. Кирилл делает усилие над собой, дабы улыбнуться и сделать несколько шагов вперёд. Более всего на свете ему не хочется сейчас делать э т и шаги. Ради Елизаветы Петровны, разумеется, ради неё, протягивает руку. Бросает на неё потеплевший на мгновенье взгляд, отвечающий на выраженную надежду. Несомненно, другом он останется. Никакой Иван Кречетов тому помехой стать не сможет. Рукопожатие крепкое, точно соревнование «кто кому сожмёт руку до хруста и поломанных костей». Едва ли на лицах мелькает дружелюбие и приветливость, скорее неуловимое отвращение. На вызов Кирилл не отвечает, считая то истинной глупостью. Лишь разжимает руку и улыбается одними уголками губ, иронически.
— Взаимно, — не отличается многословием, что, впрочем, ему свойственно. Кирилл вдруг находит разумным оставить их наедине, — поддержка в лице любимого человека л у ч ш е, нежели друга. Однако же, мигом реагирует, когда Елизавета чуть равновесие не теряет, и забывает о всяком желании удалиться. Встречается с взглядом напротив. Надёжный ли человек? Один его вид взывает к настороженности. Откровения являются неожиданно. Быть может, порой лучше остаться с другом. Вероятно, данная простая истина доходит до Ивана Дмитриевича, или Бог знает по каким причинам тот решает откланяться. Кирилл видит в его жестах лишь позёрство, желание нечто доказать. Доказать свою любовь к цесаревне? Разумеется, сие доказывать бросился бы любой. Любой, может быть кроме самого Волконского. Он снова лишь кивает головой, выбирая сдержанное молчание и ничего не выражающие лицо. Облегчение приходит со звуком закрывшихся дверей.
— Вы не могли об этом думать, Елизавета Петровна, — покачает головой, а голос мигом теплеет. — Всё в порядке, вы только не волнуйтесь. Вам нужно поберечь силы, — смотрит внимательно на её лицо, чувствуя всем существом неладное. Только бы разобраться, понять, что тревожит помимо угасающего батюшки. — Елизавета Петровна... — срывается с губ глухой шёпот, следом за её падающей рукой. Несколько секунд смотрит на её руку, а после набирается невиданной смелости; укладывает на раскрытую ладонь, кажется, совсем маленькую ручку, и своей сверху накрывает. — Сейчас бояться нормально. А потом, я уверен, вы перестанете. Вы всегда были смелой и будете, он знает.
В этот миг Кирилл мог отдать всё, что имеет, лишь бы утешить Елизавету, пусть даже на короткое мгновенье. Вскоре слышатся позади шаги и руку приходится отпустить. Они ожидали новостей и новости прибыли, кажется, опустившись тяжёлой ношей на плечи Саши. Кирилл, быть может и глупый, но отчаянно желает забрать всю тяжесть себе, только бы такими их не видеть. Вот она, плата за р о д н ы х и беспомощность, не заставляющая долго ждать. Всё, что остаётся, — слушать и повиноваться. Наталья Алексеевна не прогадала. Кирилл забирает конверты, понимая, что время для проявления своего упёртого нрава самое неподходящее. Ощущение жизни и всего мира меняется, когда Саша, а теперь Александр Петрович, отдаёт свой первый императорский указ. Волконский замирает на пару секунд в столь исторический момент, глядя ему в спину. Как и положено офицеру, требуется отреагировать незамедлительно, остальное — потом. Остальное и значения не имеет. Осознание того, что парень со странной улыбкой, любитель лошадей, прирождённый дипломат, весёлый цесаревич и друг верный, отныне император Всероссийский, приходит с запозданием. Не торопясь. Кирилл кланяется как положено и вытягивается струной, а после разворачивается в сторону дверей. Приказы следует выполнять незамедлительно.
***
Кирилл Андреевич — упрямый по натуре, нисколько не желал уступать. Время пришло. Более он не чувствовал необходимости поддаваться любому желанию новоиспечённого императора, который, по его мнению, справлялся со своей службой народу и располагал достаточным количеством помощников. Об этом успел также поведать Александру Петровичу. «Вы не должны растрачивать средства на лишних помощников», — упрямствовал он с непроницаемым выражением, которое, впрочем, сохраняется до этой минуты. Предлагаемая должность, разумеется, должна льстить и казаться привлекательной, словно из мечтаний любого юноши, только не для Волконского. Сашу порой и жалко, и злость небывалая берёт на каждого, кто за их спинами перешёптывается, презирает и подстрекает других не торопиться с признанием императорской воли. Будь Волконский уполномочен, непременно собрал бы всех в четырёх стенах Тайной канцелярии. Разве что подход Саши более мягок. «Саша, они меня беспокоят», — не сдержался однажды он, подразумевая Сенат и всевозможные знатные, древние роды, прочно засевшие в дворцовой системе. Развивать тему не стал, выказывая опасения по поводу того, что однажды им надоест возиться и они предпримут нечто более серьёзное. Единственное, благодаря чему удавалось засыпать по ночам, — собственная принадлежность к гвардии. Едва ли гвардия поднимется по зову стариков, от которых втихаря мечтает избавиться.
— Не смею так думать, Ваше величество, — глядит в одну точку, будто не замечая метаний Саши из стороны в сторону. — Но согласиться с вами не могу, — картина, висящая напротив рабочего стола, оказывается весьма занимательной, лишь бы не смотреть на Сашу и не поддаться ч у в с т в а м. Дружеские порывы занести способны в дальние дали, в чём убедился Кирилл предостаточно. Приходилось просыпаться порою в самых неожиданных местах, а после вопрошать Сашу, было иль не было, потому что какая-то девица под утро сопела на его плече. Саша уверял в том, что с ним, Волконским, ничего быть не может. Хотелось бы верить. Странно сравнивать указ о переводе на иного рода службу с похождениями по увеселительным заведениям, однако же картины яркие в голове всплывают. Неравнодушен Волконский к своему другу и знает, что ради него готов пройти через хоть через огонь, хоть через таверну в обществе незнакомых женщин. Теперь ему приходится выдержать испытание, — смотреть в глаза напротив, не дрожа и не выражая каких-либо чувств. Выслушивает и наблюдает, можно заключить, что с равнодушием. Вечно они контрастируют: горячий и холодный. Кирилл горячиться в такие моменты не любит. Неуместно.
— Учить вас я не уполномочен. Как и советы давать. И желания такового не испытываю, Ваше величество, — упрямо чеканит. — А уж тем более, не могу думать про чужую лошадь, когда, знаете ли, в гвардии работы не меньше, — тон больно вызывающий, не подобающий для общения с императором. Пожалуй, и впрямь не стоит обращаться по титулу. — Вы кого угодно можете в ординарцы позвать, к вам очередь ещё выстроится, — и забывает напрочь увещевания Натальи Алексеевны. Ему бы только осознать, сколь сильно способен помочь, согласившись. Осознать, что при дворе служить вовсе не постыдно для о ф и ц е р а. Случись война, наверняка Саша удерживать подле себя не станет. А участие в войне — это главное. Стоило только Кириллу начать свыкаться, проникаться, договариваться со своей упрямой натурой, как Саша всё рушит одним лишь заявлением. Приказ подписан.
— Как? Как подписал? — невольно делает несколько шагов в сторону Саши. — И мне сообщить раньше не потрудился? — забывается окончательно, переходя столь легко на привычное «ты». — Чёрт... — выругивается себе под нос, почти неслышно. Разумеется, после накрывает очередная волна, очередная баталия, в которой оба хотят победы. Спасением мог послужить лишь счастливый случай. Определённо счастливый. Знать бы только, что вовсе не спасение маячит за спиной Саши, а самое истинное предательство. Он, дурак, охотно вступает в игру, остаётся серьёзно-непробиваемым, продолжая выслушивать терпеливо Сашу. От действа перед глазами Кирилл не выдерживает, начинает улыбаться. Сохранившиеся семейные, тёплые отношения будут радовать неизменно.
— Невыносим, не то слово, цесаревна, — охотно занимает её сторону. Зарождается надежда на то, что Саша отмахнётся и наконец-то отпустит «в свою гвардию», однако же ничего подобного не происходит. Послушать бы ему сестру. Отдых действует благотворно на человека, делает его сговорчивее. Надежды рассыпаются прахом окончательно, когда Саша делает крайне нечестный ход. Кирилл мгновенно понимает, что обречён согласиться. Иначе быть не может, когда просит о н а. Уставляется недобрым взглядом на Сашу, безмолвно обещая в той же реке утопить. В крепость бы его. Как и ожидалось, от вопроса и взгляда Елизаветы Петровны он теряется, и теряет всякую бдительность, убеждённость в своей правоте. Он буквально обезоружен. Сам не осознаёт, что впадает в долгое молчание и потерянность, отразившуюся на лице. Видимо потому она подходит ближе, не оставляя никаких путей к отступлению. Надо ли ему вновь вдаваться в детали? Объясняться, что место офицера в казармах и на поле боя, а не подле императора во дворце? Ещё множество обязанностей выполняют гвардейцы, однако же, от них доведётся отказаться. Променять службу на цирк, — это не укладывается в голове, но и выбора не остаётся. Елизавета Петровна в своей увлечённости и простоте, вновь его сражает наповал. Разумеется, слово своё надобно держать. Разумеется, они оба должны были победить. Кирилл наконец-то выдыхает с облегчением. По крайней мере, более спорить ни с кем не придётся. Уступит другу. Друзья должны друг друга выручать. Стало быть, Саше нужна помощь, — мысль будто новая, пусть и очевидная с самого начала долгой словесной баталии.
— Ну, хорошо, хорошо. Победили. Вы только не серчайте, — поднимает взгляд на Сашу, — ежели что-то не так сделаю. Меня многому учили, только не дипломатии. А вам, — посмотрит на Елизавету с теплотой в глазах, — как и всегда, отказать невозможно. Вы уж помогите мне сохранить офицерскую честь.
Кирилл улыбается, потому что испытывает к ним самые тёплые чувства. Не имеет значения, сколь невыносимым оказывается Саша иль сколь очаровательной в своих уговорах будет Елизавета Петровна. Они ведь, родные.
***
Кирилл наблюдал за ней непременно с лёгкой улыбкой на лице. Более любопытного и великолепного зрелища быть не могло, чем цесаревна за штурвалом. Он совершенно не беспокоился, убеждённый в том, что она с управлением справиться и команду свою из двоих человек, не потопит. А ежели и потопит, так они взаправду плавать умеют. На берегу, казалось, мир перевернулся вверх дном и сделался чрезвычайно цветастым. Голова кругом от новых видов, какими любоваться доселе не приходилось. Кириллу с первых секунд увлекает свободная, цыганская жизнь, как и любое другое явление, демонстрирующее свободу человека и его духа. Он завороженно глядит то на фокусников, то на зверей диких, но всё же, приученных людской голос слушать. Совсем невольно оказывается в плену Сашиной руки, постоянно оглядываясь. Не хотелось отрываться от них, или от неё. Как оказалось, ради лошади.
Ему бы всерьёз лошадь рассмотреть, ведь дело касается выведения новой породы. Какой бы огромной любовь ни была к лошадям, взгляд ненароком прикован к совершенно иному действу. Кирилл забывается в очередной раз, когда смотрит на неё, стоя под дуновением тёплого ветра, взъерошивающего волосы и теребящего заправленную рубашку. Заглядывается с нежностью в глазах. Только дурак не заметит. Саша ведь, не дурак. Заглядываться можно по самым разным причинам. Саша, как брат, тоже заглядывается. Только, Кирилл Андреич, — совсем другое дело. Она столь просто становилась своей в любом обществе. Однако же, на свободе, не связанная этикетами, правилами, навязанными титулом, она совершенно особенная. Другая. Пёстрая птица, которой любоваться бы днями и ночами. Любоваться, да не приближаться, чтоб не спугнуть. Она красивая, влюбляющая с большей силой. Кирилл млеет окончательно, лишь отдалённо слыша голос Саши. Вздрагивает только от прикосновения, от тяжести на плече и хмурит брови, выдернутый нещадно из собственного мира, в котором быть может, была одна Елизавета Петровна, огни и льющаяся звонкая музыка. Он, разумеется, предпринимает попытки оправдать себя и отсутствие внимания к поистине великолепной кобыле. Попусту. Вскоре и сам понимает, что оправдания пустые да глупые. Легче признаться, он ведь, честный дворянин.
— Лучше кого? — искренне не понимая, хлопает своими длинными ресницами, уставившись на Сашу. Осознание приходит с опозданием. Разве что сравнивать себя с кем-либо никогда не стал бы. Может ли быть лучше он, ежели с Кречетовым у них настоящая любовь? Свезло парню, не иначе. Любить девушку, которая свободной птицей плясать вокруг костра может и тем самым сражать наповал, манить сердце в ловушку, — это не ли высшее благословение? — Пропаду, и что с того, — произносит тихо, себе под нос и сквозь улыбку. Безумец.
— Елизавета Петровна... право слово... у нас дел полно... — пытается отвертеться, бросая молящие о помощи взгляды на Сашу. Предатель чёртов. А душа ведь, рвётся, тянется, выбивается из своего заточения. Кирилл вырывается следом за ней, и душой, и птицей, которая влечёт к себе. Не пропадёт. Пропал. Определённо пропал. Растворяется в её хохоте и сияющих глазах, когда изумруд сливается с медным пламенем. Отказать ей не в силах, да и себе тоже. Оба теперь пляшут, как в последний раз.
Пропал.
***
Эдакие доносы превратились чуть ли не в самое излюбленное и самое ненавистное в одночасье, занятие Волконского. Порой ему доставляло небывалое удовольствие наблюдать за реакцией Саши, мол «не стоило мне доверять столь тонкую работу», а в иной раз ему хотелось рвать и метать, всё, что ни попадёт под руку, — дело в таком случае столь ужасно обстоит, что полыхающие чувства становятся преградой к отчётливым разъяснениям. «Саш, ну давай всех к чёрту сошлём! Саша, пойми же, они страну угробят! Саша, ты сын Петра Алексеевича или кто, в самом-то деле?» — горячился Волконский, активно жестикулируя и расхаживая нервно по кабинету. Некоторые важные особы доводили его до истинных нервных срывов, а выливалось всё в сторону одного-единственного человека, разумеется. Вовсе не ощущал Кирилл себя доносчиком иль фискалом, шпионом, вовсе нет, когда речь о великой державе идёт. «Куда твои глаза смотрят, Саша!» — излюбленная фраза, выкрикиваемая сгоряча. Одному лишь Саше посчастливилось наблюдать эмоциональные бури Волконского. Иные знали его, как человека каменного, внутри и снаружи. Бывало, случалось действо совершенно противоположное. Кирилл мог нервно хохотать и клясть то ли Сашу, то ли судьбу за столь великий подарок как должность ординарца со всеми льстящими вытекающими и преимуществами. Заходил он неторопливо в кабинет, вовсе не врывался и не начинал руками размахивать. Усаживался в кресле, закидывал ногу на ногу и медленно снимал треуголку, опуская на какой-то деревянный столик поблизости. Ежели под руку попадался бокал вина иль гроздь винограда, — не постесняется отпить, закинуть ягоду в рот и сообщить, что служба его окончена. Разумеется, далее следовал доклад и снова, снова Кирилл Андреевич взвинчивался, дивясь человеческой подлости, хитрости, изворотливости, жадности. Одно уяснил точно: Саше не справится без верных помощников, которые заставят каждого пред ним склонить голову и признать императором.
А сегодня всё обстоит иначе. Кирилл то ли уставший, то ли пораженный очередному человеку, которому Александр Петрович на самом-то деле не указ, сохраняет привычную серьёзность лица и чуть равновесие не теряет, когда оказывается в крепких объятьях. Смущает лишь нахождение Его высокопревосходительства в кабинете, от которого веет осуждением и недовольством. Ей-богу, почувствуешь себя мальчишкой школьных лет, который шкодит прямиком на глазах у взрослых. Находится подле Саши он привык, только не подле всех этих вельмож, титулы которых едва выговоришь иль вовсе, язык сломаешь.
— Капуста для гвардии... это и впрямь подозрительно, — не выдерживает Волконский, выгибая бровь и прослеживая взглядом за папкой с бумагами, переходящей из рук в руки. — Нет-нет, Саша, ты всё же взгляни позже на капусту. Думается мне, нечисто здесь что-то, — бросает говорящий взгляд в сторону Апраксина, переставая робеть да мяться, точно мальчик. Не мальчик, а чёртов ординарец Его Величества, имеет право вставить слово. Ежели слово, не лишнее. Более того, чувствует явное презрение к своей особе, явное неодобрение и желание не наблюдать во дворце. Разумеется, отныне многие не желают наблюдать поблизости Волконского. Ловит взгляд в ответ будто, взгляд, которому должно победить, ведь слишком уж низок Кирилл званием и должен подчиняться. Приказ является приказом, даже безмолвный. Ему задерживаться и не хочется, разве что голос Саши останавливает и заставляет повернуться обратно.
— Да, Ваше Величество, — нарочито произносит, намекая на то, что отныне будет слушать исключительно высшее лицо, исключительно Императора. Уставляется своим равнодушным взглядом на канцлера, постепенно начиная чувствовать неприязнь в ответ. Знал бы только, сколь опасное и шаткое положение для себя создаёт. Знал бы только, и, пожалуй, не пожалел бы. Никогда. Пусть недолго, но был подле Саши и был его верным слугой, который готов сделать всё, что угодно. Разговор приобретает любопытные, однако же недобрые оттенки. Даже Кирилл понимает неуместность данной темы, когда Саша одержим идеей сделать предложение и непременно сделает. Не отступится после их славных приключений от Петербурга до Москвы. Стоило услышать про французов и от ожидания реакции чуть прищуривается, заведомо зная, что реакция будет дурной. Будто Кирилл всю жизнь провёл рядом с ним, а не Борис Фёдорович. Можно ли столь плохо знать своего воспитанника? Он резко взгляд отводит и отворачивается, дабы не наблюдать столь явно за тем, как Саша распекает второго человека в государстве. Не пристало простому подпоручику такое видеть и слышать. Двери закрываются, делается легче на душе.
— Ты как предложение делать будешь? Только смотри, я пьяный не поскачу ни к губернатору, ни к самому Господу Богу, — падает в ближайшее кресло, вытягивая ноги. — Не нравится мне это. Французы те ещё подлые люди. Не дай Бог война... хорошо-хорошо, молчу, — вскидывает руки, — сдаюсь. Девицы любят... как это нынче называется... романтика? Чтобы всё романтично было. Ты, братец, должен превзойти самого себя, — улыбнётся коварно.
***
— Этот тебе приглянулся? Новенький.
— Хорош, не правда ли. Я в мужчинах разбираюсь. Вижу, он одинок, явился без спутницы. Перед моим-то предложением не устоит. Я многое о нём узнала.
— Что же, душечка, удачной охоты.
Перед ним танцевальный зал, полный народу и музыки. Дворец изнутри сияет великолепием. Праздников подобных не только Кирилл не видал, а сами приближённые ко двору, важные персоны из состава самого высшего общества. Он совершенно не разбирается в делах дворцовых, как и в устройствах пышных приёмов да балов, а потому не интересуется, лишь принимает как должное. Вечер, помимо невиданных роскошеств, обещал случиться особенным. А потому хотелось присутствовать. По обыкновению стоит в стороне, наблюдает внимательно, иногда принимает дам, желающих на танец записаться. Поганить репутацию Саши — дурная затея, не по-дружески, а иначе быть не может, ежели каменной статуей стоять в тёмном углу. Не приведи Господь, поползут слухи о том, что император со странными личностями дружбу имеет. Отражать императорскую славу и безупречность, — задача сложная. Быть составляющей его репутации, да у всех на виду, — невыносимо, однако же чего ради дружбы не сделаешь. Посему он стоит, держа руки за спиной и наблюдает за плывущими по залу парами. Вечер впрямь неплох, если бы не ощущение чужого, пристального взгляда. Кирилл непременно чувствует, когда кто-то с м о т р и т; чувствует и едва ли терпит, когда же напряжение достигает высшей точки, терпеть прекращает. Ещё секунда и был готов обернуться в её сторону, да только она опережает и сложив ловким движением веер, направляется к нему.
— Сударыня, позвольте поинтересоваться, я кафтан почистить забыл иль сапоги? Знаете, в конюшнях часто бывать приходится, — первым начинает беседу, нисколько не стесняясь своей прямоты. Она лишь кокетливо улыбается, вновь раскрывая ветер и махая в свою сторону, словно бы заманивая. Исключительно хороша собой, краснощёкая с точеным профилем и стреляющими, пронизывающими глазами голубого оттенка. Платье золотистое облегает стройную фигуру, а невидимый корсет вырисовывает явно талию и подчёркивает деликатно декольте. На шее подвеска с кулоном серебряным, в волосах белые розы пахнут сладко, — не удивительна уверенность девицы в собственной красоте и способности приглянувшегося мужчину завоевать одним лишь взглядом.
— Что вы, ваш вид, подпоручик, — она делает особый акцент на звании, желая продемонстрировать осведомлённость, — не имеет недостатков, безупречный. Все ли танцы у вас расписаны? Боюсь, я поставила вас в неловкое положение и должна искупить свою вину.
— Не стоит, не утруждайтесь, — всеми силами он старается улыбаться, а не усмехаться. Женский пол медленно, но верно начинает досаждать. Остаётся лишь гадать, какую выходку выкинет эта красивая, но обиженная девица после. Она не отступает, подходя ближе и касаясь кончиком сложенного веера его плеча.
— Я настаиваю, — выговаривает томно, тем самым начиная всерьёз смущать. Кирилл сознаёт, что вынужден согласиться, иначе ещё больше взглядов устремится в их сторону. Ещё больше взглядов уцепятся за чёртов веер, спускающийся куда-то вниз по рукаву кафтана.
— Хорошо, танец ваш, — цедит сквозь зубы, продолжая выискивать взглядом спасение в зале. Как никогда вовремя замечает Елизавету Петровну и срывается с места, забыв о всяком приличии. Девица усмехается ему вслед победоносно, однако же устремляет взгляд, полный неприязни и презрения в сторону цесаревны. Разумеется, при дворе многие молодые и хорошенькие барышни завидуют, ревнуют, негодуют, — кавалеров уводят из-под носа и постоянно одна и та же особа, которая на то имеет полное право.
— Цесаревна, — склоняет перед ней голову. Проще было смириться с тем, что невозможно отказаться от знакомства с обществом, где находятся его д р у з ь я. Кирилл бы многое отдал за то, чтобы не быть его частью, однако, ещё больше готов отдать за то, чтобы оставаться подле друзей. Следовательно, пожертвовать отцовским наследием, — тот считал, что не должен крутиться в высших кругах, иначе недалеко до осквернения верной службы. Улавливает в её словах «наш» и едва удерживается от широкой улыбки. И впрямь, он стал их другом. — Князь, — снова поклон, — большая честь быть представленным вам.
Кирилл провожает хохочущих девиц не без улыбки на лице.
— Неужто? Многое проходит мимо меня, Ваше сиятельство, — а особенно тот факт, что многие о нём наслышаны. Можно ли такое вообразить? Слишком много чести. — Вы правы, я не представляю, — качнёт головой, подлавливая себя на слишком смелом тоне и откровенности. В светских беседах всё одно что медведь, неуклюжий больно. — Знаете, князь, я не испытываю желания друзей заводить при дворе, — признаётся, послушно отходя к столу с шампанским. — Зачем оно? На войне и впрямь проще, сразу видно, где свои, а где враги. Но бывают исключения, — улыбается, опустив голову. Появление столь приятного человека в обществе оказывается приятным подарком судьбы, словно осталась тлеющая надежда на что-то хорошее, на хороших людей. — Когда я познакомился с Александром Петровичем, ни о чём таком не думал. Это произошло само по себе. А теперь... — бросает взгляд в залу, где дамы порхают разноцветными, прекрасными бабочками, а кавалеры точно норовят их словить. — А теперь отступить не могу. Никак. Я благодарен вам, за советы. Ежели будут ещё, найдите меня, я был бы рад.
Кирилл улыбается и оборачивается, постепенно перемещая внимание с персоны князя на появившегося Сашу. Впрочем, внимание всех присутствующих обратилось к нему. Кирилл гордится не тем, что находится в ближайших друзья, а самим другом своим, представшим в невиданном великолепии перед всем светом. Саша был рождён чтобы править и блистать, в чём сомнений не возникает. Елизавета Петровна привлекает внимания не меньше, то и дело заставляя на себя взглянуть. В этот вечер она совершенно особенная: лёгкая, светлая, сияющая, словно голубка, норовящая упорхнуть в бескрайние небеса. Он отчаянно пытается уследить за ней, постоянно наклоняется то в одну, то в другую сторону, потому что собравшиеся танцевать ширмой весь вид перекрывают. Он наблюдает зачарованно, забываясь о глупом обещании, данном лишь для того, чтобы сохранить какие-то остатки офицерской да дворянской чести.
— Вы же не думали, что я забуду о вас? — она предстаёт перед его глазами, и цесаревна в своём белоснежном наряде теряется где-то позади, где-то в толпе пышных юбок и вьющихся вокруг этих юбок, мужчин. Ему остаётся лишь поклониться как подобает кавалеру, протянуть руку и повести даму в центр зала, где вот-вот на нежнейшей ноте запоют альты. — Можете звать меня Еленой, сударь. Надеюсь, вам запомнится моё имя.
°°°
Кирилл замечает столкнувшихся вдруг Сашу и Бориса Фёдоровича и более того, сверкнувшую между ними молнию, не иначе. Рука невзначай опускается на эфес шпаги: жест порой обыденный, ведь так удобнее руку держать, а в иной раз, жест, вызванный тревогой и опасениями, невольный. Разумеется, вряд ли Сашу придётся защищать прямо здесь посреди бала и в окружении бравых гвардейцев на караулах; тогда отчего же тревога в душе? Отчего опасностью веет от личности Бориса Фёдоровича? Близкий человек императорской семье. Близкий. Кирилл сосредотачивает всё внимание на Саше, невольно хмурит брови, решая не выпускать его из виду до самого конца. Звучит его звонкий голос, заставляя настороженно прислушаться. Его положение позволяет проследить за направлением. Через всю залу под множество взглядов, под шёпот и самые разные эмоции на лицах, проходит он и останавливается перед той, кому его сердце всецело принадлежит. Уголки губ дрогнут то ли в улыбке, то ли в усмешке: не грех потешиться над некоторыми любителями планировать чужие судьбы. Длится целый танец, за которым Кирилл неподвижно наблюдает, — ему танцев хватило на вечер. Одна отдавила ногу, другая нарочно споткнулась и упала в его объятья, а третья выглядела больно загадочно и обольстительно, намекая на продолжение их недолгой связи. Определённо довольно. Он выжидает кульминации, нисколько не сомневаясь в её фееричности. Впервые, пожалуй, не жалеет о своём дурацком плане, о том, что Елизавета Петровна принимала участие в столь опасном предприятии. Оно того стоило, стоило счастья в глазах влюблённых. Сердце замирает, когда один лишь император остаётся стоять на колене что значит лишь одно, одно. Это случится сейчас. Кирилл улыбается во всю ширь лица, желая разве что аплодировать, только другие не поддержат. Он один из немногих, кто действительно счастлив и улыбается искренне. А после взгляд совершенно невольно уплывает в сторону и находит её, до сих пор в белом, до сих пор прекрасную, неземную. Такой она будет всегда. Будет звездой, на которую хочется любоваться вечно.
***
Кирилл идёт рядом с ней, — получилось ненароком, или попросту потому, что цесаревна притягивает к себе неведомой силой. Воздух после летнего дня посвежел. Опустилась приятная прохлада. Даже общество богатых отпрысков, которые ему не по душе, не кажется столь дурным. Ему доставляет удовольствие прогулка хотя бы потому, что рядом о н а, а причина тому неизвестна. Быть может, приятно проводить время с другом, коим является цесаревна. После нескольких бокалов пряного вина внутри потеплело, мир чуть покачивается как на морских волнах, лёгкость на душе, радость в сердце. Кирилл заводит руки за спину и лишь изредка сталкивается плечом к плечу Елизаветы, отчего-то не желая отходить на большее расстояние.
— Вы же знаете, Елизавета Петровна, я тот, кто рад больше всех остальных, — смело заявляет, и не без оснований. — Предпочту не делиться подробностями, — особенно перед едва знакомыми особами. Знать о приключениях им не следует. Только Елизавета могла понять радость его, так как самолично принимала участие в похищении Натальи Алексеевны. Пусть слухи и разбегаются тараканами, никто истинной, полной правды не ведает.
Один из Голицыных падает перед цесаревной на колени, на что Кирилл мимолётно усмехается. Право слово, настоящие дети. Мальчишки. Имён братьев он не запомнил, разве что фамилию. Голицыны. Судьба играет в игры и зловеще молчит.
— Елизавета Петровна, это же правда. Я этой игры не знаю, но те, кто знают, определённо молодцы, — улыбается Кирилл, не противясь, впрочем, тому, чтобы она заняла его сторону. Ревность да зависть детей его едва ли заботит. Правила впрямь оказываются простыми, и он зачем-то соглашается сыграть. Ради неё, быть может.
Слушать и прислушиваться Кирилл учился с детства. То батюшка возьмёт на рыбалку да на охоту, заставляя прислушиваться к каждому шороху и звуку леса, то матушка возьмётся за музыкальные инструменты и заставит угадывать ноты. Знали бы они, чем это обернётся. Кирилл прислушивается особенно настороженно, вдруг не желая проигрывать д е т я м. Он обязан выиграть и обязан отыскать Елизавету Петровну. В лабиринте потеряться слишком просто. Потеряешься сразу же, стоит только ступить на тропинку. Однако, переливчатый звон не обманет, ведёт за собой. Он идёт лишь на звук, лишь прислушиваясь острым, чутким слухом, пытаясь заодно распутывать запутанные дорожки зелёного лабиринта. Звон стихает. Кирилл останавливается, снова прислушивается, выжидая, когда колокольчики снова зазвенят и тогда наверняка получится выйти на верный след. В темноте сияет белое платье и кажется, словно от него исходит сияние звёздное. Шаг вперёд. Останавливается и присматривается. Она одна была в белом. Она одна выглядит великолепно. Лишь её фигура столь стройная, изящная и тонкая, словно какой-нибудь небесный мастер бился над скульптурой веками, добиваясь её безупречных, плавных форм. Шаг второй, третий. Победа словно не в игре, а в чём-то более значительном. Он подходит совсем близко, не слыша ничего, кроме её голоса, завладевающего им целиком.
— Что же это за приз такой? — тихим голосом, глядя ей в глаза, отражающие искры, рассыпающиеся высоко в небе. — Ну хорошо, закрываю, — и он закрывает глаза послушно, не представляя, чего ожидать. — Неужто вы сомневаетесь в моей честности?
Кирилл помыслить не мог, что во дворе то и дело целуются. Невинные поцелуи, — обыденно, когда для некоторых поцелуи — нечто особенное, сокровенное и долгожданное. Впрочем, он не относится к тем, кто ждёт свой особенный поцелуй со своей избранницей. Он чувствует лёгкое прикосновение к губам, заставляющее сердце встрепенуться. Секунда порой и вечностью может стать. Отчего же хочется продлить секунду на вечность? Хочется протянуть руку и удержать её. Хочется почувствовать её губы на своих, да только не касанием невесомым, мимолётным. Хочется, хочется. Хочется того, что никогда себе не позволит. Она легко отпархивает, легко пролетает мимо, оставляя лишь сладостный, манящий, сводящий с ума, шлейф аромата. А он стоит не двигаясь, не слыша не разрывов в небесах, ни звенящего голоса позади.
Просто игра. Просто игра. Игра, — набатом. Кирилл зарекается не играть в игры более.
***
Молчание длится долго. Он готов заявить о том, что помолчать каждый мог в своей кровати и заодно поспать лишний часок. Сонный Кирилл не сразу улавливает витающее в воздухе, дурное и мрачное настроение. Смахивает какую-то невидимую пыль с кафтана на плече, несколько примятого. Слишком торопился после сообщения посыльного о том, что «Его Величество требуют вас немедля». Волосы безбожно взлохмачены, шейный платок вовсе оставлен где-то на подушке. Словом, вид неряшливый, как положено человеку, которого подняли рано и даже не предложили чашки настоящего кофею. Он только собирается открыть рот и сообщить о своём присутствии, как Саша заговаривает. Лучше бы молчал. Кирилл не смекает сразу о ком речь. Сбежать мог кто угодно, да только недоброе чувство зашевелится внутри. Саша уточняет, тем самым точно ударяя. Бодрит скорее любого кофе. Тень мрачная и глубокая ложится на лицо, а брови густые хмурятся. Один удар за другим. Сбежала. Поедет. Вернёт. Мир кружится перед глазами, качает как на палубе в шторм. Чуть замутнённый взгляд поднимает на Сашу и понимает сколь серьёзно дело. В иной раз и пошутил бы, и выслушал бы пререкания, пусть пререкаться нисколько не хочется. Тяжело под его взглядом, да только дружба в том и заключается, чтобы рядом быть в любое время, даже самое мрачное. Неприятно, разумеется. Он до сих пор не разобрался со своими чувствами, пребывающими в беспорядке, после и г р ы. Заспорить, разумеется, по обыкновению хочется. Останавливает только взгляд напротив. Следит за Сашей внимательным взглядом. Выслушивает невозмутимо, и впервые незаметно вздрагивает, когда кулак опускается на стол. Знает, что гнев обращён вовсе не к его персоне. Кто-то другой провинился. Не хочется думать, что винит себя в побеге. Быть может, винит. Что подтверждается спустя несколько минут тишины. Кирилл тяжело вздыхает и глаза к потолку поднимает. Виноват здесь лишь один человек, никак не имеющий отношения к царской фамилии. Иван чёртов Дмитриевич. Лишь мужчина может брать на себя ответственность за побег, подстрекать, клясться в любви и одаривать Бог знает какими обещаниями. Однако, Кирилл продолжает упорно молчать, не желая своими умозаключениями подкидывать сухих дров в огонь. Делает шаг вперёд, забирая письмо.
— Подлец, — тихий голос хрипит с утра. Волконский дурак, был убеждён в том, что между ними любовь; любовь, какой суждено длиться вечно и какую нельзя губить. Похоже, он в любви не разбирается. После письма Кирилл в ещё большем впечатлении, застывает, уставившись на Сашу. Пламя внутри лишь распаляется. Медленно. Он молча выслушивает Сашу до конца, не в состоянии ни перебить, ни возразить.
— Я понимаю, — а голос продолжает предательски хрипеть, точно простудился. Откашливается в кулак, не торопясь продолжать. — Я понимаю, о чём ты. Только как бы ему голову ненароком не прострелить, а? Оставить бы пистоль здесь, у тебя, — об этом взаправду задумывается, даже не пытаясь шутить. Не шутит. Не издевается. Выражение непроницаемо-серьёзное. Застрелит ведь. — Будет тебе, ежели такова плата за её будущее, пусть ненавидит обоих до конца жизни, — погружается в какую-то задумчивость, глубокую и вязкую, глядя в одну точку. — Не волнуйся, никто не узнает, не увидит. Я всё сделаю тихо, — и недолго думая, разворачивается в сторону дверей.
Кирилл смотрит на ещё мальчишек таким же тяжёлым взглядом, каким Саша смотрел на него. Вовсе не потому, что выместить злобу иль недовольство хочется. Теперь он владеет сведениями, которые тяжёлой ношей взваливаются на плечи. С б е ж а л а. Точно обухом по голове. А ежели хорошим человеком оказался Кречетов, смог бы радоваться? Смог бы отказаться от погони? Обмануть Елизавету Петровну, самого чистого, самого доброго человека, всё одно что совершить смертный грех. Он набирает полные лёгкие прохладного, утреннего воздуха, жалея этих мальчишек, — ведь тоже оторвали от подушек раньше положенного. Они приближённые и уж точно болтать не станут, так как присягали да клялись. Командовать у него имеются все полномочия.
— Вы должны отправиться со мной. Лишних вопросов не задавать. На месте всё поймёте, — чеканит командирским тоном. Кудрявые мальчишки (снова её голос звенит в голове) готовы подчиниться, разве что крайний смотрит странно, вызывающе. Кирилл сыт по горло вызывающими взглядами. Второго Кречетова не переживёт. Или Кречетов не переживёт. Запомнить бы их имена. — Вы против? Можете остаться, — обращается к нему непосредственно.
— Что вы, как можно, — цедит тот.
— Да брось ты, Семён, — один из кудрявых бросает шёпотом и толкает локтем в бок.
— Это дело сугубо секретное, огласке не подлежит. Повторяю, ежели не устраивает что, мне в дороге ноющие дети не нужны.
Однако, мальчишки своей цесаревне преданы. Не оставят в беде.
***
Забрались впрямь глубоко, как положено тем, кто скрывается и сбегает. Дорога выдалась утомительной и длинной. Они не делали каких-либо остановок, что попросту недопустимо. Один Господь Бог знает, что на уме похитителя. Именно так мысленно начал Волконский именовать Кречетова. Кругом лес и болота. Стрекочут цикады и кузнечики в высоких, густых зарослях. Дивно щебечут птицы на ветках. Кирилл спешивается, осматривается сперва, а после замечает какое-то движение в окошке. Он более не друг. Он выполняет приказ. Пусть ненавидит, пусть. Он будет идти до конца пути, даже если на ходу доведётся вынуть шпагу или пистолет. Пусть.
— Ждите здесь, — очередной п р и к а з. Врываться всей компанией в домик не желает, дабы не смущать уж слишком цесаревну.
Внутри пахнет лесом, разнообразием трав, древесиной. Он точно врывается, не располагая дипломатическими приёмами, правилами каких-то приличий. Не до расшаркиваний, заниматься которыми вовсе не умеет. Говорил ведь, что не дипломат чёртов. Офицер, который видит пред собою лишь конечную цель и напролом прорывается. Поправляет треуголку и вытягивается во весь рост. Высоты потолка оказывается маловато, ещё немного и упрётся головой.
— Цесаревна, — смотрит на неё отстранённо-холодно, — у меня императорский приказ сопроводить вас во дворец. Я боюсь, это не обсуждается, — поднимает взгляд на Кречетова. Рука опускается на эфес шпаги. Только бы не сорваться. — Иван Дмитриевич, вы можете получить всё, чего хотели лишь при одном условии. Отпустите цесаревну. Не усугубляйте. Впрочем, не думайте, что у вас есть выбор.
Выбора не было. Кирилл готов драться до последней капли крови, лишь бы увезти Елизавету. В иной раз происходящее доставило бы удовольствие, только не сейчас. Он, как и Саша, начинает подпитывать ненависть к самому себе за ровный, стальной тон и холодный взгляд. Она этого не должна видеть, слышать. Она создана для любви и нежности. Не для этого. Кирилл сказал всё, что должен был. Не отзывается на её возмущение, смотрит на Кречетова и ожидает его ход. Никакого хода, впрочем, не следует. Должно быть, обдумывает новое положение. Письмо приходится отдать хотя бы потому, что Саша велел. Однако, не хотелось. Не хотелось, чтобы она читала его. Не хотелось разбивать её сердце. Сильнее сжимает эфес шпаги, впиваясь глазами в лицо напротив. Кречетов делает ход. Безуспешный. Бесполезный. Кречетов, впрочем, прав лишь в одном. Кирилл впервые столь ясно осознаёт: н р а в и т с я. Нравится, нравится, нравится. Отвлекает от столь яркого осознания её смех. Ненастоящий. Не тот, который слышал. Её смех особенный, способный человека сделать счастливым. Смех сейчас походит на плач разбитого сердца. И вот теперь она занимает его сторону. Только хорошего завершения в этой истории быть не может. Кирилл неохотно, но отдаёт письмо с печатью. Ничего более не имеет значения. Он сопроводит цесаревну ко дворцу и всё завершится. Завершится ли? Предвидя попытки Кречетова спастись с тонущего судна любыми способами, он успевает вырваться вперёд и прикрыть спиной Елизавету Петровну. Попытки долго не продлятся, впрочем. Волконский мигом бежит следом, наконец теряя контроль над собой и хватаясь за чёртов пистолет. Дуло направляет столь успешно, что хватило бы одного, всего лишь одного выстрела. В последнюю секунду рука опускается, когда звучит её голос. Он дрожит от злости, до белых костяшек сжимает рукоять, но повинуется. Никаких распоряжений от Саши не было получено по поводу дальнейшей судьбы Ивана Дмитриевича, а посему, пусть скачет к чертям. Пажи оживились тоже, готовые броситься в погоню. Кирилл качает головой, стоя подле цесаревны.
— Елизавета Петровна! — вырывается совершенно иным тоном, крайне встревоженным и словно бы, просящим прощение. Обхватывает её руками, опускаясь на землю вместе с ней. — Что с вами? — сердце начинает колотиться, а взгляд испуганно бегать по бледному лицу. Рука в перчатке дрожит, и он, забываясь, прикладывает ладонь к щеке. — Откройте глаза.... Елизавета... — наверное, в самый страшный час своей жизни Волконский всецело осознаёт, что неравнодушен. Неравнодушен к девушке, лишившейся чувств и оказавшейся в его руках. Неравнодушен к девушке, которая всегда будет далёкой звездой, дотянуться до которой смертный не может. Только никто этого не отнимет у смертного.
— Вам помочь? — раздаётся голос в стороне. Пажи, разумеется, напуганы не меньше.
— Я сам, — резко отзывается. — Двери придержите, дождёмся, когда она проснётся и сразу отправимся в путь.
***
Кирилл то и дело бросает взгляд за плечо, дабы убедиться в том, что она на берегу. Хрупкая, одинокая и наверняка замёрзшая. Потрескивают сухие ветки в костре. Пажи от усталости развалились на песке под поваленным деревом, и бессовестно задремали. В поход он бы никогда этих мальчишек не взял. Бросает раздражённо последнюю толстую ветку в огонь и поднимается с бревна. Злится на себя, да только по какой причине? Он бессилен был. Наталья Алексеевна права: беспомощность и бессилие, — самое страшное, когда дело касается их, Романовых. Чувствует нечто непроясненное между ними. Недоразумение. Да только понять не может, что именно терзает душу Елизаветы. Подбирается ближе осторожными шагами.
— Продрогнете, не побрезгуйте, — накидывает плащ на тоненькие плечи. Становится рядом, глядя на полоску горизонта. Он отмалчивается, не находя чем ответить. Однако, в душе не соглашается с ней. Разворачивается лицом к ней и всматривается пристально в её глаза, некогда сияющие. Теперь потускневшие. — Я не умею спорить из вежливости, цесаревна. Мне проще говорить прямо, — разве что душевные терзания порой наступают после прямых речей. — Не говорите так о себе, — качает головой, явно отрицая, всё ещё потерянный, не нашедший нужных слов в миг, когда они должны прозвучать. Ему теперь с новым осознанием свыкаться, в чувствах распутываться. Путается. Путается в лабиринтах души.
Кирилл не ответит, оставляя личное личным. В семейных разбирательствах он никакого участия принимать не должен и не желает. Останется в одиночестве на берегу, наблюдая за волнами, омывающими песок. Волны будто смыли вчерашний день, когда всё было х о р о ш о.
***
Последние тёплые дни провожают звонкий девичий смех, вихри жасмина и флердоранжа, — духи, привезённые из Франции, которая всё неодобрительнее глядела в сторону России. На полянах и дорожках садовых находиться нынче опасно: то ударит по голове увесистый, плотно набитый тряпичный мяч, которым столь ловко перекидываются девицы, то столкнёшься нос к носу с очередным гвардейцем, которому завязали чёрным платком глаза и заставили отлавливать разбегающихся барышень, точно курочек. Молоденькие, румяные и напудренные фрейлины прелестно находят себя в дворцовых садах, становясь истинным украшением, — ещё немного и скульптуры изящные не понадобятся. Кирилл особенно недолюбливает места скопления юных прелестниц, которые непременно уцепятся за рукав, повиснут на плече и начнут томно вздыхать, инсценировать обморок и обмахиваться веером на уровне декольте; когда ему предстоит пересечь сад по каким-либо делам, придуманным не иначе, Сашей, начинается истинное испытание огнём. А осень по обыкновению наступает незаметно: ещё вчера стояли обряженные в изумруд дубы, клёны, буки, липы; сегодня деревья точно одарены позолотой и выкрашены красными оттенками, от вишнёвого до винного. Осень — несколько тоскливая пора, однако, приходящаяся ему по душе. Разве что в эту осень он почувствовал себя как никогда одиноким и отчего-то, покинутым. Елизавета Петровна превратилась в редкое явление его жизни, точно в птицу, которая то и дело испуганно вспархивает, летит невесть куда. Он летать не умеет. Так и оказалась жизнь чередой одинаковых дней, а потом подул ветер, а потом хлынули из тяжёлых туч дожди. Кирилл возвращается во дворец, видя перед собой лишь одну дорогу и ничего более. Ветер тучи разогнал: случился исключительный, голубоглазый день, когда небеса чисты и солнце заливает тёплым светом парк. Осень приобретает особенный, сладковатый аромат, как запечённые яблоки и старая, запылившаяся книга.
— Кирилл Андреевич! — раздаётся чей-то голос, а перед ним возникает девичье лицо с опасно пылающими глазами. — Наконец-то я нашла вас, — шепчет некогда звонкий голос, цепкие пальцы ухватывают за ворот кафтана, а руки утягивают под раскидистый, склонивший ветви, дуб. Кирилл только от неожиданности поддаётся: поистине в парках да садах выходят девицы на охоту. Окутывает приторный, цветочный флёр. Нос щекочет. — Почему вы избегаете меня? Я вам не нравлюсь? Вы робеете? — захватывает ладонями его лицо и приподнимаясь на носочках, тянется к губам. Кирилл невольно уворачивается. Какой же вздор!
— Вы с ума сошли! — восклицает он негромко, опасливо оглядываясь по сторонам. — Что вы творите, Елена Степановна?!
— Ах вы совсем ещё неиспорченный этим светом, тем лучше. Посмотрите же на меня, — и снова она тянется к лицу. Он за руки сильно ухватывает, от лица отнимая.
— Да, вы мне не нравитесь, слышите? Не нравитесь. Моё сердце занято, я увлечён совершенно другой. Уясните же это наконец, и оставьте меня в покое, — прошепчет раздосадовано, впиваясь в глаза чужие. А глаза приобретают новый оттенок, делаются внимательными, гаснет в них безумие и неконтролируемое желание. Елена Степановна руки свои вызволяет из крепкой хватки, однако прочь убегать не торопится.
— Нет, не оставлю. Кто же счастливица? Не оставлю, пока не ответите. Кому посчастливилось так? Она богата? Так я тоже. Красива? Неужто я выгляжу настолько дурно? — пытливо смотрит на него, делаясь стеной, сквозь которую точно не пройти. Кирилл выдыхает. Угодил в ловушку.
— Вы полагаете, мужчин увлекает лишь красота? А, для небогатых ещё и состояние, разумеется. В следующий раз, прежде чем вешаться на кого-то, потрудитесь узнать его лучше, — он собирается уйти прочь, но что-то не позволяет, неведомая сила удерживает под надёжными ветвями-лапами дубовыми. Молчит несколько секунд, прежде чем волю сердцу дать. — Она умна, открыта, ослепительна, красива душой, и нет красивее девушки внешне. Она само совершенство. Лучшая из тех, кого мне доводилось встречать.
— И недоступна? Иначе вы давно бы покорили её сердце, — усмехается Елена Степановна.
— Нет. Не покорил бы. Она достойна лучшего, на меня не посмотрит. Вы правы в одном, она недоступна для меня. И однажды... — опускает взгляд; признавать и произносить оказывается непросто. — Однажды она выйдет замуж.
— Когда же замужество было помехой? — усмешка на её лице становится шире и горче. Кирилл постоит не двигаясь, забывшись в раздумьях, а потом молча склонит голову и пойдёт прочь. Елена Степановна быть может, и догадается.
Это ж надо было такого наплести, Кирилл Андреич. Кирилл точно несётся прочь, а сердце бьётся бешено, тесно ему в грудной клетке. Ветер завывает в ушах. Шум в голове, а сквозь пробиваются собственные слова. Как такое называется? Неравнодушие? Увлечение? Ослепление женской красотой? Красота поистине коварна. Судорожно перебирает всевозможные названия в сознании, не находя правильного. Растреплет Елена Степановна всему свету, и пусть; ежели понадобится, Кирилл самолично объявит всему свету о том, что неравнодушен к олицетворению совершенства. Удивится ли кто? Нет, нет, трепаться нельзя, нельзя. Никто не должен знать! Никто! — вопит здравый и трезвый ум, норовя унять взбесившееся, опьянённое сердце.
Кирилл Андреевич! — снова раздаётся голос женский позади. Кирилл порывисто оборачивается, одаривая Варвару Григорьевну самым мрачным, тяжёлым взглядом.
— Варвара Григорьевна, у меня нет времени на прогулки, — произносит отчётливо-строго, забывая, что рядом дама, а не какой-нибудь Федька из казарм иль младший по званию. Ещё одна, — проносится в голове, когда чужие руки отводят в сторону. Добраться до императорского кабинета сегодня едва ли получится. Не судьба, как говорится. Одна девица, вторая, а теперь письмо, которое не торопится принимать, смотрит точно баран на ворота.
— Да что же это... благодарю, Варвара Григорьевна, — осторожно забирает письмо, видимо, нашедшее своего адресата. Достаточно услышанных слов, чтобы понять кто а в т о р. Автор, исчезнувший из их жизней. Саша тосковал не меньше, однако, письмо в его, Кирилла, руках. Боязно читать. Глупенькая девочка. Поклонившись, он разворачивается в противоположную от дворца сторону, собираясь в одиночестве и тишина прочесть письмо.
***
Сердце дурное снова и снова колотится. Удары гулкие стоят в ушах. Он сначала бежал, распугивая стайки фрейлин, а после хватал за грудки невесть кого, лишь бы добыть лодку немедленно; научился грести вёслами с такой скоростью, что с лёгкостью обойдёт какой-нибудь фрегат в море. От хлынувших чувств задыхается, как и от нескончаемого бега. Кажется, будет вечно бежать к ней, и никогда не почувствует усталости, не споткнётся. В голове сидит только одно: переубедить. Переубедить. Сообщить о её неправоте. Не права, нисколько. Она о ш и б а е т с я. Причаливает к берегу и чуть не спотыкается о невысокий борт деревянной лодочки, торопясь выйти на сушу. Придерживает одной рукой треуголку, норовящую от бега и встречного ветра улететь куда подальше с головы. Дышит тяжело, останавливаясь в паре метров от неё. На сей раз он забывает обо всём. Забывает о правилах приличия, о правилах поведения с особой царской крови. На этом острове будто ничего такого не существует. Только они, самые обычные люди, оплетённые жестоким недоразумением. Он ничего не замечает, даже Карая, с которым подружился. Не замечает попыток отвести взгляд, вовсе сбежать. Хватает за руку, удерживая от побега и возвращая к себе.
— Да как же это! Елизавета Петровна! Не уходите! — задыхается от потопивших чувств, от бега, от близости. Голос разгорячённый, громкий, совсем ему не свойственный. — Как я могу думать о вас плохо? Когда я узнал о вашем отъезде, единственный, о ком плохо думал, так это о похитителе вашем! Вы... — невольно делает шаг вперёд, становясь ещё ближе, от пылкости снимает чёртову треуголку и отбрасывает куда-то в сторону, — вы умеете любить, Елизавета Петровна. Не ваша вина, что любовью вашей этот подлец воспользовался. Вы... — глаза изучают её лицо, наполняясь нежностью и теплотой, — безупречны, Елизавета Петровна, — так странно, ведь совсем недавно произносил эти слова перед другой женщиной, уверенный в том, что никогда не произнесёт их перед н е й. — Я смотрю на вас и вижу самую прекрасную девушку на свете. Самую светлую, ослепительную, и совершенную. Помните, вы спрашивали, какие девушки мне по душе?
Несколько мгновений разглядывает её лицо. Лёгкий ветерок покачивает медные, вьющиеся прядки у висков. Он отпускает свою душу в свободный полёт. Он разморенный и влюблённый. Наконец-то влюблённый.
— Мне нравятся такие как вы, — голос делается проникновенным, более тихим. — Свободные и красивые душой, мечтающие о дальних плаваньях на кораблях, стреляющие из ружья получше любого охотника, сидящие в седле так уверенно. Вы совсем другая... вы... — их руки точно тянутся друг к другу; чувствует её пальцы на своей ладони, только смотрит в глаза изумрудные, теряя постепенно дар речи. — Моё сердце всё это время было свободным, потому что томилось в ожидании вас, — незаметно переходит на шёпот, а пальцы их рук переплетаются, — и вы привлекли его... А теперь, говорите, что не будет как прежде? — упирается легонько лбом в её лоб и опускает веки, замирая на несколько долгих, нежных мгновений. — Вам ли так говорить? Эти слова мне принадлежат, Елизавета Петровна. До звёзд дотянуться позволено не каждому. Мне бы хотелось время остановить, чтобы вас не терять. Мне бы вернуть всё назад. Однажды вы уедете, а я останусь, — он отстраняется, раскрывает ладонь, позволяя её пальцам выскользнуть. — Но я к этому готов, — мужественно улыбается. Трезвый ум укрощает сердце колотящиеся. — Я не ведаю, сколько времени осталось, а посему прошу вас, не избегайте меня.
Ещё немного и предложит свою дружбу, да только дружить и не хочется. А чего же хочется? Любви, в которой она разочаровалась? Нет, любви просить он не станет. Отступает назад, оборачивается: на противоположной стороне кто-то размахивает руками и зовёт что есть мочи. Вероятно, Саша отправил гвардейцев на поиски пропавшего Кирилла.
— Я должен вернуться.
И он откланяется, прежде чем уйти. Сердце ноет в дуэте с ветром.
Поделиться192024-05-20 20:53:09
Язык пламени касается ладони своим сильным теплом, ещё вот-вот и начнёт обжигать. Водит рукой над свечой завороженно. Качается весь мир на волнах. Методически опрокидывает рюмку водки запрокидывая голову, после чего утирает нос и тянется за солёным огурцом. Не запивает, не закусывает, мужественно выдерживая выжигающее пламя во рту, спускающиеся по горлу и оседающие где-то в груди. Подпирает рукой щёку, норовя вовсе растечься по деревяной столешнице. Трактир шумит, пыхтит, пухнет от разнообразных громких, пьяных голосов, окриков, пронзительных свистов. За одним столом мужики в валяных шапках и грязных рубахах, бородатые и насупленные, точно медведи, вылезшие из леса, глядят с подозрением на каждого; за другим столом компания бравых гвардейцев из артиллерии, за кружками пива и рюмками водки поносят на чём свет стоит старших по званию. Трактир — излюбленное место, где язык распустить дозволено, только бы не притаился за стеной шпик из канцелярии. Кирилл, после своего горячего порыва, испытывал лишь одно желание — напиться. Желание сие исполняет всецело, наплевав на поручение Саши и надобность явиться во дворец. Ему предстоит нечто поважнее, а именно свыкнуться с непривычным, новым чувством. Уверенный в том, что до любви ещё добрая половина жизни, Кирилл Андреевич получает небывалое потрясение. Сердце его ноет от несчастной, как выясняется, любви. Разве бывает так, что один разочаровывается, другой же постигает всю её испепеляющую прелесть? До чего же невовремя он в л ю б и л с я. До чего же неправильно. Не должен влюбляться в особу царской крови. Не должен. За ней скоро явится принц и увезёт в своё королевство. А он, Волконский, останется с разбитым сердцем. Рука тянется за графином с водкой, а позади гвардейцы расшумелись пуще прежнего. Кирилл своим острым слухом, сквозь дымку и затуманенное сознание, улавливает знакомое имя. Не иначе как чудится. Руку от графина отнимает. Хватит пить. Оборачивается неспешно на деревяной скамье, перекидывая через неё ноги, дабы удобнее было наблюдать за весёлой, пьяной компанией. Смаргивает пелену с глаз, мотает головой, пытаясь протрезветь хотя бы немного.
— А что цесаревна-то наша? Вся в братца, хороша! — поднимается со скамьи гвардеец, держа в руке бокал вина расплёскивающегося. Не иначе как зачинщик: остальные кивают головами, слушают внимательно, соглашаются. — Потаскушка! Меняет мужиков как свои перчатки! Побежит с любым красавцем в постель! Да, господа, я знаю о чём говорю! — пылко произносит свою речь, размахивая свободной рукой.
Будучи трезвым, Кирилл услышал бы голос обиженного, отвергнутого мужчины, что, впрочем, не послужило бы оправданием. Мало ли сражённых её красотой и получивших отказ будь то в танце иль в прогулке? Мало ли тех, кто возжелает мести? По крайней мере, его товарищи поддерживают, такие же отвергнутые. Походят на обиженных, сплетничающих баб, да только сплетни вовсе не безобидные. Кирилл сперва не верит собственным ушам, а когда реальность происходящего доходит до сознания, поднимается со скамьи. Его покачивает из стороны в сторону теперь от вскипающего гнева, а не от нескольких рюмок водки, которые умещались до середины графина. Задета честь его возлюбленной (до чего же дико и страшно сие з в у ч и т), задета честь его самого, и в стороне оставаться он не смог бы хоть пьяный, хоть трезвый.
— Немедленно извинись, урод! — выкрикивает громко и грозно, собственным голосом подавляя гвалт. Крепко сжимает кулаки. — Я долго ждать не буду. Извиняйся! — знать бы ещё перед кем извиняться, и разумеется, никакой гвардеец перед гвардейцем извиняться не станет. Он пьяно ухмыляется, сперва принимая выпад Кирилла за шутку. Русские офицеры грубят и драться лезут разве что от любви да уважения. Только Кирилл прожигает злобным взглядом, готовый убить. Благо не додумывается искать свой пистолет, коим наделен каждый кавалерист на свою бедную голову. Стреляться в кого угодно они завсегда готовы.
— Поглядите, господа! — взмахивает рукой в сторону Волконского. — Ещё один! Иди расскажи, чем она тебя обидела. Мы слушатели благодарные, авось и замену подыщем, — подмигивает, да так противно и тошно на душе становится. Кирилл слово держит. Долго ждать не станет. Спешно обходит стол и оказываясь рядом, заносит кулак да ударяет по ухмыляющейся роже так, что гвардеец отлетает и валится на пол со своим товарищем. Хорошей драки и самому Волконскому хотелось, дабы выбить из головы всю дурь, определиться со своими ч у в с т в а м и. И вот трактир снова пыхтит, шумит, раздувается от звона посуды, перевёрнутых столов, битого стекла, диких воплей, криков и женских визгов. Русские ежели дерутся, то от широкой русской души. Под утра едва ли что останется целым. Кирилл то бутылкой по голове бьёт, то рассол в лицо выплёскивает, то размахивает табуретом. Главное правило: кулаки и любые предметы, только не шпаги. Гвардейцы-дворяне марать святое оружие не станут. Вскоре никто и не разберёт, кого и за какие заслуги бьёт: бьются все. Кирилл, несомненно, знал до самого конца, что бьётся за Елизавету Петровну.
Голова раскалывается как глиняный горшок, разбившийся о его затылок. Боль разливается снова. Затылок его страдает с завидным постоянством. На лице выступают царапины и ссадины, губа традиционно разбита, бровь пересечена, лиловое пятно растекается под глазом. Он лежит на влажном полу. Воняет водкой. Кто-то лежит на скамейке, другой распластался на столе, третий стонет под стенкой, запивая боль винищем. Трактир кружится и плывёт в жёлтом освещении. В глазах темнеет. Отдалённо слышит чьи-то торопливые шаги. Гвардейцы ворвались внутрь, чуть дверь не выбивая. «Где здесь Волконский? Кирилл Андреевич!», — раздаётся чей-то властный тон. Перепуганный трактирщик указывает на пол, где и валятся собственной персоной, Волконский. Они подбегают, смотрят несколько озадачено на него, а после переглядываются.
— И что нам делать? Император велел доставить во дворец.
— Что-что? Дурак что ли? Приказ выполнять! Снесут нам головы к чёрту, ежели не притащим его. Давай, помогай.
***
Кирилл не сразу обратил своё рассеянное внимание на дворцовые коридоры, величественные колоны, огромные картины и золотые вазы, отражающие богатые китайские сады; юродивые гвардейцы по приказу (вот что значит, выполнять строго приказ) потащили его туда, куда вовсе не следовало. Более рассудительные оставили бы в комнатке на втором этаже трактира, потребовали щи и рассолу, да несколько часов сна, прежде чем сие чудо явить самому императору. Сперва Александру Петровичу доложили о том, что замечен Волконский в трактире, а после получили распоряжение его доставить во дворец, в любом виде. Дело не терпело отлагательств. Как невовремя Волконский влюбился, когда держава близится к пропасти. Сообразив, где находится, Кирилл начал сопротивляться что есть мочи, требуя его отпустить. А после как в тумане, явился Саша, осмотрел горе-ординарца своего внимательным взглядом и подумав, велел отвести в гостевые покои. В избитом и хмельном состоянии едва ли государственных дел нарешаешь. Приволокли в покои, едва управившись с буйством Кирилла Андреевича, который всё бормотал что кто-то (особа женского пола) видеть его не должна. Ему бы проспаться где-нибудь на скамье в парке, а не на мягких подушках в дворцовой опочивальне. Кирилл свалился на край кровати, впадая в недолгий, вскоре потревоженный, сон.
Быть может, она явилась по собственной воле, а быть может, Саша попросил (приказал как умеет); он не слышит ни скрипнувших дверей, ни лёгких шагов приближающихся. Ёрзает щекой по подушке, умудрившись улечься наоборот, ногами к изголовью. Когда шуршит золотистое одеяло и парит облачками воздушными сладкий, знакомый сердцу аромат, он открывает глаза и губы невольно тянутся в блаженной улыбке. Перебравший с водкой Кирилл порою совершает любопытные движения. Ум в своей нетрезвости спит спокойным сном, а сердце веселится. Взглянув на неё снизу вверх, приподнимается и с лёгкостью перемещает голову на её колени, лишая всякой возможности подняться с этой кровати. Смотрит на неё блаженно, словно не наяву, а во сне видит.
— Видите, Елизавета Петровна, я вовсе не тот, за кого вы меня принимали, — бормочет, балансируя меж сном и пробуждением. — Я не такой уж идеальный, как вы думаете, — проговаривает совсем тихо и улыбается безмятежно, словно в данном откровении есть что-то хорошее. — Сперва я напился, а после учинил драку в трактире. Хорошие люди так не поступают, — поводит указательным пальцем перед её лицом, будто отругивает кого-то за нехороший поступок. — И убытков-то сколько... я самолично три бутылки о чужие головы разбил, — поморщится от боли в затылке, напоминающей о том, что и сам по голове не единожды получил. До чего безобразно водка развязывает язык. — А зачем не скажу... — будто она собиралась осведомляться, по каким причинам драка была учинена, — просто я хулиган, — снова губы тянутся в улыбке. Он поднимает руку и касается осторожно, невесомо спадающих медных прядей, подпрыгивающих пружинками. Отчего только так хотелось до них дотронуться? Сон впрямь прекрасный, длиться бы ему вечно.
— Не уезжайте, Елизавета Петровна, я не смогу без вас, — шепчет, закрывая глаза. После непременно будет стыдно, ежели всё вспомнится. Заскрипит где-то дверь и перед ними появляется горничная с подносом в руках. В его глазах, впрочем, горничная расплывается точно отражение в речной глади.
— Как и просили, Ваше высочество, здесь берёзовая вода и травяные микстуры, — она оставляет поднос на круглом деревянном столике и откланивается, вновь оставляя их наедине. Кирилл отчего-то не понимает, откуда взялась в его чудном сне горничная в белоснежном переднике; откуда столь резкий травяной запах и столь ощутимая нежность чужих рук. Отрывает голову от чужих колен с ужасающим осознанием: никакой не сон, а истинная явь. Себя в зеркале он до сих пор не видал, а посему до конца вообразить, насколько дурно выглядит, не может. Выглядит наверняка побитым.
— Елизавета Петровна! Я был уверен, что сплю, — честно признаётся, окидывая взглядом незнакомую комнату. — Пожалуй мне надо... мне в полк надо, — ничего гениальнее его раскалывающаяся голова, начавшая трезветь постепенно, не могла выдумать. Только он делает попытку подняться с кровати и словно невидимым ударом отбрасывает обратно. — Нет, нельзя в полк. А что это вы делать собрались? — кивает на поднос, осматривая с подозрением различные баночки с бальзамами и прочими лечебными средствами. Наверняка Саша сдал, расписав во всей словесной красе побитое лицо Кирилла.
Он мужественно терпит, пока Елизавета Петровна что-то делает с его лицом. Ему, впрочем, красивое лицо едва ли понадобится теперь. Другие барышни даром ему не нужны. Однако же, наслаждается близостью их лиц и глазами зелёными, в которых отражаются янтарные отсветы. Не напрасно подрался. Вот и всё, что ему позволено: наблюдать бездействуя, пусть она рядом, пусть она далеко. За звёздами ведь наблюдают. Только дети малые мечтают до них дотянуться, сорвать с небес. Глупые. Кирилла снова размаривает, окутывает тепло, и губы улыбаются сами собой. Падает вскоре на подушки, теряя силы окончательно, на сей раз головой к изголовью, как положено.
— O wisse, süsse Liebe, immer sing' ich. Von Dir allein, Du meines Liedes Leben... — бормочет, растягивая слова, в подушку, и забывается сном.
О, знай любовь моя, я всегда пою о тебе одной. Ты живёшь в моей песне.
***
Внутренний двор залит холодным солнечным светом. Более его ласковые лучи не согревают. Пожухлые листья ветер срывает с деревьев. В осеннем воздухе витают невидимые предвестники зимы. Раздаётся барабанная дробь под аккомпанемент конного ржания из конюшни. Сафонов стоит вытянутой струной, задрав подбородок и осознавая сколь значимая миссия на него возложена. Бить в барабаны под сам императорский указ. Полк полным составом собрался и построился во дворе. Было приказано явиться при полном параде, чистыми, умытыми и побритыми. Федька маячит за спиной Дмитрия Яковлевича, сгорая от любопытства. Отчего же столько шума с раннего утра? Кирилл простоял, бы не шевелясь в строю хоть целые сутки, — столь сильно он тоскует по прежней жизни.
— Волконский! — раздаётся громкий голос генерал-адъютанта. Он отзывается. — Выйти из строя!
Сослуживцы бросают на него то вопросительные, то опасливые взгляды, а Волконский только счастлив принять участие в эдаком. Бог знает что ему уготовано. Делает шаг вперёд с выражением лица невозмутимым, однако оттеняющим каким-то довольством и радостью.
— Кру-у-г-о-м! Ать-два! Сми-и-рн-о!
Кирилл гордо и радостно подбородок вскидывает. Никаких мероприятий не предвещалось накануне. Посему гвардейцы встревожились, один только Волконский готов строиться под командный тон и получать какое-то неописуемое удовольствие. Его нисколько не беспокоит, по какой причине выводят из строя, по какой причине названа лишь одна фамилия. Пусть. На его лице побледнели синяки, словно и не случалось драки в трактире. Разве что сердце порой болезненно сжимается. Переболит, возможно. Ему и нравится стоять здесь в ожидании неизвестно чего: авось жизнь переменится столь круто, что позабудет обо всём. Позабудет глаза, руки, голос и аромат пьянящий.
— Указом Его Императорского Величества, самодержца российского, Александра Петровича, за личную доблесть, выявленную на службе государству российскому, — сделает секундную паузу глядя на Волконского, который едва заметно дрожать начинает, — Волконского Кирилла Андреевича повысить в звании! — заключает торжественно и особо громко, а в глазах засияет гордость почти отцовская. Не единожды Дмитрий Яковлевич говаривал мол Волконский всё одно что сын родной. Следует ещё одна пауза. Кирилл смотрит в одну точку замерев. Дмитрий Яковлевич брови вскидывает, кашлянет в кулак, обращая на себя внимание.
— Служу отечеству! — чеканит по-армейски и следом звучит торжественная барабанная дробь.
— Что же, стало быть, поручиком будешь, — по окончанию официальной части награждения Дмитрий Яковлевич подходит к нему и хлопает по плечу.
— Ей-богу, Дмитрий Яковлевич, я не...
— Знаю, не напрашивался. Мне ли не знать? Давно пора повышать тебя, посему я согласен с государевой волей. Перечить не вздумай.
Кирилл более ничего сказать не успеет, вынужденный подчиниться. Всё одно поручиком быть недостаточно. А тем, кому надобно, ему никогда не стать.
***
Он сидел за своим письменным столом, перебирая запылившиеся конверты. Поверхность стола неизменно пребывает в чистоте и порядке: невысокая стопка чистой бумаги, чернильница, несколько выструганных перьев и книга, какую в данный период читает. Томик Шекспира покоится на столе постоянно, никто касаться к нему не смеет. Томик особенный, чудом отысканный Кириллом где-то в Петербурге и привезённый ему в подарок. Кабинет небольшой, тесный, полный греющих сердце воспоминаний. На стенах небольшого размера картины, какие Кирилл с детства любил разглядывать; любимой непременно оставалась картина, изображающая жёлтый песок и бесконечное, уходящие вдаль голубое море. Здесь же шкафы набиты книгами, какие читал сыну, а после заставал сына читающим самостоятельно. Бывало, Кирюша взбирался на стол, ещё не понимая разницы между, собственно, столом и стулом; бывало, усаживался на полу и разглядывал ещё непонятные строчки, издеваясь над книгами безбожно. Порванные страницы они с батюшкой вместе заклеивали. А позже, подрастая, он осторожно просовывал голову сквозь щель и спрашивал разрешения, можно ли что почитать. Андрей Григорьевич охотно книгами делился. Ни одной не осталось, какая не побывала в руках Кирилла. Губы трогает ностальгическая улыбка, а в груди светлая грусть селится. Тоскует по сыну, вспоминает, и умалчивает об этом, лишь бы не становиться преградой к его свершениям и покорению столицы.
— Уважаемый супруг мой, есть ли у вас какой приличный наряд? — раздаётся голос Аглаи. Андрей Григорьевич откладывает запылившиеся конверты в сторону, а тоску по сыну не отложишь. Она переступает порог кабинетика, держа в руках свежее письмо. — Печать узнаёте? — указывает пальцем на императорскую печать. — Ну разумеется. Скажите, чем сын наш занимается в столице? Боязно мне. Прискакал гонец из Петербурга и вот, вручил, — передаёт распечатанный конверт и письмо ему в руки. Его руки дрожат предательски. Аглая качает головой, улыбаясь виду мужа. Он тосковал по царским печатям и письмам, по службе и полю боя. По всему, что осталось позади, и чем пожертвовать довелось ради наивысших целей. Жалеет ли? Нисколько. Сына воспитал прекрасного.
— Твои ли заслуги вспомнить решили иль Кирюша наш отличился? Он давненько не писал. В последний раз... — она задумывается, пытаясь вспомнить, когда в последний раз наблюдала родной почерк на листе бумаги. — Писал о своей одинокой жизни в полку, жаловался, что друзья на другом краю Петербурга. А потом вдруг замолчал. Отчего же?
— Вот и узнаем, — он улыбается, складывая письмо и возвращая в конверт. — Давно света не видали, милая. Поедем, раз уж сам император приглашает.
— Ты же этого хочешь, по глазам вижу, — она улыбается тепло в ответ, однако с лукавством в глазах, и проводит ладонью по плечу. Руку перехватывает, целует.
— Что-что? Мы в Петербург едем? Это правда, матушка? — едва сдерживая порыв девичьей радости, Любава застывает в пороге с широко распахнутыми глазами. Аглая Владимировна кивает головой, после чего не заставляет себя выжидать громкий, радостный вскрик. Любава закрывает лицо ладонями, а через несколько мгновений пускается в пляс. — Я надену своё любимое платье! Наконец-то надену! И братца увижу!
***
Кирилл выжидает, прежде чем начать, убеждаясь в том, сколь горячо может оказаться меж двух огней. Не умеющее врать лицо отражает неприязнь к подобным предприятиям; замешательство, ведь, должны ли родные люди вести себя подобным образом? Впрочем, не в его полномочиях учить да советы раздавать царственным особам. Он выпрямляет спину, чуть вскидывает подбородок, всё же проклиная Сашу в глубине души: такого рода новости особо неприятны. Мог бы и самолично явиться чтобы сообщить столь ценные сведения, а не засылать посыльного. Ещё немного и Кирилл готов заявить, что ему за дополнительную работу не доплачивают жалованье.
— Прошу прощения за беспокойство, цесаревна, — голос его врать т о ж е не умеет, приобретая самые разные оттенки чувств, какие бурлят в душе. Камеристка должно быть, заканчивала колдовать с медными волосами, уложенными теперь в замысловатую причёску, когда двери пропустили внутрь покоев Волконского. Подумать только, теперь он посещает царские покои. На случай ежели в них происходит нечто, что ему видеть не должно, Саша советовал, пожимая плечами, закрыть глаза. Благо это была всего лишь причёска, коей занимается камеристка, подбирая украшения. Закончив, она опускает смущённо глаза и воробьём вылетает из покоев. — И за это... тоже, — не объясняется. По его мнению, должно быть очевидно, что за вторжения с докладами от старшего брата следует извиняться как за себя, так и за брата.
— Александр Петрович велел передать, — никак не просил, потому что от просьбы всегда отказаться можно, что Волконский сделал бы немедленно. — Французского принца на сегодняшнем приёме не будет, — уводит взгляд в сторону, готовый на месте провалиться сквозь землю и никогда оттуда не выбираться на свет божий. История с французами становилась всё более интересной: сначала император, после цесаревна, привлёкшая внимание брата принцессы Мари Элен. Франция словно делала последнюю попытку уцепиться, быть может, спасти то, что бесповоротно разрушалось. Однако, Россия едва ли хотела заполучить сей союз. Зря иль нет — отвечать только тем, кто останется жив. Ни для кого не секрет: любой гвардеец схватится за оружие, узнай о том, что кто-то из царских особ каким-либо образом предаёт Родину через связи с этой пошлой, негодной страной. Если бы всерьёз волновала сторона политическая сего вопроса. Если бы. Кирилл не столь глуп, чтобы не видеть подтекста визита принца на мероприятие почти семейное. В последний миг всё переменилось, и вот, он стоит перед ней точно дурак. Сообщает о том, что не придётся однажды собираться в дорогу дальнюю. Ведь его не будет. Полегчало, Кирилл Андреич? Право слово, французский принц не последний, кто смотрит в сторону цесаревны. Избавиться от иного кандидата станет куда сложнее.
— А посему, он просил добавить, что вы можете надеть красивое женское платье, — не верит тому, что говорит — чёртов Саша, его голосом сие звучало бы иначе, безобиднее, легче. Голосом Кирилла звучит весьма странно, ещё более издевательски. Щёки заметно начинают пылать. Душно в комнате. — На этом я откланяюсь, — склонив голову, он спешно разворачивается и чуть ли не бежит к дверям. Да только сама судьбы решила сыграть в жестокую игру. А ежели не судьба, то Елена Степановна, нашептавшая глупой горничной свой фрейлинский указ. Наверняка заплатила. Кирилл дёргает дверь — не поддаётся. Наваливается всем весом — не поддаётся. Ударяет плечом, но скорее ударяет плечо и морщится от боли. Дверь заперта. Колотить её, несчастную, кулаками оказывается ещё более бесполезно, чем биться плечом. Когда ему хочется бежать куда глаза глядят и не возвращаться, разумеется, дверь должна быть запертой.
— У вас есть ключ? — резко оборачивается, серьёзно глядя на Елизавету Петровну. Несомненно, Кирюша, она под подушкой ключ держит, как же, — потешается внутренний голос, пока пытается судорожно отыскать выход из стесняющего положения. — Извините, — легонько ударяет кулаком по двери, спешно оставляя бессмысленные поиски. Не прыгать же в окно. — Часто ли вас запирают в собственных покоях? Полагаю, это чья-то дурацкая шутка, — начинает расхаживать по комнате, опустив глаза в пол. Стоит лишь осознать то, что находится с ней взаперти, наедине, и жар окутывает куда более сильный. Нет, всё же, прыгать из окна — идея не такая уж дурная. Мог ли подумать Кирилл несколько месяцев назад, что превратится в однотипных глупых влюблённых, которые теряют способность дышать в присутствии возлюбленных? Его влюблённость, впрочем, странная. Иной бы ситуацией воспользовался, а Волконский упрямым бараном расхаживает по комнате, держа руки за спиной. Даже не смотрит в её сторону. Глупый, глупый, глупый.
— Я так и не извинился, — вдруг останавливается, — за ту ночь, когда вы... помогли мне, — надо же было об этом вспомнить. Наутро он умудрился выскользнуть из дворца с раскалывающей головой, а уж в казармах братцы-гвардейцы знают толк в похмелье. После того утра они стали дружнее, точно общие тайны скрепляют отношения, сближают. Однако, он так и не извинился за своё странное поведение. Выпала хорошая возможность обо всём забыть, да только вечно обострённая совесть Волконского такого позволить не может. — Я вам очень благодарен, Елизавета Петровна. Извините, ежели лишнего наговорил или... сделал. Как и следовало ожидать, я почти ничего не помню, — хмурится, силясь вспомнить хотя бы что-то, но память подводит, — сплошная зияющая пустота, белое пятно и ничего более.
Он расхаживает ещё пару длинных минут и вдруг останавливается, невольно поднимая глаза. В нескольких шагах стоит о н а, неизменно великолепная и ослепительная в одном из красивейших нарядов. Разве ж можно отказаться любоваться такою красотою? Только дурак, коим является Волконский, станет разглядывать узоры замысловатые на коврах, словно ожили персидские сады со своими дивными птицами. Нет, ничего более дивного, нежели цесаревна всероссийская, быть не может. Его сердце снова гулко стучит и кажется, в тишине даже она может услышать. Из медных волос, переливающихся в солнечных лучах осенних, выскальзывает украшение и со звоном ударяется о паркет. Кирилл, точно заманивающийся этим звуком, подходит и украшение поднимает. Должно быть, камеристка наспех заканчивала свою работу, смущённая возникшей ситуацией. А у него зрительная память хорошая, ежели только в трезвом уме. Затаив дыхание, закрепляет украшение в волосах и пальцами невзначай касается, — волосы у неё мягкие, шелковистые, приятно дотрагиваться. Взгляд неспешно опускается до самых перламутрово-розовых губ, манящих и чувственных. Щелчок предостерегает от всяческих глупостей, каких мог натворить. Двери распахиваются, и камеристка вспыхивает с новой силой, замечая их, стоящих т а к близко друг к другу.
— Нам пора, цесаревна, — спешно отходит от неё.
Рано или поздно двери должны были отпереть. Рано или поздно он совершит какую-нибудь глупость. Камеристка попытается прощебетать нечто о запертой двери, мол она и не заметила, дура, ушла и стука не слышала. Кирилл снова захочет бежать прочь.
Елена Степановна встречает кокетливо-лисьим взглядом, не оставляя сомнений в том, что выходка её головушке принадлежит. Хороша фрейлина новоиспечённой императрицы. Саша на пару с Наташей выглядят более сдержанно, лишь улыбаются царственно, словно бы ничего такого не происходит. Остальные немногие гости наблюдают с любопытством, делая собственные заключения. Надо же было цесаревне и поручику явиться вместе. Оказавшись перед десятком взглядов, Кирилл сполна осознаёт свою глупость: надобно было идти другим путём. А теперь из-за него позор ляжет на ни в чём не повинную Елизавету Петровну. Вот почему должен ты держаться от неё подальше, — звучит здравый разум, не соглашающийся с отчаянным сердцем. Однако же, мало ли по каким причинам они явились вместе. Быть может, столкнулись где-то на повороте. Беда лишь в том, что двор посудачить любит. Судачить рано да не о чём. Хотелось думать.
Скромное празднество было организовано в саду, как одно из последних перед наступающими холодами. Были установлены кресла с алой обивкой и позолотой, предназначенные, несомненно, для императора и императрицы. До кресел тянется красный ковёр, по которому гости проходятся и предстают перед царственными особами, дабы поклониться и поприветствовать. Установлен шатёр, под которым стол с угощениями. В сторонке собралась группка музыкантов, ныне наигрывающая тихую мелодию. Расхаживают важно лакеи с подносами, разнося вино и шампанское. В высоких вазонах собраны осенние композиции из цветов полыхающих оттенков, жёлтых листьев, шишек и желудей. Повсюду точно огнём объятые деревья, однако готовящиеся вскоре окончательно листву скинуть, не выдержав силы пламени. Повод для сего мероприятия мог причисляться к той череде поводов, которая последовала за императорской свадьбой. После пышного торжества и заключения долгожданного брака, Кирилл с особой теплотой смотрел на них, своих друзей. Не переставал гордиться и восхищаться в душе свершениями Саши как государя, и как любящего человека, который не испытывал страха, разве что перед потерей своей любви. Народ к нему благоволил. Сие было заметно ещё в день коронации: Петербург полнился радостными криками, благословениями и добрыми пожеланиями. Впрочем, не обошлось и без выплюнутых проклятий. Однако, чем дальше, тем сильнее становилась как народная, так и гвардейская любовь. Более того, гвардия тепло отзывалась о Наталье Алексеевне, как и прочий люд, ощутивший вдруг близость к царской семье. Их любили. Они олицетворяли счастье и мирную, долгую, процветающую жизнь. А ветер тем временем гнал тучи в сторону великой, как окажется, не такой же несгибаемой, империи.
Был ещё один повод, по которому развернули целый императорский приём в саду. Кирилл не сразу замечает тройку знакомых фигур, слишком озадаченный тем, что отныне о цесаревне Бог знает что станут болтать. Опорочил девичью честь, не иначе. Ему бы поскорее откланяться и скрыться с глаз людских, да только застывает подле неё, глядя на своих р о д н ы х. Должно быть, пока они были заперты в покоях, Волконских успели представить, и Саша успел их тепло поприветствовать. Саша бы мог предупредить, если бы не любил сюрпризов и моментов, когда в глазах Кирилла отражаются хотя бы какие-то эмоции. Удивление мешается с растерянностью. Саша ведь, не виновен в том, что друг его сердечный родителям письмецо позабыл написать. Дружбой с царской фамилией Кирилл никогда не кичился ни словесно, ни в письмах; лишь вскользь упоминал, мол подружился с персонами важными, однако, дорогими сердцу. Оставалось лишь гадать, что за «персоны важные». Быть может, князь иль графы, но чтоб сам император и его близкие, — удивил сын. Кириллу отчего-то кажется улыбка матушки недоброй, словно вот-вот получит подзатыльника. Спешно откланивается перед Елизаветой и направляется к родителям: чем скорее исправить свою оплошность, тем лучше. Саша наблюдает за семейной сценой не без любопытства.
— Братец! — вспыхивает радостью Любава, едва вытерпевшая, пока тот подойдёт поближе. Срывается птичкой и подпрыгивая, обхватывает за шею, уверенная в том, что братец подхватит. И он подхватывает, кружит, забывая обо всём на свете. Пущай смотрят, плевать. Посторонних здесь собралось не столь много, зачастую лица знакомые. Она хохочет, а после в плечо утыкается носом и обнимает крепко-крепко, цепляясь пальцами за кафтан. Матушка качает головой: что за дети!
— Какая же ты у меня красавица, — любуется её хорошеньким личиком с розовыми щеками. — Не рано ли ей в свет выходить? Запомни, любой кто удумает к тебе приблизиться, со мной дело будет иметь, — серьёзно заявляет, а она легонько кулачком по груди ударяет, надувая губы.
— А что братец, хороша царская дочь? Слухи, значит? — шепчет она, приподнимаясь на носочках, а в глазах карих вспыхивают огоньки лукавые. Кирилл лишь улыбается и отталкивает от себя игриво. Не самое подходящее время и место обсуждать сие. Обнимает крепко отца и тот одобрительно по спине похлопывает. Не станет отчитывать, стыдить, покорно принимая случившееся. Пущай, сам ведь знавал Петра Алексеевича. Разве что не дружил. Матушку расцеловывает в обе щёки, а она и рада постучать кулаками то по плечам, то по груди, совершенно недовольная тем, что Кирилл не потрудился письмецо черкнуть.
— В самом деле, что за сын у меня. Ежели женишься, мы тоже не узнаем? — заглядывает ему в лицо, не скрывая материнского негодования, какое неизменно идёт под руку с материнской любовью. Ему остаётся улыбаться смущённо. — Глядите-ка, он даже не перечит. Неужто нашёл кого?
— Никого я не нашёл, матушка. Вы знаете, что я об этом думаю, — отвечает поспешно, но с теплотой в голосе. Соскучился по родным, грубить и характер показывать — оно как-то само не получается. Невзначай бросает взгляд в сторону Елизаветы Петровны. Нехорошо стоять в стороне, раз уж знакомство с его семьёй было пропущено из-за самого Кирилла. Не сомневается: Елена Степановна козни строить вздумала. Никто не знает, а она догадывалась и решилась догадки свои проверить. Всем своим видом теперь уже поручик показывал, сколь неравнодушен к цесаревне. А ежели его вина, должен всё исправить. Зовёт родителей за собой и направляется в её сторону, почтенно голову склоняя.
— Цесаревна, позвольте представить вам моих родных. Мой отец, полковник Андрей Григорьевич Волконский.
Андрей Григорьевич неспешно склоняет голову.
— Гляжу на вас и вижу вашего батюшку. Что за человек был! — душевно, искренне. Батюшке и пары мгновений подле дворца хватило бы, чтобы спокойно встретить старость и забыться сном вечным в умиротворении. А главное, посмотреть в глаза детям великого правителя, коего до сих пор помнят. До сих пор его имя слетает со многих-многих уст. Его глаза глядят на цесаревну нежно, снова то самое море в безветренный день. Он слабо улыбается и пропускает вперёд супругу свою, поддерживая под руку.
— Моя матушка, Аглая Владимировна Волконская. Не стану утаивать, лучшая матушка на свете, — невольно Кирилл улыбается во всю ширь лица, ловя её взгляд. Негодник. Заглаживает свою вину. А лучше бы письма писал почаще. Она присаживается в реверансе удивительно изящно, будто делала это всю жизнь. Кирилл и вспоминать не станет о том, что в далёком прошлом матушку величали графиней. В столице она состояла в кругу молоденьких барышень, имевших многие шансы служить при дворе или удачно выйти замуж. По собственной воле она отреклась от всего, чтобы прожить жизнь в скромности, порою в нищете, но рядом с самым любимым и близким человеком. О своих корнях и семейном древе она позабыла с лёгкостью (или только делала вид), словно всегда была госпожой Волконский, чем и гордилась.
— Как только вы его здесь терпите, ума не приложу, — шутит она, стреляя озорным, живым взглядом в сторону сына. — Большая честь быть представленной вам, Ваше высочество, — проследит внимательно за взглядом Кирилла. Матери ли не замечать то, что скрыто от чужих глаз?
— И моя любимая сестра, Любава Андреевна, — торопится представить сестру, дабы отвлечь матушку от столь пристальных наблюдений за его особой.
— Я мечтала увидеть вас хотя бы разочек! — с неподдельным детским восторгом признаётся она, складывая ладони вместе и застывая на мгновение. А после, вспоминая о правилах этикета, спешно делает реверанс.
— Что же, а теперь я откланяюсь, — отчего-то внезапно сообщает Кирилл, решая, что этого представления родителей вполне достаточно. Любаву вскоре уводят щебечущие непоседливые фрейлины, то ли из любопытства к новому, то ли из любопытства к Волконскому. Кто ежели не сестрица родная знает все секреты братца? Сам Кирилл с батюшкой наконец имеют честь беседовать с Александром Петровичем. Кирилл решает вопросов не задавать касательно приглашения родителей. К чему смуту вносить, ежели сюрприз приятным выдался. Аглая Владимировна остаётся подле цесаревны, вглядываясь в её красивый профиль внимательно, однако незаметно. Наблюдать втихаря — это её призвание.
— Всё ли у вас в порядке, дитя моё? — обеспокоенно осведомляется она, легонько касаясь руки Елизаветы. — Дурная материнская привычка, — отмахивается, улыбаясь и головой качая. В отличие от своих мальчиков она куда более открыта и душа её, порой кажется, распахнута для всего мира. Будь перед ней хоть цесаревна, хоть деревенская девчонка, — не имеет значения. — Да-да, они для меня всё ещё дети, а следовательно, и те, кто одного с ними возраста. Я считаю, что молодые должны жить полной жизнью и веселиться. Пока есть время, — звучит как никогда верно. Пока есть время. Кто же мог знать, что времени становится всё меньше. Она ещё немного помолчит, наблюдая за Кириллом и его взглядами, которые моментами устремлены в их сторону. Догадывается: взгляды эти вовсе не ей принадлежат, а красивой девушке с изумрудными глазами. Неужто взаправду это происходит?
— Иногда мне кажется, я совсем его не знаю. Весь в своего батюшку, скрытный. Раз уж он ваш друг, — переводит выразительный взгляд на лицо цесаревны, — будьте с ним откровенны. Волконские умеют удивлять. Никогда не знаешь, что у них на уме, — подхватывает бокал с подноса, благодарно улыбаясь лакею.
Через некоторое время Кирилл находит её, нарочито выжидая, когда останется в одиночестве. Собирались танцевать размеренную аллеманду, гармонирующую с наступающими осенними сумерками. Повсюду зажигают факела и свечи в шандалах. Пахнет воском, вечерний свежестью и духами, флёр которых окутывает, стоит оказаться близко.
— Цесаревна, позвольте пригласить вас на танец, — вопреки собственным правилам, — ежели вы свободны, конечно, — дожидается ответа и протягивает руку. Посчастливилось, не иначе. Поблизости и не наблюдается кавалеров на манер Голицыных, готовых в любой момент упасть на колени и просить руки. Случайность иль Саша потрудился с выбором гостей. День выдался безмятежным, тихим, как и его плавное завершение под медленную симфонию. Скорбно осознавать то, что подобные дни во дворе слишком редки. Всегда будут те, кто вьются подле неё и норовят застрелить взглядами его; всегда будут липкие сплетни, лисьи ухмылки, перешёптывания за спиной.
Кирилл легко сжимает её пальцы и уводит в сторону желающих танцевать. Раздаются первые певучие звуки скрипки. Аглая Владимировна выглядывает их двоих, начинающих плавный танец, походящий на осторожную игру. Осторожная игра выходит за границы танца, как успела она приметить. Легонько толкает локтем мужа в бок и кивает в сторону танцующих.
— Хороши, ничего не скажешь. Была бы у царя незамужняя дочь, ты бы тоже с ней танцевал?
— Любовь моя, я бы всегда выбирал тебя. Думаешь, у него серьёзные намерения?
— Какие могут быть намерения, когда ты нищий дворянин, а она — царевна. Хотела бы сказать: потанцуют да забудут, но не похоже. Кирюша-то глядит на неё постоянно.
— Я могу с ним беседу провести.
— Нет, не мешай ему. Не будем вмешиваться, понаблюдаем.
Кирилл тем временем в танце забывается. Слова испуганными птицами разлетаются из сознания. Остаётся пустота и завораживающий взгляд напротив. Изящные движения рук, невесомые касания: он держит её руку на своей ладони и поддерживает под локоть, едва-едва касаясь. Она делает разворот, и он оказывается позади, снова на своей ладони держит её пальцы; голову склоняет, как никогда ясно ощущая приятный аромат духов; выбивающиеся редкие волосы из причёски щекотно касаются щеки. Вспомнить бы, вспомнить.
— Елизавета Петровна, — шепчет над ухом, — я не часто вас прошу о чём-либо. Могу ли попросить? Точнее, пригласить, — разворачивает её в танце, вновь имея возможность смотреть в глаза. — Это будет небольшой приём в доме моего друга. Совсем не то, к чему вы привыкли, но смею надеться на то, что вам понравится. Я бы хотел представить вас своим друзьям, да и родители там будут. Подумайте, не давайте ответ сейчас.
***
Они смотрели друг на друга точно бараны. Ситуация поистине комична. Выряженные, красивые юноши с идеальными осанками и чертами лиц. Чуть вздёрнутые подбородки, неуловимое превосходство в глазах. Чистенькие, выглаженные мундиры, украшенные золотыми пуговицами и запонками. Само отражение столицы и придворной жизни. Утончённость, изящность, галантность. На противоположной стороне парни куда более простые: в белых рубахах, с взъерошенными волосами, полное отсутствие парада и сквозящая простота, душевность в глазах. Они выросли вдали от столицы и скорее отражают дворян, вынужденных скромно вести своё хозяйство и жизнь где-то вдалеке от эпицентра событий. Однако, Волконский не задумывался над неловкостью ситуации хотя бы потому, что, сам принадлежал ко вторым и умудрился подружиться с цесаревичем. Пажи и его друзья ещё некоторое время глядели друг на друга, пока не пригласил Гриша пройти в сад. Познакомились они весьма сдержанно и сухо, произнеся лишь собственные имена и пожимая руки.
Обед устраивала тётушка Володи. Любимая сестра его отца и приятная женщина: Вера Константиновна, располагающая собственным имением в Петербурге. Оно перешло в её руки через почившего супруга, который столь сильно любил, что завещал всё состояние до последнего рубля. Разумеется, она ненавистна для многой родни, зато любима своим племянником и его товарищами. Никогда не отказывала ни в чём: деньги одалживала с возможностью не возвращать долг, дом предоставляла для встреч тайных и официальных, всячески покровительствовала молодым людям. Матушка спешно нашла общий язык как с хозяйкой, так и кухаркой, беря главенство на кухне. Сам обед решили провести в саду, наслаждаясь последним едва ощутимым теплом и свежестью воздуха. Дабы гости согревались, было приготовлено пряное вино. В окружении золотистых деревьев стоит стол, накрытый белоснежной скатертью; по центру пышный букет из полыхающих астр, хризантем, георгин и веточек с ягодами облепихи. Вера Константиновна не пожалела самый красивый и дорогой сердцу сервиз, подаренный супругом. Не каждый год выпадает честь принимать у себя дочь Петра Великого, всеми любимую цесаревну. А в народе её любили безмерно. Аглая Владимировна во всю командует, указывая куда лучше тарелку поставить, как угощения разложить на блюде и на недостаточную чистоту самовара, — бедная горничная вынуждена с особым рвением вычищать его золотые бока, в которых отражается полыхание осени. Словом, приготовления к обеду в самом разгаре.
— Слушай, Кирилл, какие-то они совсем непонятные, — раздаётся шёпот Гриши над ухом. Кирилл тем временем подворовывает засахаренную клюкву. Последует звонкий удар по руке и строгий взгляд матушки. Он недовольно рукой встряхивает, однако спешно забывается.
— Кто? — весело усмехается, пребывая нынче в приподнятом настроении. Утро выдалось ясным — ни одной тучи над Петербургом. Пусть Саша и сообщил о том, что явиться не сможет, это нисколько не отразилось на бодром духе Кирилла. В глубине души он ждал особенного гостя. Ждал и не мог нарадоваться тому, что приглашение было принято.
— Кто-кто, выскочки эти! Пажи цесаревны... — тихо возмущается Гриша.
— Так они уже здесь? Чего же ты молчишь? Дурак, — ударяет кулаком по груди и срывается с места. Более никто приглашён и не был. Компания собралась любопытная. Кирилл мчит через сад, такой же по-домашнему растрёпанный, и в рубахе навыпуск даже не холодно.
— Елизавета Петровна! — восклицает радостно, точно не видел её лет сто. — Наконец-то вы приехали. Прошу вас, — протягивает руку, невольно игнорируя нахождение всё тех же пажей поблизости. Когда она появилась перед его взором, обретаться вокруг перестали абсолютно все живые существа. Он берёт её за руку и самолично отводит в сад. Володя толкает Гришу локтем в бок, мол стоит попытаться поладить с этими молодцами. Володя наиболее дипломатичен, потому и делает первый шаг, решая расспросить пажей об их службе. Любава, заприметив появление цесаревны, мигом оказывается рядом и совершенно беззастенчиво целует звонко её в щёку, как близкую подругу или сестру. Быть может, ей и хотелось порою иметь сестру помимо братца, который уж точно не разбирается ни в платьях, ни в украшениях для волос, ни в первых поцелуях. Аглая Владимировна делает то же самое, ведь не даром дочь в мать, нежно обнимая Елизавету за плечи и целуя в обе щёки. Непонятным образом она стала для них всё одно что родной. Быть может, дело в Кирилле и его особенном взгляде, говорящем — вот она, моя избранница. Разве что это заявление так и останется в его глазах, в его мечтах, только не в действительности.
Поводом служило повышение, только распространяться об этом Кирилл строго-настрого запретил. Подбивали друзья, мол грех не отметить. Поручик — должность важная. Однако, важных должностей ему достаточно. Служба при императоре куда более важная и длится до сих пор, посему никакой пользы от повышения. Он согласился лишь потому, что любит своих друзей и свою семью. А разве нашёлся бы повод более удачный, дабы собрать всех разом? Сердце ликует, когда все за столом собираются. Гриша, успевший рюмочку опрокинуть, поднимает бокал, глядя на Кирилла.
— Ну что, за тебя, друг... — он хотел было навеселе произнести тост в честь друга, но друг перебивает, мотая головой.
— Нет! Я хочу поднять бокалы за самых прекрасных женщин в этом мире, — поднимается со стула, всё ещё сияющий радостью. — За мою драгоценную матушку, — смотрит на неё глазами, полными тепла и любви, на какую только способны сыновья. — За сестрицу, разумеется, самую несносную, — вскидывает брови, ловя её хитрый, однако довольный взгляд. — И за цесаревну, Елизавету Петровну. Она у нас поистине необыкновенная, — задерживает на ней взор свой, переполненный нежностью. — Ну что, виват, господа?
Виват!» — раздаются громкие мужские голоса, слившиеся воедино. В тот миг кто-то посмотрел на него с ревностью, кто-то с одобрением, кто-то с тревогой. И вопреки всему, Кирилл никогда не отказался бы от своих слов. Никогда не станет мечтать о том, чтобы вернуться назад и всё переменить. Снова и снова он будет поднимать за неё свой бокал.
После обеда была предложена небольшая прогулка по парку, прежде чем отправиться пить чай с пирогами. Предложение наиболее охотно встретила Любава, да и Кирилл её поддержал, не замечая озадаченных лиц друзей и пажей цесаревны. Стерпятся, слюбятся, сомнений нет, только время надобно. Как известно, после драк, даже шутливых, русские люди добреют. Не разобрать, кто дурачиться начал, однако через время баталия разразилась шумная и активная. Они толкались, пинались, бегали друг за другом с палками и ветками вместо шпаг и саблей, толкали друг друга в горы жёлто-багряных листьев. Сперва слышались угрозы, вполне серьёзные, а после ребяческий хохот. Любава, вдруг ставшая истинной девицей, Елизавету поторопилась отвести в сторону, пока несносные мальчишки их обеих в свои разборки не увлекли.
— Вы знаете, Ваше Высочество, — смело подхватывает её под руку, — мой братец всех девиц в нашем Берёзове распугал. Ах, когда на войну он ушёл, Катенька наша столько слёз пролила. Ручьями лились из глаз, — рассказывает увлечённо, нисколько не стесняясь раскрывать братца секреты. Впрочем, ни одной фрейлине ничего подобного узнать не посчастливилось. Любава секретничает лишь с теми, кто приходится ей по душе и того достоин. — Нет, конечно же она волновалась, что братца убить ненароком могут. Я тоже, угрожала ему тем, что волосы обрежу и сама в солдаты пойду, — заявляет с гордостью и огоньком в глазах, — но братец живым воротился. Большее горе в том, что отказал он Катеньке. Их посватать хотели, да не вышло, — увлечённо продолжает историю, явно захваченная тем, что делится тайнами с самой цесаревной. — Батюшка гневался, а после махнул рукой. Он любит нашего Кирюшу. А знаете, — бросает взгляд через плечо, на братца, которого норовили задушить в листьях, не иначе, — вы ему точно нравитесь. Сегодня с самого утра весь светится, давно мы такого не наблюдали.
Кирилла, впрочем, не устраивает собственничество сестрицы. Заметив их вдвоём, вызволяется из весёлой бойни и бежит в их сторону.
— Елизавета Петровна, составьте мне компанию в прогулке, прошу вас, — подставляет руку, собираясь сестрицу непременно победить. Не заметит чувства, словно нечто похожее в его жизни случалось. Когда-то его самого на части разрывали и отказать ей, цесаревне, никак не мог.
— Цесаревна со мной гуляет! — звонко заявляет Любава, крепче ухватывая Елизавету под руку.
— Уж нет, хватит с тебя! Ну-ка, тебя матушка точно ищет, иди к ней, — упорствует Кирилл.
— Ах вот как заговорил, негодник. Не пойду!
Кирилл долго не раздумывает, прежде чем схватить Елизавету за руку и побежать прочь, по хрустящим опавшим листьям, по склонам и невысоким подъёмам. Кирилл хохочет, как бывает в моменты ощущения бескрайнего счастья, свободы и беззаботности. Судьба милостиво позволяет им урвать минуты счастья последние. Если бы знал: бежал бы не останавливаясь, лишь быть счастливым и её счастливой видеть. Очень скоро он неудачливо спотыкается о спрятанную в листьях кочку, слишком увлеченный побегом. Любава то ли бегать разучилась, то ли удумала нарочно оставить их наедине. Кирилл валится на перину из шуршащих листьев, увлекая за собой и Елизавету Петровну. Быть может, его затылок и страдает от частых ударов, зато это неизменно окупается сполна. Шустро находит удобное положение, чувствуя на груди приятную тяжесть. Подкладывает одну руку под голову, другой удерживает за талию (забываясь, вероятно) и принимается рассматривать её лицо вблизи. Из груди вырвались последние смешки, остаётся лишь след в виде улыбки. Глаза изумрудные в ясный день необычайно красивы: множество граней ярко сияют. Солнечные лучи золотят рыжие волосы; они точно огнём объяты. Никакую другую барышню представить на её месте не может. Ни одна не станет принимать участия в их мальчишеских забавах. Другие скорее лишатся чувств и потребуют отнести на руках в кровать. Другие ему совсем не нравятся. А она точно лесная нимфа, притягивающая к себе дивно поющих птиц. Не даром щебечет скворец на пару с зябликом, где-то над их головами, удобно усевшись на голой ветке.
— До чего же у вас красивые глаза, Елизавета Петровна, — произносит беззастенчиво, пропадая в моменте. Так странно, признаваться и до сих пор звать полным именем. Однако, есть в этом нечто особенное, сокровенное, никому кроме них непонятное. Думается, ежели произнести одно лишь имя, непременно переступишь невидимую черту. Однажды он признается самому себе, что переступать эту черту желает не друзьями будучи, а кем-то другим. Кем же? Как называются люди, влюблённо смотрящие друг на друга?
— Голубки, не иначе! — вскрикивает Любава, наконец догнавшая. — Так вот для чего ты украл Елизавету Петровну, — глаза лукавством лучатся. Она качает головой, протягивая руку цесаревне. Братец отпускать её и не торопится, будто не застали их в положении весьма неловком и скандальном. Любава никому не расскажет, разумеется. Помогает подняться цесаревне, оставляя братца справляться самостоятельно.
— Ну будет тебе, будет, — успокаивает её и чтоб наверняка прощение получить, обхватывает ладонями лицо и целует в лоб. Любава мигом таит точно снег под тёплым солнцем. Улыбается довольно, что означает конец любой вражде. — Прошу вас, сударыни, — подставляет обе руки дамам. Она подхватывает под руку, нисколько не возражая. Стоило сразу поделить его на двоих. Возвращаются к дому втроём, и снова Кирилл самый счастливый человек на свете, пока они обе рядом и держат под руки.
А по возвращению их ждал горячий чай; пляски народные под балалайки и свирели. Кирилл отплясывал особенно бодро, увлекая в танец то сестру, то матушку, то цесаревну. Народные танцы ему нравились простотой: никакой тебе чопорности, сдержанности, пляши от души. Аглая Владимировна и спеть согласилась после его долгих уговоров. Вечер превращался в семейный, уютный, защищающий ото всех невзгод и тревог.
Вот бы он длился вечно. Вот бы не заканчивалась эта осень.
Под шум листопада тихо засыпает мир.
Но время всё ломает, всё портит, всё рушит.
***
[несколько месяцев спустя]
Тучи сгущались над Петербургом, по мере того как гонцы с дурными вестями пригоняли сильнейший ветер. Одна депеша краше другой. Иностранные послы из первых, кто замер в ожидании. Капризная Франция лишь вскидывала дрожащий подбородок как девица. Пруссия коварно ухмылялась, полагая что Россия получает по заслугам. Священная Римская Империя глядела с сочувствием и обещала свою безвозмездную поддержку. Османцы упрямо отмалчивались, пока депеши зачитывали всероссийскому самодержцу. Только дурак мог не заметить сколь несерьёзное отношение к молодому императору исходило от дипломатов. Они полагали, что биться за границы и справедливость тот не осмелится, струсит. Тысячи людей, вынужденно ушедших жить в горы, оказались под якобы благотворным покровительством Османской империи. Стоило только русской армии сдать Дербент персидскому султану, понадеявшись на честность османцев, которая за ними вовсе не водилась. Однако, мирный договор с Персией был важнее только для России. Не для алчных и диких татар, мгновенно воспользовавшихся уязвимым положением. Первая депеша вынудила напрячься правящие круги. Кирилл самолично расхаживал по кабинету Саши, непомерно злясь на османцев, дерзнувших покачнуть столь хрупкий мир. Стало ясно: мира не будет. Завывающий ветер за окнами лишь усугублял положение. В сложившихся обстоятельствах вовсе не до чувств, которые прежде цвели пышным цветом. Его выручала разве что служба и множество императорских поручений, не терпящих отлагательств. Кирилл объездил пол страны, не иначе, довольствуясь редкими встречами с ней. Саша просил потерпеть, мол вскоре станет лучше, да только очередной доклад и очередное осознание того, что лучше не будет; это самое “лучше» откладывалось на многие годы. Нарушен Константинопольский договор о мире с Турцией. Крымские войска вторглись на чужую территорию, норовя поиграть то ли с огнём, то ли с диким зверем, запертым в клетке. Кабарда, Чечня, Дегестан, гребенские станицы, — следует перечисление в ходе доклада генерал-аншефа русской армии. Зверь окончательно разлютовался, не имея возможности из клетки вырваться. Выпустить его мог лишь один человек. Россия — союзник Персии. Ветер завывал громче, неистовее, пригоняя последнего гонца ко дворцу. Опасения лишь подтверждались. Теперь уже куда более широкий круг людей замер в ожидании всепоглощающего смерча. Русские резиденты из Константинополя просят императора начать подготовку к войне. До последнего трудились на дипломатическом поле. Кирилл встал на сторону тех, кто ожидал войны, искренне полагая что с дикими турками едва ли договоришься. Никакие письма с указанными нарушениями к великому визирю не были восприняты всерьёз. Никакие уполномоченные не были высланы на границы, дабы разрешить конфликт мирным путём. Россия в лице Александра Петровича была вынуждена признать то, что всяческие условия мира нарушены.
Война была объявлена, и столица погрузилась в тягостное, мрачное ожидание. На неопределённое время прекратятся пышные приёмы да ассамблеи, многие развлечения высшего света останутся в недалёком прошлом. Многие молодые, статные и красивые кавалеры будут отправлены на поле боя, где многим и предстоит остаться навечно. Кирилл не приветствовал желание Саши ринуться следом за армией. Беспокойство в его душе лишь сильнее бушевало, порой от одного вида Бориса Фёдоровича. Недобрый, тёмный взгляд, точно замышляющий нечто. Кирилл денно и нощно был подле Саши, упрямо отказываясь жить своей жизни. Будто своя жизнь у него была до возведения в ординарцы. Более того, начала свирепствовать зима, — самое отвратительное время года для военных походов. Саша тоже бывает упрямым. За пару недель до отправления он начал травить странного рода шутки, на которые Кирилл отзывался хмуро и недовольно. Хотелось ему, видите ли, развлечься перед походом; дескать, воротятся с войны не все, и война не щадит даже особ венценосных, а потому его желания следует исполнять без пререканий. Благо его желание было выполнимо и не ущемляло интересов Натальи Алексеевны. На мгновенье Кирилл Бог весть что подумал, но Саша, захохотав, поспешил его успокоить. Развлечения ведь, всякими бывают. Оставалось лишь уговорить Елизавету Петровну. Наконец, настал тот день, когда во дворце принялись устанавливать подмостки.
Кирилл притаивается у стены, завешенной различными костюмами. В маленькой комнатке творится кавардак и суматоха, позволяющая на один вечер позабыть об ужасах, какие впереди. Какие-то пёстрые наряды то там, то здесь, шляпы в перьях, вычурные веера, маски, разнообразная бутафория. Напротив зеркал сидят артисты, которых усердно гримируют. Пудра витает в воздухе, нос предательски щекочет. Запылённые сундуки таят в себе множество скарбов театральных. Давненько не ставили пьес при дворе. Он находит взглядом цесаревну, подле которой порхают служащие театра, знающие толк в перевоплощениях. До чего же она прекрасна, даже с бледным лицом от белил, и ярко-перламутровыми щеками от румян. Явился Волконский лишь для того, чтобы осведомиться всё ли в порядке и пожелать хорошего выступления, будто она собирается дебютировать. Впрочем, оба повода поспешно вылетают из головы, оставляя его беззастенчиво наблюдать за закулисной суматохой и не имея даже оправдания. Цветы принято дарить после, между прочим. Как и одаривать комплиментами. Дабы не мешаться, он собирается вернуться в небольшой, зрительный зал, рассчитанный на сугубо приближённых к царской семье. Постановка в общем-то была затеяна для самого узкого круга.
— Как это?! Как это, пьян?! — раздаётся визгливый голос маленького человечка, особо активного, непоседливого, с маленькими чёрными глазками, умудряющимися следить за всем, что вокруг происходит. — Вы смеётесь надо мной? Что я скажу Его Величеству? — он размахивает руками, буквально вскипая от негодования. Быть суфлёром императорского театра — тяжёлая ноша, особенно когда твои артисты загуливают, являются в нетрезвом виде на репетиции и, Господи помилуй, на сами представления. — Кто теперь играть будет? Кто? Хорош спектакль без главной мужской роли!
— Я могу, — вырывается определённо необдуманно. Он делает невольно шаг вперёд, выходя из полумрака и привлекая мгновенно всеобщее внимание. Суфлёр уставляется недовольно, упираясь руками в полноватые бока.
— Ты ещё кто такой? Первый раз тебя вижу, — не торопится разделять чей-то внезапно возникший энтузиазм. Спасать постановку, да только не любыми способами.
— Я не актёр, но пьесу наизусть знаю, — улыбается Кирилл, считая своё предложение истинным спасением для сегодняшнего вечера. Если бы не матушка — человек искусства, он, разумеется, никогда бы не сунулся. Ежели игра на инструментах музыкальных приветствовалась, то артисты считались людьми распущенными, недостойными, наравне с падшими женщинами и прочими. Актёрское искусство дано было понять не каждому, а она понимала. Понимала и настрого детям запрещала даже помышлять об этом, а особенно Любаве, которая театром увлекалась с малых лет. Кирилл точно забывается напрочь, не ощущая самого себя. Кто-то другой, больно смелый возник на его месте. Суфлёр выжидающе глядит, прищуривается, будто вот-вот и откажется незнакомый юноша от своего предложения.
— Ну что ж, боюсь у меня нет выбора. Елизавета Петровна, сей юноша порешил, что сумеет вам компанию на сцене составить. Ах, лучше бы вовсе представление отменили, — отмахивается пухлой ручонкой и отправляется контролировать процесс приготовлений, то и дело гаркая на своих подчинённых. Кирилл встречается с её изумрудными глазами, улыбаясь и плечами пожимая. Будь что будет, ведь Саша прав: воротятся иль нет, неизвестно. Быть может, эта глупость последняя, какую доведётся совершить в своей жизни.
Костюм, некогда принадлежавший набравшемуся актёру, сидел сносно. Суфлёр остался довольным внешним видом, мол высокого роста и недурного лица достаточно, чтоб поплясать разочек на сцене. Император простит. Будет настоящая комедия. «Много шума из ничего» принадлежала Шекспиру, ещё не столь известному в высших кругах, но неизвестное лишь подогревает интерес. Комедия, однако не лишённая драматизма. Отыграли первый акт. Двое молодых людей — Бенедикт и Клавдио возвращаются с принцем Арагонским после военного похода, одержав победу и отличившись. Хотелось бы думать, что пьеса пророческая, что победу отечеству принесут. В город Мессина пребывает войско принца да останавливаются они в доме губернатора Леонато, где двое прелестниц спешно пленили юношей своими выразительными глазами. Дочь губернатора Геро околдовывает Клавдио, а прекрасная Беатриче завладевает вниманием Бенедикта. До чего же подходящие роли! Играть вовсе не требуется. Сама жизнь происходит на сцене, играет за них роли. Бенедикт и Беатриче в добрых, дружеских отношениях, то и дело подшучивают друг над другом, дурачатся как дети. Им не привыкать. История вертится вокруг этих молодых людей. Дон Педро, принц, задумывает пару свести да поженить. Похож на Сашу, не иначе. Вылитый Саша. Не удивительно, что роль досталась ему. Приближается второй акт.
Бенедикт отправляется в сад читать книгу.
— Удивляюсь я: как это человек, видя, какими глупцами становятся другие от любви, издевается над этим пустым безумием — и вдруг сам становится предметом насмешек, влюбившись, — рассуждает сам с собой, расхаживая по сцене в задумчивости. — Таков Клавдио. Помню я время, когда он не признавал другой музыки, кроме труб и барабанов, — а теперь он охотнее слушает тамбурин и флейту. Помню, как он готов, бывало, десять миль пешком отмахать, чтобы взглянуть на хорошие доспехи, — а сейчас может не спать десять ночей подряд, обдумывая фасон нового колета. Говорил он, бывало, просто и дельно, как честный человек и солдат; а теперь превратился в какого-то краснобая: его речи — это фантастическая трапеза с самыми невиданными блюдами.
В глубине души он обращается вовсе не к названному другу. Обращается к себе. Такой же влюблённый, переменившийся до не узнавания, готовый на самые невиданные безумства ради своего чувства. Быть может, потому удаётся уверенно на сцене держаться.
— Неужели и я могу так измениться, пока еще смотрят на мир мои глаза? — повернётся лицом к зрителям, устремляя вопрошающий взгляд вдаль. Ещё несколько реплик произнесёт, продолжая расхаживать и держа книгу за спиной. — Пока я не встречу женщины, привлекательной во всех отношениях за раз, — ни одна не привлечет меня! О, вот и принц с мсье Купидоном! — заприметив выходящего принца с губернатором, торопится спрятаться в беседке. И следующий разговор ему предстоит подслушать, решающий дальнейшую судьбу.
Дон Педро: послушайте, Леонато, то это вы говорили сегодня? Будто ваша племянница Беатриче влюбилась в Бенедикта?
Клавдио: да-да! Вот уж не подумал бы никогда, что эта особа может в кого-нибудь влюбиться.
Леонато: я тоже. А всего удивительнее, что она с ума сходит по Бенедикту, которого, судя по ее поведению, она всегда ненавидела.
Леонато: по чести, ваше высочество, не знаю, что об этом и подумать. Но она безумно любит его: это превосходит всякое воображение.
Дон Педро: может быть, она только притворяется?
Леонато: Бог мой! Притворяется! Да никогда притворная страсть так не походила на истинную, как у нее!
Дон Педро: но в чем же эта страсть выражается?
Леонато: в чем выражается? Она сидит и… да вы слышали, как моя дочь рассказывала.
Дон Педро: что? Что? Прошу вас! Вы изумляете меня: я всегда считал ее сердце неуязвимым для стрел любви.
А позже, Геро и одна из её дам устраивают похожую хитрость для Беатрисы — она слушает о том, что её дурной нрав отпугивает безнадёжно влюблённого Бенедикта. Таким образом завершается третий акт. Начинается четвёртый. Звучат признания в любви, да только никто не торопится их принимать. Для любви и счастья находятся преграды. Сцена не иначе как реалистичная. И после разыгравшихся, захватывающих сердце и души как артистов, так и зрителей, драматичных событий наступает долгожданная кульминация. Об этом никто не задумывался. В особенности Кирилл, предложивший свою персону в качестве Бенедикта.
Бенедикт и Беатриче упорствуют отчаянно, и любят не менее отчаянно. Смотрят друг на друга пылающими глазами, а слова с уст слетают необдуманные, в пылкости и страстном порыве.
Беатриче: вы любите меня?
Бенедикт: не так чтоб очень.
Беатриче: они клялись, что насмерть влюблены вы.
Бенедикт: всё вздор! Так вы меня не любите?
Беатриче: нет, разве что как друга, в благодарность...
Клавдио: я присягну, что любит он ее. Вот доказательство — клочок бумаги: хромой сонет — его ума творенье — в честь Беатриче.
Геро: вот вам и другой, украденный у ней, — ее здесь почерк: признанье в нежной страсти к Бенедикту.
Друзья их застают врасплох. Бенедикт потерянно оглядывает каждого, а после упрямо качает головой.
— Вот чудеса! Наши руки свидетельствуют против наших сердец. Ладно, я беру тебя; но, клянусь дневным светом, беру тебя только из сострадания, — пылко произносит, взмахивая рукой. Однако, стоит ей только заговорить, ответить колкостью, и Бенедикт вспыхивает пламенем страсти с новой силой. — Стой! Молчи!
Он сокращает стремительно расстояние между ними и обхватывая лицо Беатриче ладонями, наклоняется и целует. По задумке автора есть лишь один способ прекратить словесный поток из её уст, а также образумить влюблённых. Одно мгновение, другое, и неизвестно кто целует Беатриче иль Елизавету Петровну, — Бенедикт или Кирилл. Этот поцелуй не похож на мимолётный, невесомый как прикосновение цветочного лепестка к губам. Раскалённые страсти между героями вынуждают целоваться совсем иначе. Кирилл отпускает свою душу в свободный полёт и сердцу позволяет завладеть разумом. Этот поцелуй он сбережёт до последнего дня войны. Сколько поцелуй длился? Быть может, несколько мгновений, быть может, целую минуту, целую вечность. Кто-то в зале напрягается и прожигает разгневанным взглядом. Не иначе как Василий Борисович. Кто-то принимает за должное. Кто-то вовсе видит в происходящем долг актёрский. Этот поцелуй походит на прикосновение пламени к губам. Разрывает сердце тем, что он первый и последний, — не повторится. Этот поцелуй — счастливая случайность, истинный подарок судьбы, который Волконский принимает. Как бы сильно ни хотелось целовать её губы бесконечно, звучит торжественная свадебная музыка и опускается медленно тяжёлый бардовый занавес.
Спектакль окончен.
Поделиться202024-05-20 20:53:59
***
Стылый ветер свирепствует на площади перед дворцом. Небо затянуто тёмно-серым полотном. Весь свет погрузился в серость: выцветший, бесцветный и холодный. Совершенно иные приоритеты отныне в молодых головах. План нападения на Крым разрабатывался долго и наконец, достиг своей кульминации. Настал тот день, когда армия должна выдвинуться из Петербурга, дабы восстановить границы и справедливость. Любая война страшит неизвестным исходом, и не имеет значения, сколь сильно, непоколебимо уверена держава в своей неодолимости. Прощание устроено прямо здесь, на продуваемой ветрищем, площади. Кони осёдланные и готовые к долгому, изнурительному пути, опустив головы, покорно выжидают. Настроение вовсе не радостное. Впрочем, радости никакой быть не может. Кирилл осматривает лошадей в очередной раз, поглядывая на Сашу, который от Натальи Алексеевны оторваться никак не может. Замечает Елизавету Петровну. Попрощаться надобно. Отпуская из руки кожаные уздцы, направляется в её сторону. Ветер так и норовит чёрный плащ сорвать с плеч. Холодит и опустошает душу. Он почтительно, как и всегда, склоняет перед ней голову, прежде чем посмотреть в глаза, не теряющие своей выразительности даже в самый ненастный день.
— Елизавета Петровна, — начинает негромко и запинается, не зная, как продолжить. А что положено говорить на прощание? Особенно девушке, при виде которой сердце трепещет. Вместо слов опускает взгляд и берёт её руку. Ему не впервые глупости совершать или следовать призывам отчаянного сердца. Осторожно снимает перчатку с её руки, склоняется и губами касается тыльной стороны ладони. Задерживается на пару мгновений, пока меж бровями складка пролегает. Чуть крепче пальцы сжимает, поднимая глаза на её лицо. — Дождитесь нас. Мы непременно вернёмся, обещаю вам. Берегите себя и... — сколько всего можно было сказать вместо молчания, вместо заминки дурацкой, — прощайте, — срывается с его губ.
Кирилл разворачивается, прочь уходя. Взял на себя грех пообещав то, над чем не властен.
А на небесах всё давно решено.
Кирилл сосредоточено разглядывает разложенную на деревянном столе карту, но мысли его слишком далеки от военных стратегий. Саша негромко покашливает в платок, попавшийся под руку. Он будто пытается скрыть последствия этого безобидного кашля. Шатёр над ними вовсе не королевский, скорее четыре бревна, вогнанных в землю да навес из потрёпанно-грязной, тяжёлой ткани, выцветшей давно. Недобрый ветер гуляет после поморосившего дождя. Зима даёт о себе знать самым мерзким образом, не торопясь гнать на землю сильные холода. Долго ли то продлится? Голова Кирилла болит за многое, пусть и выходящее за пределы его ответственности. Состояние армии, (не)достаток продовольствия, должное обмундирование, — вовсе не его заботы, однако же не оставляют в покое. Надвигающаяся зима, лишь играющая с ними, словно бы ей промедление доставляет удовольствие, — самая большая беда, вставшая между блестящим планом завоевания и русской армией. Никто поручика всего лишь слушать не станет, а делиться тревогами с ним себе не позволяет. Не должен Саша выполнять чужую работу, уж тем более в состоянии тревожном.
— Здесь можем пройти, наиболее безопасный путь. Ни к чему растрачивать силы раньше времени, — проводит пальцем по предлагаемому пути и поднимает взгляд, понимая, что внимание Саши несколько рассеяно. Его бросает в мелкую дрожь, столь гармонирующую с дурной, влажной погодой. Кирилл выпрямляется, уставляясь на него небывало серьёзным взглядом под тенью нахмуренных бровей. — Воротиться бы вам, пока не поздно, — нарочито обращается на “вы”, подчёркивая значимость его персоны. Не хочется говорить, что станется, ежели император поляжет от своей упертости. Сейчас мысли такого рода не кажутся зловещими, пророческими, скорее призывающими отрезвлять. Саша впрямь упирается.
— Это всего лишь простуда, друг мой, — отмахивается Саша, замечая наконец карту перед собой. Кутается в одеяло, снова покашливая в платок. И отчего кажется, будто чем чаще платок в руки берёт, тем чаще и громче раскашливается? В з д о р. Быть такого не может.
— Плевать. Ты должен быть дома, подле лекарей и под наблюдением. Саша, эта сырость и холод тебя угробят, — не выдерживает Кирилл, опираясь ладонями о стол и заглядывая ему, сидящему на скамье напротив, в глаза. Посмотрят друг на друга несколько секунд, играя в гляделки, не иначе; и попусту, потому что Саша начинает изображать заинтересованность картой и путями наступления. Кирилл от бессилия, вызывающего гнев, готов стол к чертям перевернуть и гнать чертей-османцев до самого Бахчисарая, однако же, им овладевает холодное благоразумие. Стол переворачивать не стоит, а гнать османцев — завсегда пожалуйста. — Что же, прошу рассмотреть мои предложения, авось дельными окажутся.
И он уйдёт прочь, раздираемый необъяснимой тревогой. Хочется кричать, да только от неизвестных причин. В голове стоит сухой, непрекращающийся кашель. А зима тем временем наступала.
Запахло первыми морозами. Однажды наступило утро, после которого последовали стылые дни. Армия упрямо продолжала шествие в сторону юга. Обнадёживало лишь то, что в малороссийских краях зима не столь беспощадна, порою обходится даже без снегопадов. Однако, сопротивление не заставило себя ждать в лице набегов варваров, перешедших границы. Важные, напыщенные командиры были убеждены и увещевали императора в том, что следует двигаться вперёд. Ежели не продолжать наступление, можно войну считать проигранной. Кирилл относился к докладам высших чинов крайне скептически, имея собственное мнение, никому неинтересное. По его мнению, меньшее что стоило сделать — вернуть императора во дворец, а большее — не выступать навстречу холодам вовсе. Симптомы так названной простуды тем временем ухудшались, заставляя засомневаться в том, простуда ли одолевает Александра Петровича. Среди солдат поползли самого разного рода слухи: многие осмеливались писать в письмах родным о своих опасениях иль догадках. Подобным образом очень скоро заговорили в каждой гостиной Петербурга о престранном, даже опасном состоянии Его Величества. Каждый, разумеется, перекрещивался. Никто верить в сие до конца не желал, принимая за обыденные слухи да сплетни, не подкреплённые доказательствами. Пересуды в высшем свете никогда не являлись чем-то серьёзным, чем-то более увлекательной темы за чаем или игрой в карты. Кирилл лишь убеждался в том, что болен Саша вовсе не простудой. Достаточно того мига, когда ухватил его руку и заставил разжать кулак окровавленный. Ему бы злиться, да только злость оказалась тихой, заточенной внутри. На лице появилась холодная отстранённость. Полевой лекарь высказал предположение о какой-то загадочной разновидности чахотки, что нисколько не облегчило состояние ни Саши, ни Кирилла. Лекарь оказался незадачливым. Его призвание завершалось на перевязке ран да ампутации конечностей. Полетела череда дней, совершенно бессмысленных. Денно и нощно он слышал э т о т кашель, видел пятна крови на множестве белых платков, и поделать с этим совершенно ничего не мог. Лучше не жить вовсе, ежели судьба уготовила столь зловещую участь, — наблюдать за тем, как угасает самый близкий друг.
Кирилл протягивает замёрзшие руки, чуть ли не обжигаясь пламенем костра. Темнеет нынче рано, что значительно замедляет передвижения полков. Возрастающая вероятность наткнуться на неприятеля бережёт командиров от поспешных, немудрых решений. Лагерь разбили в лесу. Установили несколько шатров и принялись решать, что делать дальше. Тёмно-синяя темень постепенно поглотила лес вместе с его соснами, елями и прочими деревьями, вместе со звучанием и доброжелательностью; в тёмное время суток лес глядит своими чёрными глазами зловеще, неприветливо, обещая и тебя самого целиком проглотить. Порою слышится треск сухих веток, глухой стук опавших шишек, скрип тонкого снежного покрывала, вспорхнувшей птицы с ветки; в иной раз жутко орут филины, в голосе которых слышится и крик демонов, и плач дитя. Однако, наибольшие тревогу и отчаянье вызывает не обступивший плотным кольцом лес, и не промедление, а ухудшающееся здоровье Саши. Когда выяснилось, что не простуда вовсе, Кирилл начал предполагать иное, самое страшное. Только когда они успели?
— Сдаётся мне, Кирилл Андреич, недолго осталось, — задумчиво произносит Саша, глядя на извивающиеся над горкой дров, пламя. — Чему бывать, того не миновать, слыхал? Вот ты тревожишься обо мне, а я — нет, — переводит взгляд на Кирилла, заставляющий поверить в его серьёзность. Одна из немногих бесед, когда он совершенно серьёзен, не пытаясь отшучиваться, отмахиваться. Волконскому привычно говорить откровенно с другими, говорить, что думает, да только не выслушивать откровения подобного рода самому. Что с ними после делать? Саша, впрочем, говорит до нельзя загадочно.
— Я тревожусь за Наташу, за Лизу и конечно, за нашу несчастную страну. На кого всё это оставить? Ни детей, ни верных людей... нет, Наташе тоже нельзя, — будто пытается опередить Кирилла, предугадывая вопросы. Помолчит немного, снова завороженно глядя на огонь, в голубых глазах ясно отражающийся. — Это тоже плохо кончится, — негромко. Т о ж е. Кирилл смутно догадывается. Не сдюжит Наталья Алексеевна с чудовищами, засевшими в столице. Как бы больно ни было, признавать приходится что не весь высший свет принял её как императрицу, и далеко не все влиятельные господа, вершащие судьбы страны. А следовательно, Саша прав, рано или поздно исход лишь один. Кирилл мрачнеет, закутываясь в свой плащ. — На кого же тогда... на кого... — голос стихает, заглушаемый шипением огня; то ли в его голове учиняется активный поиск кандидата, то ли вовсе образуется пустота. Кирилл не может понять, что происходит с его другом. Делается тошно. Злится на самого себя.
— Я в этом деле не советчик. Дай знать, ежели что-то нужно будет, — проворчит, поднимаясь с поваленного дерева, на котором они и разместились. Злиться на себя будет пуще прежнего, хотя бы за то, что уходил постоянно, страшась своего бессилия и зловещего кашля, который однажды доведёт вовсе не до добра. Хотелось думать: южное тепло подействует благотворно. Лекари выказывали предположения, что подобные хвори излечиваются солнцем, а лёгким необходим морской воздух. Кирилл отчего-то верил, хватаясь за последнюю надежду. Упорно не желал замечать Сашиных размышлений по поводу завещания. Впервые это слово прозвучало и столь же зловеще, как его кровавый кашель. Сколько же бед принесёт сие слово, означающие всего лишь бумагу. Заведомо оно было проклято тёмными силами. Меж тем тёмные силы во плоти, с акцентом французским, обретались поблизости.
Наступил тот день, когда Кирилл возненавидел себя более чем кого-либо. Полк начинает выдвигаться в путь, который планировалось пройти без длительных остановок. Стылый утренний воздух покалывает в лёгких. Думается, от такого холода можно и погибнуть. Саша проснулся ещё более бледным, нежели раньше, словно заледенел изнутри, а лицо инеем покрылось. На уговоры отправиться в столицу не вёлся, вяло заявляя о том, что сие предпринимать слишком поздно. Теперь едва сидит в седле, вызывая самые огромные опасения не только в душе Кирилла, но и всех остальных. Кирилл не успевает взобраться на лошадь, как случается роковое падение. После перехода сего рубежа назад воротиться невозможно. Саша валится с Плутона точно безжизненная, тряпичная кукла. Сердце удар пропускает, второй-третий, — вскоре бесконечное количество ударов от быстрого ритма. Кирилл подбегает к нему первым, быть может расталкивая всех на пути, и падает на колени прямиком в смесь из грязи и снега. Снег растаял, словно бы зима дала поблажку. Только грязи повсюду образовалось немерено, сплошные болота.
— Саша... Саша... — забывает в один миг о различиях в положениях, о правилах, о чёртовой субординации; всегда старался на людях обращаться как положено, произнося полное имя и титул, — а тут вовсе не до титулов. Щёки от мороза краснеют, и глаза — тоже краснеют. — Саша, посмотри же на меня! — трясёт за плечи, пытаясь в чувство привести, да без толку. Голубые глаза тускнеют точно сегодняшнее небо. Наплывает туман. Веки опускаются вовсе, а тело делается безвольным, расслабленным. Кирилл не замечает суматохи вокруг: всполошились все, от солдата до генерала. Прежде чем Кирилла насильно оттащат под руки, по шероховатой, щетинистой щеке прокатится ледяная слеза. Он не верит глазам своим. Не верит.
Ваше Величество! — отдалённо слышатся вопли наперебой.
Саша... — набатом в пустоте его воспалённого сознания.
Саша, Саша, Саша. Мой друг.
Шатёр сторожили особо тщательно. Запускали исключительно людей, сведущих в медицине и людей, более высших по рангу нежели поручики и прочие. Воротить должное неравноправие удалось спешно тем, кто считал неприемлемым близкую дружбу императора с безродным мальчишкой. Этот же мальчишка снова и снова пытается пробраться внутрь, да получает строгие запреты. Караульщики угрожают оружием. Шустро всё переменилось, будто они знают, что император более не поднимется. Только когда Саша быть может, в беспамятстве, затребовал появления Кирилла, генерал-лейтенант велел оного привести. Из жалости али из коварности, — неизвестно. А впрочем, пред умирающим императором можно ли отличиться и рассчитывать на его милость? Милость теперь искать надобно черт знает кого, — на кого империя переписана? Кирилл мигом бросается к кровати, падая на колени. Саша. Его верный, лучший друг, стремительно угасает на глазах. Сердце сжимается от боли, вызванной бессилием и неисчерпаемым горем. Кирилл хотел было сказать, мол надо было воротиться домой, мол поздно не было, да только слова становятся поперёк горла. И впрямь, самое неподходящее время для споров. На самом-то деле, этого времени более никогда не наступит. Он начинает мелко дрожать, а вместе с тем скатывается по щеке первая, одинокая слеза. Невозможно вслух признать, подтвердить то, что столь очевидно. Невозможно согласиться с тем, что он умирает.
— Саша, — одними губами, сипло. — Поживём, конечно, поживём, — шепчет, и так глупо сие звучит в последний миг, пахнущий смертью. Бессмысленные, никому не сдавшиеся утешения. Смотрит в блестящие глаза, удивительно прояснившиеся, неотрывно. Так больно слышать собственное имя и отчество, что использовалось как издевательство дружеское, как шутка, вовсе не всерьёз. Как больно от осознания, что больше не будет ни шуток, ни дружеских перебранок. Больше ничего не будет. Как больно.
— Обещаю, слышишь? Обещаю! — словно громкие обещания повернут время вспять, облегчат его боль. Разумеется, мысли Волконского не долетают до столь далёкого будущего. О себе вовсе не думает. Только о Саше, только о том, как бы хотелось забрать его боль и вовсе оказаться на этой постели. Пристально вглядывается в его лицо, и сердце замирает: неужто конец? Только не конец! Зазвучит его угасающий голос, и какая-то глупая надежда в груди слабым огнём вспыхивает. Везде враги, повсюду враги. Следом за надеждой разгорается и чистая ненависть. Он ведь, догадывался. Одной с таким не сдюжить, — если бы только знал, о чём говорит Саша. Если бы только знал, сколь бед и боли можно было избежать. Дрожь становится лишь крупнее, сильнее, будто его самого бросает в сильный жар — от гнева и горя. Не до любви в сей миг. Не до чего-либо. Кирилл вовсе дар речи теряет, не готовый мириться с жестокостью судьбы. За что, Господи? За что? Его то отгоняют, то позволяют подойти к кровати, и снова отгоняют, а он и внимания на всяческие унижения не обращает. Перед ним только Саша умирающий. И пустое будущее. Есть ли у них теперь будущее?
— Даю слово, — он делает над собой усилие, дабы голос не дрогнул и прозвучал уверенно; в голосе сквозит з л о с т ь, сквозит желание немедленной мести. Да только немедленно не выйдет. Знать бы, сколь пережить самому предстоит. Пережить ради того, чтобы выполнить данные сейчас обещания. Взгляд делается недобрым. — Я найду всех. Они за это заплатят, непременно, — прошепчет, едва сдерживая горячий порыв. А после только кивает головой.
Стоя подле него, Кирилл вовсе чувствовать что-либо перестал. Ненадолго, впрочем. Наступает оцепенение, когда неизбежность является. Смотрит на его лицо, на его последнюю улыбку, на глаза, отражающие тысячи остро сияющих звёзд. Ему совершенно плевать на всё, что происходит вокруг. На всех, кто собрался здесь. И только когда закрываются его глаза, Кирилл снова падает на колени, хватаясь за ещё тёплую дружескую руку.
— Пожалуйста, нет... не уходи, Саша, пожалуйста... пожалуйста, прошу тебя, — умоляет как никогда, никого не умолял, горячо и скорбно, а из глаз текут слёзы. Не стыдно. Плевать. Слёзы текут сами собой. Лишь несколько долгих минут спустя становится ясно, что мольбы его услышаны не будут. Становится ясно, что сердце его более не бьётся и тело покинула жизнь. — Нет... нет, — опускает голову, касаясь лбом его рук, сложенных на груди. Все знали о близкой их дружбе. Многим сие не приходилось по душе. Многие только рады потешаться над ним теперь. Подле Саши быть более не позволяют. Никогда не позволят.
В тот день страна лишилась своего императора. В тот день Кирилл лишился лучшего друга.
Наутро в неразобранном до конца лагере начинается суматоха. Прежде чем погрузиться в скорбь, надобно многие задачи порешать. Писарь генерала под диктовку полковника пишет письма в ближайшие полки, так как не целым стадом все тридцать тысяч солдат направлялись завоёвывать Крым. Завоевание было решено отложить вовсе. Столь скорбным событием прикрывали и невозможность наступления из-за диких холодов, недостатка продовольствия и фуража. Русская армия оказалось совершенно непригодной, а теперь она потеряла своего императора и дух её мигом угас. Генерал самолично отправляется в столицу с известием во дворец. Свет кружится, кружится беспощадно. Кирилл хотел было вызваться на помощь, однако получил самый жестокий отпор и приказ знать своё место. Тогда он не понял, что отныне всегда должен будет его знать. Сквозь суету и одолевшее горе, никто и не обратил особого внимания на исчезновение императорского секретаря. Никто и подумать не мог, что завещание было писано. Какой-то молоденький казачок, состоявший при Саше и писаре, вручил Кириллу письмо, на котором его имя было указано. До письма дела никому не было, разумеется. Кроме мальчишки худощавого, трясущегося от холода и страха. Письмо Кирилл выхватил из рук, да только прочесть сосредоточено так и не смог. Голова нещадно кружилась. Сердце изнывало. Повинуясь духу бунтарскому и волне несдерживаемой ярости, он оседлал Плутона и бросился прочь, следом за процессией, которая увозила тело в Петербург. Елизавета, — ещё одно имя, которое терзало душу.