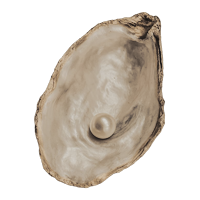***
не привыкайте к счастью
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться22024-04-13 14:19:54
H o w c a n I s a y t h i s w i t h o u t b r e a k i n g
I loved and I loved
. . . and I lost you
Здесь благостно, как наверное и полагается для любого монастыря, особливо для монастыря маленького и женского. Здесь, вдали от мирских тревог и сует, поближе к Богу, трудятся и молятся сестры – еще совсем молоденькие, с живым [старшие строго говорят «греховным»] взглядом детей девушки и совсем уже согбенные под тяжестью то ли прожитых лет, то ли все тех же грехов [своих ли? чужих ли?] монахини постарше. Святая Покровская обитель с горы иному путнику видна как на ладони, словно бы разделяя мир пополам – вот тебе Москва, с ужасающей громадой бесчисленных домов, белокаменных церквей Кремля, горевшая и не выгоревшая еще дотла чисто по какой-то случайности, шумная, с базарами и рынками, ужасно конечно же возгордившаяся вернувшимся к ней статусом столицы Российского государства. А зайдешь за каменные стены обители и словно и нет этого громкого шума площадей – скромные каменные своды кажутся глотком свежего воздуха после всего величественного золотого убранства Кремля. Колокольный звон к вечерней, мычание монастырских коров, потрескивание лампадок в кельях, запах свежего монастырского хлеба – вот то, что сопровождает здешнюю в общем-то неприхотливую жизнь. Здесь благостно. Здесь покойно. Здесь «невесты Христовы», которые однажды попадут в райские сады Спасителя. Несомненно так. Да, здесь свято. Даже если вон та, остроносенькая послушница, которая прикрикивает неожиданно весело и неожиданно для этого места звонко на упрямую козу, которая отказывается уходить обратно в загон, здесь лишь потому, что ее, да и все ее состояние завещали церкви. Даже если сестра Феодора, ходит неторопливо и вечно словно склоненная не потому, что отбивает поклоны в храме, а потому что в очередной раз была бита розгами и стояла на каменных высоких ступенях, отбывая свою епитимью, наложенную за «ее гордыню» - все никак не может смириться, что отправил ее сюда муж, а сейчас, пожалуй что счастлив, с новой женой. Все равно благостно. Все равно с в я т о.
Внизу расстилаются луга, летом покрытые стаями ромашек и окутанные запахом горькой полыни, а за ними, течет река, то и дело волнуемая всплесками весел об или шумящая под рулем грузных пузатых суденышек, которые плывут от плодородных земель Российской империи и наделяют алчную Москву хлебом. Чуть поодаль от речки звенит листьями дубовая роща, там молодые пастухи, сидя под тению дерев, поют простые, унылые песни и сокращают тем летние дни, столь для них единообразные, а после отгоняют неторопливые сада прочь, на ночь.
Монастырское кладбище производит впечатление скорее противоположное – мрачноватое и унылое, с могилами, заросших высокою травою, с развалинами надгробных камней на которых уже и не разобрать чья несчастная душа здесь похоронена. Некоторые из окон келий смотрят прямо на это кладбище и ей становится неуютно, представив, как они просыпаются и видят эти простые крести каждое утро вставая к утренней службе. За деревянными решетками окон, если смотреть со стороны двора может и можно увидеть неясные очертания темных фигур: седая старица, преклонившая колена перед аналоем с постоянно горящей лампадою и образом Божией Матери, молящуюся разве что теперь о том, чтобы разрешили ее от земных оков, так как кроме чувства постоянной ломоты во всех частях своего старческого тела и усталости [она пережила всех родных своих – никого и не осталось], все исчезло для нее в этом мире, все утратило краски. Вот — юная печальная монахиня-сестра, недавно принявшая постриг с бледным лицом, с томным взором — смотрит в поле сквозь решетку окна, видит веселых птичек, свободно плавающих в море воздуха, видит — и плачет тихо, чтобы никто не услышал. Что теперь горевать? Она здесь все одно как в темнице, завянет, засохнет как полевой цветок, сорванный жестокой рукою — и унылый звон колокола возвещает о том, что она недолго так протянет [да-да, и тебе ведь говорили тоже самое, Лиза, когда ты со злыми, горькими слезами кричала той, что теперь смотрит на тебя, забрать с собой. «Нет, Лиза, не для тебя это, ты слишком для того живая, ты слишком любишь жизнь»].
На вратах храма образ Богоматери обращает неприятелей в бегство, напоминая о том сколько раз враги пытались осаждать окрестные земли, а несчастная Москва от одного бога ожидала помощи.
Лиза теперь как все та Москва, неожиданно беззащитная и кажется, кроме Бога надеяться особенно и не на кого. Смешно сказать – если кто-то несколько лет назад рассказал бы ей, что она по своей воле отправится под стены древнего монастыря просто для того, чтобы искать защиты она бы не поверила. В конце концов покойный ее отец монастырями угрожал, как только она отказывалась от очередной помолвки. Смешно – ты ведь и бежишь сюда от этого, теперь, не так ли? Бежишь ли? Да и разве не уходят в монастырь, когда земная жизнь начинает давить на плечи или теряет всякий смысл?
Она изменилась с тех пор, с каких Лиза ее запомнила – черты лица кажется заострились, тени легли под глаза, а и без того всегда бледная кожа стала еще бледнее, оттеняемая черным монашеским одеянием. И все же в ней угадывалась Наташа, а теперь сестра Евдокия, с которой они когда-то прощались после похорон Саши. Но теперь, Лиза понимала ее гораздо лучше. В глубине голубых глаз поселилось незнакомое ранее выражение спокойствия, а возможно и смирения, из-за которого теперь это спокойствие и проглядывалось в ее алебастрово-бледном лице.
Они смотрели друг на друга – потерявшие любимых, благородные, но неуловимо разные, стоя напротив друга застывшими в секундном мгновении статуями. А потом Лиза дернется, дернется с каким-то полукриком, полустоном и маска беспечного равнодушия, которую она успела примерить на себя за это время ломается на ее лице вместе с этим порывом. Дернется к ней, к Наташе [нет-нет, упрямо не может звать ее по новому, ведь это только для нее, для Наташи все изменилось и она с тем смирилась, а Лиза не может, совсем не может], падая в распростертые объятия того единственного человека, который так или иначе связывал ее со всем хорошим, что с нею было.
Они были женщинами ужасно похожими друг на друга.
Но такими разными.
Одна смирилась.
Другая нет.
***
Лиза одергивает подол платья – он цепляется за мокрые еще от росы кусты и шуршит по дорожке тихо и неторопливо, а она только стремится дальше, плотнее укутываясь в платок, не обращая внимания на эту утреннюю свежую прохладу, которая оставляет на плечах поцелуи в виде россыпи мурашек. Никто, разумеется никто не встает так рано кроме нее [и кроме, разумеется всей дворцовой прислуги, которая кажется иной раз и вовсе не ложилась], выскользнувшей из дворца и пробирающейся в тумане почти на ощупь, но с поразительной ловкостью – она знает тропинки в парке наизусть и добраться до конюшен для нее не вызывает никакого труда. Месяц серпом разделяющий небесное полотно побледнел, но еще виднеется на небосводе, того и гляди еще немного и запоет жаворонок, прилетевший сюда на смену соловьям, которые всю ночь пели под окнами, заливаясь прозрачными трелями.Из-за тяжелых ворот конюшни льется теплый желтый свет, а значит он, наверняка там, как она и предполагала. Толкнет тихонько поддающуюся со скрипом дверцу рядом, оказываясь в теплом [особенно по сравнению с прохладой, которая царит снаружи] помещении, где ее мгновенно окутывает запах сена и овса. Тихонько заржет в стойле Серебрянка – фыркает, поводя изящной серой головой, почуяв очевидно ее, Лизу и выдавая тем самым с головой, заставляя того, к кому она пришла, ожидая увидеть его внутри, повернуться, оторваться от разложенных на столе карт и приподнять свечу, освещая пространство между ними. Все верно, если Лизу надобно было обычно искать на голубятне, покрытую птичьим пухом и соломой, то Сашу наверняка в случае чего стоило искать здесь, рядом со своим любимым Плутоном и «тайным убежищем», где они с Кириллом Андреевичем очевидно строили планы о том, как лучше на Руси жить и очевидно также думали, что она ничего и не знает. Как обычно, ее брат, решивший очевидно таким образом о Наташе забыть, ее, Лизу, недооценил.
«Если бы только знала, насколько ты меня, Саша, переоценивал… Если бы только знала…».Саша, будущий император, сейчас на него не походил – с растрепанными светлыми волосами, в рубашке, к которой пристала солома [она и в его волосах наблюдалась] и в общем и целом слишком помятом виде, чтобы издалека принять его за особу монаршею, хотя стоило признать, что даже в этом случае он выглядел удивительно хорошо, так мог умудриться только Сашка.
Пару секунд они молча смотрят друг на друга, словно убеждаются в том, что не призраки, а после он первым ставит свечу на прежнее место, кивая на сопящего конюха, мол, не кричи только, а Лиза обиженно засопит, потому что он снова вздумал считать ее маленьким ребенком, но подходит ближе. Протянет руки к повеселевшей Серебрянке, почешет за ухом, выуживая из-за пазухи пару кусочков сахара.
— Как узнала, что я здесь, скажи на милость? – негромко спрашивает тем временем старший брат, очевидно не поверивший в ее спектакль относительно равнодушия к своей персоны. А Лиза-то планировала подольше играть святую наивность и изображать, что она здесь так, мимоходом. С кем-то срабатывало, а вот с Сашей никогда. Для него она всегда оказывалась недостаточно хорошей актрисой.
— Ты с детства если что, то здесь прятался, будто не я всегда тебя находила, — она передергивает плечами, платок грозится окончательно упасть с них, а Саша со вздохом таким тяжелым, словно это не посильная задача тянется, поправляет его на ее плечах качая головой. — А теперь вы здесь прячетесь с Волконским, строите свои грандиозные планы, а ты думаешь я не знаю почему ты на самом деле здесь прячешься даже по ночам, а я знаю!... — на последних словах ее голос повышается, но сообразив, что сказанное было лишним, Лиза прикусывает язык, впрочем, слишком поздно. Голубые, яркие и всегда такие чистые глаза опасно сверкнут в теплом полумраке помещения и покажется, что вот-вот ответит, возразит что-нибудь с вызовом, но знакомый упрямый блеск в глазах пропадает, оставляя место выражению, которое она успела возненавидеть за это время – грустной усталости, даже эта печальная улыбка снова окажется на его губах. А печаль Саше совсем не свойственна – он может улыбаться насмешливо [почти саркастично], лукаво или же неожиданно открыто, по-настоящему. Его улыбку все любили, а это…это совсем не про него, это выглядит так, словно он со всем смирился. И если Наташу, которую пытаются выдаться замуж еще можно было понять [Лиза забыла, когда на ее лице видела в последнее время что-то кроме застывшей скорбной маски], то Сашино вселенское смирение нет. И да, с одной стороны она, конечно была рада, что печаль старший брат решил топить не в медовухе или вине, а занимаясь делами, но с другой… нет, нельзя смирятся с несправедливостью! Нельзя было позволять Наташе выходить замуж! Так ведь совершенно… не честно! [как по-детски Лиза, как предательски по-детски…]
— Верно – прячусь, — он улыбается почти ласково, запуская пятерню в и без того растрепанные волосы, смаргивает очевидную дремоту, прежде чем вернуться к беспорядочно сваленным на грубый деревянный стол бумагам. И такой бардак тоже совсем не в его натуре, которая порою доходит до педантичности. А сейчас…а сейчас ему словно и все равно. Он даже не спорит с ней, словно у него на это совсем не хватает сил.
Лиза отбрасывает рукой назад непослушный рыжий локон волос, перегораживая ему дорогу, не давая очевидно того покоя, которого он хочет, словно старец какой. Нет уж! Его так оставь, то он того и гляди женится на французской принцессе, которую пророчат ему в мужья, а после станут они такими же несчастливыми, как их собственные родители.
— И с каких пор, ты в труса превратился? – она обвинительно складывает руки на груди, в очередной раз не давая ему прохода. На его лице мелькнет раздражение, отражающееся в слегка потемневших глазах, но эмоция этого раздражающего смирения, поселившаяся в нем с того самого дня, как она услышала их с Наташей разговор [так неудачно оказавшись плотно прижатой к чужой груди] и отказывающаяся уходить прочь.
— Разве не ты хотела, чтобы я занялся чем-то более полезным, нежели хождением по трактирам и кабакам? — сейчас, он явно предпочел бы, чтобы она куда-нибудь испарилась, но он должен слишком хорошо знать Лизу, чтобы на подобное рассчитывать. Поэтому, придется с ней разговаривать.
— А что, кроме как упиваться в таких местах ничего на ум не пришло? Саша, — она пытливо вглядывается в его лицо родное и чужое одновременно. — не можешь же ты всерьез допустить, чтобы это случилось! Ты же ее любишь! Или же ты вправду поверил в то, что наговорила тебе Наташа в ту ночь? Неужели ты не понимаешь, что она так не думает, что ее заставили, что…
— Конечно понимаю, — и снова он отвечает неожиданно быстро и столь же неожиданно покладисто, что только раздражает сильнее, Лиза уже силится заспорить [и честно говоря заспорить сама не зная о чем, ведь на спор его теперь и не вывести, а так хочется его растормошить и разбудить поскорее], но Саша ее опережает, словно предчувствуя новую волну аргументов, с которой он попросту не хочет справляться. — Но я еще кое-что понимаю, — взгляд становится жестче и в такие моменты он как никогда напоминает отца, пусть в обычное время между ними так мало общего. Но самое главное, что их объединяло даже несмотря на внешнюю непохожесть и непохожесть казалось в личностях так это фамилия. Романовы они и есть Романовы. Так иногда Борис Федорович любил приговаривать, а Лиза терялась в догадках, глядя на лицо канцлера – говорит это Сашин крестный и отцовский сподвижник с добротой или раздражением. — Я понимаю, что любовь таких как мы с тобой, любовь царей, императоров, принцев, царевичей – не важно, такая любовь губит, — слова словно припечатывают к земле и говорит он их с таким отчаяньем, что становится не по себе, а Лизе снова холодно, хотя здесь, в конюшне, в окружении лошадей и тепла от соломы на самом деле очень даже тепло. Саша и не смотрит на нее теперь, глядит куда-то поверх головы [что получается у него отлично, учитывая их разницу в росте], разговаривая словно бы не с ней, а с невидимой фигурой, которой он это выговаривает.
«Это я потом пойму, что у каждого из нас есть свои призраки, свои тени, которые за тобой следуют неотступно. Тогда у меня тени не было – она была у Саши. Ведь тень появляется лишь у того, кто действительно т е р я л».
— Да, наша любовь эгоистична, потому что она всегда будет приносить другим боль, страдания. Она и нам-то их приносит. Потому что в итоге мы вынуждены смотреть, как те, кого мы любим страдают. Такие как мы своей любовью скорее проклинают, если уж так случилось. И от того, Лиза, я и дальше буду прятаться, я д о л ж е н прятаться.
Лиза дернется, то ли удивленно, то ли испуганно, как если бы его слова хлестнули наподобие плетки или кнута. Неверяще заглядывает в его лицо, пытаясь отыскать в нем следы прежнего Саши, словно пытается найти на его лице следы того, что она просто неправильно его поняла. Тщетно. Лиза качает головой, упрямо, не собираясь соглашаться с мыслями столь крамольными.
— Так что же, по твоему, лучше замуж за старика, чем твоя любовь? Так выходит?
— А был бы старик, если бы не моя любовь?... – задает он встречный вопрос, к которому она совсем не готова и он провисает в теплом воздухе, нависает над ними каким-то дамокловым мечом. Того и гляди – голова с плеч.
— Но ты же ее л ю б и ш ь… — повторяет она, повторяет почти растерянно, хватаясь за единственно и такое очевидное, не желая отпускать это слово, которое вроде бы свято.
— Иногда этого недостаточно, Лиза. Иногда этого недостаточно… — и в его глазах поселяется такая страшная, черная тоска, что даже ей, которая шла сюда в твердой уверенности, что сможет все исправить просто поговорив, хочется плакать.
А жаворонок запоет где-то за тяжелыми воротами конюшни.
Наступает утро.
Лиза конечно же не верит никому, когда ей упорно говорят о том, что Кирилла больше н е т. Она не верит даже своим воспоминаниям, своим собственным глазам — в конце концов воспоминания отрывочны, а то, что она видела прежде чем потерять сознание в проклятой карете, ей просто хочется забыть. Она помнит свой крик, раздирающий пространство также громко, казалось, как разодрал его и выстрел [а может она вовсе не кричала и ей только это казалось, а изо рта вырвались только молчаливые хрипы?...]. Она помнит, как краем уходящего прочь сознание успела уловить темную фигуру Плутона и его то ли испуганный, то ли встревоженный голос [Саша любил повторять, что его коня не так-то и легко напугать]. Упал ли он вместе со своим наездником или остался стоять как вкопанный, лишившись седока? Помнит промелькнувшее перед глазами поле то ли с цветами [вспоминается, как они счастливые ехали по такому же полю, а Саша набрал полный букет ромашек на полном ходу и вручил его Наташе и все тогда были свободны и счастливы, а Кирюша, ее Кирюша улыбался, так улыбался…], то ли с высокой травой, за которыми и не увидишь тела, укрытого знакомым плащом – взгляд успел поймать только его кромку, но она конечно знает, ч е й он.
Но всех этих воспоминаний недостаточно, недостаточно для того, чтобы она и вправду оказалась убеждена, что Кирилла нет. Ведь если она в это поверит, это и вправду будет означать, что это правда. А если это правда, то…зачем такая жизнь? Так можно и в омут первый попавшийся. И да, Лиза и себя, и его самого убеждала и заклинала, что им придется смириться с произошедшим с ними [а именно собственной свадьбой], но это отнюдь не значило, что она могла бы хотя бы на миг смириться с его возможной с м е р т ь ю [произносить это становится так невозможно болезненно и Лиза не произносит, отвергает, отвергает даже мысленно]. Он ведь в конце концов обещал, он обещал, обещал, обещал… Обещал быть с ней, ее не отпускать. В конце концов хотя бы для этого ему следовало оставаться в живых!
«Саша тоже обещал. И где он теперь? Не лежит ли он в золотом гробу где-то в Петропавловском соборе? В холодном саркофаге не его ли тело медленно разлагается? Не Твоего ли красивого и всегда такого жизнелюбивого старшего брата?...».
Голос, этот голос в голове, которого она даже боялась, особенно боялась теперь вечерами, когда опускалась на землю т ь м а, а голос родившийся где-то в глубине подсознания склизкими щупальцами проникал в самое ее существо и буквально парализующий. Этот голос нашептывал ей страшные, мрачные мысли. В такие минуты ей казалось, что чьи-то костлявые пальцы смыкаются на горле и становится совершенно невозможно дышать [может это были пальцы смерти, которая за Романовыми ходит все одно что по пятам]. И становилось страшно, ужасно страшно, почти жутко – казалось, что кто-то стоит у окна и ухмыляется жестокой победоносной усмешкой, после того, как отобрал у нее последнего, кого она посмела л ю б и т ь. Но Лиза храбрилась и звук этого голоса исчезал с рассветом. А после рассвета появлялись другие голоса, которые по своей воле или нет, но пытались убедить ее в том, что Кирилла больше нет.
Громче всех звучал конечно голос Василия Федоровича и этот голос оказывался ненавистнее остальных, потому что хвастался с в о и м выстрелом он с такой радостью, будто выиграл войну. И он единственный находил в этом какое-то злорадное удовольствие, отлично сознавая при том, что для неё это значит и возможно таким образом чувствуя себя хоть как-то отомщенным [боже, Вася, что сделала с тобой эта жизнь, что она со всеми нами сделала?].
Но были и другие. Они то с сомнением, то с сочувствием качали головами и мягко возражали на ее: «Нет, он жив» [это было первое, что она сказала, очнувшись уже во дворце]. «Если он жив, если бы он и вправду был бы жив, то он наверняка хотя бы как-нибудь дал о себе знать, едва предположив, как можешь ты беспокоиться за него», — припечатала одним холодным, но таким чертовски разумным Варя и Лизе захотелось заткнуть уши, но толком н
е было сил. Проблема в том, что замечание было на редкость правдивым, а все ее: «он ранен», «он ищет способ», «Плутон захромал» рассыпались вдребезги, сталкиваясь с внимательным взглядом подруги, в котором плескалось грустное сочувствие.
Осколки отскакивали прямо в сердце и резали «наживую». Какие-то в нем застревали и больно ныли, напоминая о себе ровно тогда же, когда и просыпался голос.
А потом Лиза конечно поняла, почему так происходит – просто по ночам ей доводилось [возможно и к счастью, что император в эти дни не решился беспокоить ее будучи слишком взбудоражен произошедшем] оставаться о д н о й. И каждый раз, засыпая на холодной пуховой подушке она была о д н а. А когда просыпалась на одно-единственное мгновение забывая обо всем, что было, счастливо потягиваясь и балансируя где-то около сна и реальности, ей казалось, что он дремлет на соседней подушке. Но сон быстро проходил, солнце гасло, а подушка была, увы, пуста.
Кирилла не было.
Говорить «не стало» слишком страшно.
Вот поэтому теперь, нервно измеряя шагами комнату, мечась по приемной гостиной нервной тенью самой себя [за то время, пока шло некое «тайное расследование» учиненное скорее для вида, за то время, пока капитан Преображенского полка числился сгинувшим без вести, Лиза стала все более напоминать скорее призрака с впалыми щеками и нездоровым блеском зелёных глаз] Лиза с таким живым нетерпением ждала прихода Володи. Когда ее чопорно, как полагается спросил лакей в напудренном парике: «Примет ли Ваше Высочество поручика Ростова?» она едва ли не накинулась на него, потому что тут не могло быть никаких вопросов. И пусть она тысячу раз убежала себя, что не станет строить надежд, не станет отягощать своими надеждами, собственно, Володю, но как только он вошёл, то все обрушилось.
Лиза, конечно же, надеялась.
— Володя?... — ее лихорадочные, спутанные движения прекращаются, как только его впустят в гостиную, а она замирает как вкопанная, едва ли удержавшись от порыва ринуться к нему сейчас же. Вместо этого она неловко покачнется, удерживаясь за спинку кресла, смаргивая неожиданно набежавшую темноту на глаза – правда сказать, никогда еще не чувствовала она себя настолько болезненно, как в эти последние дни. Лиза смахивает все на произошедшие события, скудное питание через силу и постоянное недосыпание. О чем-то другом она и думать не может.
Он, конечно же силится подойти, поддержать, помочь. Все они одинаковые, все они – эти благородные мужчины, которые стараются поймать твою руку, чтобы не дать тебе упасть, а после ввергают в самую настоящую пучину отчаянья, с которым так или иначе придется столкнуться. Лиза жестом остановит его от этого, выпрямляясь и выдыхая, не желая терять время на ненужные теперь никому формальности. Впрочем, этих мужчин она знает и знает, что соблюдать формальности для них иногда жизненно важно. Словно они помогают выживать в мире, где все рушится. От того он перед ней сейчас, наверное, даже не Володя [так нелепо это срывается с губ не подумав], а поручик Преображенского полка.
Поручик.
На языке загорчит и она даже не сразу понимает, что прикусила губу – так плотно сжала она губы. Кровь окажется на языке, пока она силится проглотить образовавшийся в горле комок. Она помнит. Помнит, как Кирилл, ее Кирилл стал поручиком, а после хвастался и капитанским мундиром. Как недолго пришлось ему носить его… Но, нет, нет, еще не все кончено, еще ничего не кончено.
Лиза складывает руки перед собой, поднимает подбородок.
— Рассказывайте, поручик.
Она конечно видит его взгляд – она уже видела его у некоторых здесь. Этот взгляд сочувствующий и заранее говорящий о том, что им «очень жаль». И от того приходится храбриться еще сильнее, стоять еще неподвижнее, вытягиваясь в одну напряженную струну. Но вот этот взгляд… разве не с такими же скорбным, потерянными взглядами смотрели на нее собственные пажи в ту роковую ночь, когда мир разбился? Разве она уже не видела где-то этих взглядов?
Но, вы, конечно, рассказывайте, поручик.
Я выдержу.
Вот что будет говорить мой взгляд. Хотя я совсем в этом не уверена.
И он говорит, говори о «падении с лошади» - это конечно же чушь и они оба отлично это знают. После Саши [а может быть и перед ним] Кирилл оказывался слишком хорошим наездником, чтобы упасть с лошади настолько неудачно. Володя, может лишь догадываться об этом, как друг, а она не просто догадывалась – она знала точно. Она видела, как разъяренный и ослепленный ненавистью Василий Федорович вытащил револьвер, слышала залп, разрезавший воздух \\ ее мир на до и после, да и в конце концов Плутон никогда бы Кирилла не сбросил. Он сбросил бы кого угодно, но не его, даже если бы сам захлебывался в кровавой пене. Только где теперь вороной? Где теперь Кирилл?
Зеленые глаза заблестят лихорадочно и тошнота в очередной раз подкатит к горлу, пока в голове крутится тысяча и одна причина почему все чушь, ложь, почему Кирилла нельзя называть «телом» [это также противоестественно, как было видеть Сашу, который сам по себе являлся олицетворением к слову «жизнь», в гробу]: слишком хороший наследник, а как же «живучие Волконские», да и в конце концов, Володя, разве не знаете вы, какой плохой наш император стрелок – а попасть в движущуюся мишень, да еще и высунувшись из несущейся черт знает куда кареты, не каждый опытный военный сможет. И еще тысяча причин – почему это чушь. Но ни одну она не говорит, просто продолжает смотреть на него глазами жаждущего в пустыне.
Хотя бы одну каплю воды.
Хотя бы одну хорошую новость.
Но разве не знаешь ты, что твои молитвы богу давно опостылели?
— Но тело, тело вы ведь не нашли? — голос зазвенит, она сама кажется предательски дрожит, стараясь сдержать эту нервную дрожь всеми силами. Но ей холодно, холодно, холодно. — Вы ведь так и не видели его тела. Когда умер Александр Петрович тело привезли в столицу, а тела Кирилла… — она сглатывает эту отвратительную тошноту и продолжает. —…тела Кирилла нет. Вы его не видели, его не нашли, он все еще пропавший, если тела не нашли! — голос опасно повышается, как бы не старалась держать себя в руках. А собственно – к чему ей теперь сдерживаться?
За что ей теперь держаться?
А он, жестоко, но правдиво [ведь такие мальчики как Володя или Кирилл совсем не умеют врать] рассказывает про трактир, про мужиков, про «молодой, может быть красивый, пойди разберись, когда мертвец». Рассказывает кратко, почти что сухо, скрывая наверное и половину из того что чувствовал или видел – возможно берег ее, а возможно просто не в силах возвращаться туда. Он был его другом, а ты погубила его. Это т в о я вина.
А потом он просто говорит [нет, для него это конечно же было не просто], заканчивая, что Кирилл мертв. Мертв. М е р т в. И на этом самом слове она невольно прикрывает глаза, словно это поможет от этих слов спрятаться. Ее мир неожиданно съеживается, чернеет, из него стирают все краски одна за другой, а звуки исчезают – наверное так, чувствует себя контуженный взрывом пушечного ядра. Голос в голове, оживший от таких новостей, злорадно хохочет, спрашивая мерзким голоском: «А я что говорил?». Но Лиза его на этот раз не слышит, она слышит только как бьется сердце в ушах, слышит как выбивает в ушах одно-единственное: «мертв». Кирилл мертв? Кирилл, который вернулся с войны и выжил? Кирилл, который ей обещал мертв из-за человека, который даже не умеет стрелять? Мир продолжает уменьшаться, а сердце продолжает дико стучать в груди, а одновременно с этим из легких словно выкачивают воздух. Лиза задыхается, но почему тогда умудряется говорить, стоять, почему умудряется жить, если его н е т?
Ее уже обманывали с его смертью. И тогда она сказала, что непременно почувствовала бы, если бы его не стало. А сейчас она ничего не чувствует. Но если Володя так уверен, не лучше ли согласиться? Не проще ли поверить? Но как объяснить, что если она поверит в это – надежда окончательно умрет. А если не поверит – то может до смерти его ждать? Надежда может быть самой жестокой вещью в мире, и бывает так, что самое большее, что может один человек сделать для другого, это убить безнадежную надежду. И даже если Володя, милый добрый Володя не собирался становиться таким палачом – ему пришлось.
«Он очень любил вас» - откуда-то из толщи воды слышится надтреснутый голос Володи, но от этих слов больно становится почти физически. Он очень любил и поплатился за это. Древние греки считали: безрассудная любовь – грех перед богами. И еще, помните: если кого-то вот так безрассудно полюбить, боги ревнуют и непременно губят любимого во цвете лет. Только попробуй полюбить человека — и он тебя убивает. Только почувствуй, что без кого-то жить не можешь, — и он тебя убивает. Так кто был карающим богом, Лиза? Ты? Или высшие силы?
— Нет, нет Володя… — она не может называть его поручиком. То ли потому, что момент тому не соответствует вовсе, а может потому, что так звала совсем другого человека, другому человеку так подписывала письма, другому, другому. Лиза поднимает на него взгляд, удивляясь тому, что может говорить, стоять и д ы ш а т ь. Ведь кажется, что уже задыхается? Или ей только это мерещится? — нет, вашей вины во всем этом точно нет. А виной Кирилла… — предательская пауза, она неловко запинается на его имени. —… Андреевича была лишь в том, что он любил меня. Его вина лишь в том, что я его любила. Один человек сказал мне, что любовь таких как мы – губительна и был прав… — она ненадолго замолкает, а мир вокруг нее продолжает быть ч у ж и м, он словно медленно рассыпается. В этой комнате казалось стояло ровно совершенно все и лишь она, кажется падала, проваливаясь куда-то. Тем не менее находит силы закончить. — Благодарю вас, поручик, благодарю вас за… все, — бледная, безумная почти улыбка касается губ.
Нет, она никогда ничего не попросит у него – хватило Кирилла, Кирилла д о с т а т о ч н о, достаточно уничтожать и терять хороших людей, хватит, хватит, хватит!
За ним закрывается дверь, а она остается внутри все той же гостиной, но стены теперь давят, стены грозятся раздавить. Стены шепчут на разные голоса, что он не вернется. Что она его больше не увидит.
«А я ведь говорила тебе, Кирюша. Я говорила, что не вынесу еще одного в гробу. Я говорила, я умоляла, я просто не должна была любить тебя. Вот только у тебя даже гроба нет. Вот только к тебе я даже прийти не смогу. Вот только, вот только, вот только!...».
Вот только теперь за тобой попросту будет ходить больше призраков.
Она хватает ртом воздух, а руками за какую-то изящную фарфоровую вазу – на вазе розы и искусно вылепленные амуры. Ваза разлетается, разбивается, острые осколки режут ладони, а в голове мелькнет мысль, шальная мысль, за которую Кирилл наверняка бы накричал на нее: один осколок и все решено. И все ведь будет решено, Кирюша, как было решено у твоего любимого Шекспира в «Ромео и Джульетте». И Лиза действительно поднимает особенно крупный осколок, вертит окровавленными пальцами, прикладывает к запястью, а комната вращается, темнеет, сужается. Кто-то войдет, кто-то закричит, а она…а она не успеет, не успеет, теряя сознание и с удовольствием открывая объятия темноте, поглощающей ее до того, как она перережет себе вены или сонную артерию.
Ведь жизнь… разве это теперь жизнь, Кирилл?...
***
Чья-то прохладная ладонь на лбу.
Чьи-то шаги – кто-то ходит по комнате, звенит склянками.
Пахнет чем-то терпким, тяжелым.
Кто-то спорит о чем-то в полголоса, но слов не разобрать.
Перед глазами в сознании [или в бессознательности] проплывают смутные образы, встают картины недавнего прошлого – то ли сон, то ли видение, толком не разберешь. Голова мечется по подушке, то ли от боли, то ли от настойчивого желания поскорее избавиться от преследующих тебя призраков.
Но призраки всегда оказываются сильнее.
Жить в твоей голове.
и любить тебя н е о п р а в д а н н о,
о т ч а я н н о.
Жить в твоей голове.
и убить тебя неосознанно, нечаянно.
Если бы она могла себе это позволить – она бы и не подходила к нему. Ты ведь уже ушла утром, Лиза, ушла, а он вроде бы отпустил [но совершенно не согласился ни с одним из твоих доводов]. Ты ушла, бросая на прощание разве что печальный взгляд и взгляды вперемешку с горькой тоской это пожалуй все, что вы можете теперь друг другу адресовать. Когда ты уходила утром, ты ведь отлично понимала, что на этот раз это уже навсегда. Какие-то несколько месяцев и будет ненавистная свадьба от которой не скроешься, всего через каких-то несколько месяцев ты будешь ж е н о й, но совсем не того человека. Еще утром, стараясь не смотреть в его умоляющие, такие красивые глаза, ты сказала как отрезала, как умела: «Нет, Кирюша, мы не сможем убежать. Что это будет за жизнь – вечно прятаться и бояться? Скрываться, как преступникам. И ведь все равно найдут».
В России всегда находят, если хотят. Это беглых каторжников, сбивающихся после в стаи разбойников не ищут – а царскую невесту будут и будут искать с особенной тщательностью. И конец всегда один – ее может и пожалеют, отправят в монастырь куда-нибудь подальше, или выдадут замуж-таки за какого-нибудь захудалого курляндского герцога. А вот с ним церемониться не станут – голова с плеч. Его лучший случай – Сибирь или какие каменоломни, с которых до сих пор в Петербург привозят валуны на строительство домов и дворцов.
«Но Кирюша, если бы ты только знал – как в ту секунду, когда ты уговаривал меня остаться, мне хотелось согласиться. Поддаться. Как в конце концов могло быть иначе, когда ты так на меня смотрел?...».
Ноги к земле приросли, пока она смотрит на него, а вокруг удивительная тишина – путевой дворец еще толком и не проснулся, только капли ночного ливня все еще стекают с листьев и разбиваются о землю. Вокруг птицы щебечут – им конечно все равно на то, что у кого-то жизнь кончена, они знай себе радуются, беспечные птички, которыми они тоже когда-то были.
Они смотрят друг на друга, застывшие как вкопанные на одном месте.
Он не хотел, чтобы она подходила.
Она не хотела, чтобы подходил он.
Потому что ее уверенности хватит разве что на пару секунд. А если он снова начнет просить, умолять, в конце концов называть «Лизой», то уверенность испарится. Поэтому не надо, не надо, не надо.
Солнце упрямо пытается показаться из-за туч, которые сохранились на небе с утра и продолжали нависать серой массой, грозясь разразиться новым дождем. Дороги, наверное, ужасно размыло…
Кто-то должен подойти и она, не чувствуя под собой ног, не чувствуя себя саму, подходит первой.
— Кирилл, — слова плохо даются, потому что в голове не укладывается, что она возможно зовет его так в последний раз. После – бессмысленные обращения вежливости [если она его вообще увидит, потому что при первой возможности – на границы, а может и за границы]. Но ты, Лиза, актриса хорошая – разве что Сашу не получалось обмануть. Но Саша умер. И нет ничего страшнее этого, этого слова «никогда». Но как только заглядываешься в это лицо, то вся заготовленная убедительная речь теряется. И вся сдержанность улетучивается. Лиза хватается за его руки, хватается обеими руками, словно за спасательный канат, словно если отпустит, то утонет. Так ведь оно и есть. — Кирюша тебе надо уезжать. Тебе надо жить. Неужели ты не понимаешь? Нужно, потому что так я буду знать, что ты жив, что ты есть. Как твоя смерть может помочь мне? Возьми, — торопливыми, несколько суматошными движениями сжимает в его руках брошь, не разрешая руки разжимать. — эту брошку батюшка дарил на 18-ти летие. Ты смотри на нее иногда и вспоминай свою бедную Лизу. Но только иногда. Слышишь? И живи, ты должен жить. Я никогда его не полюблю, я никогда не разлюблю тебя, я знаю. Но сейчас умоляю, прошу живи. И если для этого нужно остановиться, то и прошу, остановись сейчас.
Слышит ли он ее, понимает ли? Кирилл молчит, а она умоляюще вглядывается в это лицо, крепче сжимая в его руках украшение, не желая отпускать его пока он точно не пообещает ей не делать глупостей. Но он упрямый, ты же знаешь Лиза – ничего подобного он не пообещает.
Откуда-то из-за спины темной тенью появится Василий Федорович все одно что черт из табакерки. Бледное лицо со следами очередной ночи, проведенной за алкоголем, который он совершенно не переносит пойдет некрасивыми красными пятнами, расползающимися по коже. Заходят желваки и кажется еще немного и несчастный император взорвется. Взорвется от подобной наглости – подумать только, он ведь все делает, чтобы чертов Волконский не маячил перед глазами, но его снова ни во что не ставят. И это пожалуй для него с самого детства самое страшное.
Лиза отпрянет, отпрянет быстро, вставая между пышущим гневом императором и Кириллом не зная толком, кого пытается больше защитить, потому что в случае дуэли исход понятен. Шпагой Вася с детства владел отвратительно. Впрочем, если до этого дойдет, то никакой дуэли не будет. Для этого тут солдаты.
— Стоило отправить вас в Петропавловскую сразу, как вы вернулись, но мой отец все с этим тянул! Вы! Вы!... — его голос переходит в совсем не императорский визгливый крик, а Лиза, понимая, что еще совсем немного и фатальный исход будет гарантирован, едва ли не бросается к бессмысленно выпячивающему грудь Василию Федоровичу [но даже таким образом выглядеть представительнее или внушительнее ему не удается – он все еще неказистый человечек, неудачно провалившийся в сапоги не по размеру].
— Василий Федорович! Не стоит! Я ведь в а ш а невеста, я выйду за вас замуж, поэтому не надо!
Лиза не смотрит на Кирилла, Лиза просто не может на него смотреть.
Я ваша – звучит противоестественно и неправильно и больно режет язык. Это конечно ложь, но нынешнему императору ложь как раз нравится. Когда-то они с Кириллом говорили друг другу: «Не отдам», «Моя», Мой». Но в жизни так не бывает. В России так не бывает. Здесь слишком мало счастливых людей.
Кто-то хватает за плечи, оттаскивает прочь почти грубо, ноги слушаются плохо, а она силится обернуться, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.Кирилл, я спасала тебя до последнего.
От него. От себя. От тебя самого.
Но ты не хотел спасаться.
Запутались в полной темноте..
Включили свои огни.
Обрушились небом в комнате.
Остались совсем
о д н и
Лиза открывает глаза одномоментно и широко, распахивает их, глотая ртом спертый воздух. В комнате удивительно кажется душно, а от запаха лекарств снова подступает к горлу тошнота. Она приподнимается на подушках, чувствуя, как тупая боль пульсирует в висках, отбрасывая со лба полотенце, смоченное в какой-то душистой воде. Ладони еще саднит от случайных порезов, но она как минимум жива. Ей больно – а значит она жива. Все еще. Лишнее напоминание о том, что Кирилл нет.
Варя подскакивает с края кровати, на котором очевидно сидела все это время, подходит с противоположной стороны и медикус-француз [теперь их при дворе много, но месье де Флери был медикусом еще при ее отце, поэтому, ему, пожалуй можно доверять]. Медикус прикладывает удивительно прохладную надушенную ладонь к ее лбу, вглядывается внимательными глазами из-под стеклышек в ее лицо, словно ищет признаки то ли сумасшествия, то ли «падучей болезни».
— Ах да, я же упала в обморок… — говорит она самой себе, задумчиво, оглядывая их чем-то встревоженные лица.
— Ваше Высочество действительно упало в обморок… — с расстановкой и легким акцентом соглашается медикус. — Еще Гиппократ сказал, что в человеческом теле есть четыре жидкости — кровь, флегма, желчь и черная желчь. Равновесие этих жидкостей обеспечивает наше здоровье; дисбаланс приводит к слабости и болезням. Обычно обморок связан с потрясениями душевными и состоят в оскудении наружных чувствований и сведения о самом себе или так называемого лишения памяти, причем и движение жизненное заметно ослабляется… И в Вашем случае Ваше Высочество, я разумеется, могу предположить, что душевное потрясение ваше было весьма велико, но я вынужден сказать вам то, чего вы еще не знаете и возможно предпочли бы узнать в иных обстоятельствах…
— Месье де Флери… — Варя предостерегающе поднимает на него взгляд и этот взгляд не предвещает ничего хорошего, но он с легкостью его выдерживает. —…она только пришла в себя, это может подождать.
— Я прошу прощения m-lle Вяземская, но моя пациентка не вы и с таким не затягивают…
Лиза хмурится устало, прерывая так и не начавшийся спор. Выдает горько:
— В чем дело? Говорите, месье де Флери. Вряд ли вы сможете поразить меня сильнее, чем это уже сделали.
— Боюсь, Ваше Высочество мне придется поспорить с вами. Что ж, — его проницательный взгляд встречается с ее пустым, потускневшим, но твердым. Что он хочет ей сказать? Может, что она умирает от болезни, от которой умер Саша? А что – не так и плохо. Медикус вздыхает и говорит просто. — полагаю Вы не знаете, что Вы ждете ребенка?
Мир снова замирает. Ее словно окатывает ушатом холодной воды. Лиза неверяще разглядывает совершенно спокойное лицо медикуса, ищет признаки неудачной шутки, ошибки, того, что она ослышалась. Но ничего такого не происходит – они с Варей оба смотрят на нее со смесью опостылевшего сочувствия и смятения.
Она выдыхает, осознавая, что на какое-то время задерживала дыхание. На лице появляется кривая усмешка, а после эта нелепая гримаса сменяется скорбью, трагедией, горем. Лиза то ли хохочет, то ли плачет и лица людей, окружающих ее сменяются выражением озадаченной обеспокоенности. Может она сошла с ума от навалившихся вестей?
А Лиза смеется, горько и отчаянно, поднимая голову кверху, словно пытаясь таким образом достучаться до Бога. Бог как обычно оставался глух.
Почему? Почему теперь? Почему теперь, когда его н е т. Ведь это его ребенок, конечно же его. Тот самый ребенок, о котором они разговаривали, так почему теперь? И о боже, о боже мой, ты же хотела…ты хотела…ты могла себя… у б и т ь. А значит не только себя, но и этого ребенка, невиновного ребенка, которого ты, Кирюша, наверняка бы любил. О боже, о боже мой…
Отсмеявшись [или перестав плакать] Лиза замолкает надолго, прежде чем спросить одну-единственную фразу:
— Кто-нибудь знает? Кроме вас?
— Нет, Ваше Высочество. Ваше Высочество… я могу предположить, что в ваших обстоятельствах вы предпочли бы… Я бы мог помочь устранить эту проблему, если вы хотите. Об этом тоже никто не узнает.
Лиза поднимает на медикуса непонимающий взгляд, словно ослышалась. Но он остается серьезным снова, а она осознает, что он вполне серьезно предлагает избавиться от ребенка. Его ребенка. Всего, что ей от него осталось. Рука сама собой порывистым движением прижимается к животу, словно это может помочь дитя, которого не должно было быть.
Твой прощальный подарок.
Как жестоко.
На лицо набегает тень.
— Вы предлагаете мне избавиться от ребенка? Ни за что. Этого не будет.
— Лиза… — Варя смотрит на нее прямо и кажется, собирается заспорить. Конечно, оставлять никак нельзя – как объяснишь это будущему мужу? Если узнает – в лучшем случае этому ребенку позволят родиться, а потом с глаз долой из сердца вон. Она даже на руках его не подержит. А так – воспользуются услугами медикуса. После таких операций не все выживают, но есть ли иной способ? И Варя, ее разумная Варя, это конечно понимает. Ребенок без отца – позор, клеймо, а если мальчик? Вечный байстрюк.
Но Лиза все решила. Решила удивительно быстро. Взгляд становится тя
желым, непреклонным.
— Ребенок родится. Я так сказала. Не спорь, Варюша. Я знаю, что ты думаешь. Но неужели ты не понимаешь, что теперь у меня есть повод…жить? Он теперь есть.
— Как ты будешь объяснять это императору? Это не получится долго скрывать, Лиза.
Лиза задумчиво посмотрит в окно, на хмуро догоравший вечер.
А знаешь, Кирюша, сколько раз представляла, как ты обрадуешься этому? Как расскажу тебе об этом. А ты умер. Все говорят, что ты умер.
Вновь повернется к застывшим в напряженном молчании медикусу и подруге.
— Значит я сделаю так, что у него будет времени и желания задавать мне вопросы. Актриса я хорошая. Не смотри так, Варя, — выражение отвращения на ее лице скрыть сложно. — Месье де Флери я могу надеяться…
— Разумеется, Ваше Высочество, — он понял ее даже без окончания вопроса. — я умею хранить тайны моих пациентов. Я давал клятву.
***
Она сидит на противоположном конце стола, дожидаясь когда сменится очередное блюдо. Вокруг смеются придворные, иностранные гости [в основном конечно же все те же французы]. Громче всех хохочет император со съехавшим куда-то вбок париком и уже очевидно, перебрав лишнего – пить он так и не научился. Недалеко от него сидит Наденька – скоро выйдет замуж за брата французского короля, пожалуй, мечта Бориса Федоровича сбылась. По Наде при этом не скажешь, что она счастлива – счастливые девушки не носят цветы на могилу своей беззаветной любви [о которой Саша так и не узнал, верно, Надя?]. Иногда она пытается тихо, неуверенно урезонить своего брата, но ее голос заглушают все те же Голицыны, которым, по понятным причинам видеть императора в нетрезвом состоянии очень даже приятно и по крайне мере выгодно. В таком состоянии он по крайней мере не болтал постоянно о картинах или о том, как «всех прижучит».
Столы тем временем от еды ломились, как и всегда половина окажется несъеденной. Подавались апельсины, ананасы, персики, яблоки, груши, виноград, сливы, вишни, черешня, смородина, малина, клубника, арбузы, дыни. Их раскладывали по хрустальным тарелкам, перекладывая виноградными листьями. Различные фруктовые напитки охлаждались на льду и разливались по стаканам. Подавались сладости [«специально для моей очаровательной невесты» - торжественно провозглашал он и Лизу сразу начинало тошнить, но она будто назло набивала желудок едой, а после ее все равно выворачивало наизнанку], из которых выстраивались невероятные скульптуры.
Все блестело и сверкало.
Лиза тоже сверкала, потому что знала, что Василию Федоровичу это нравится.
С тех самых пор, как она узнала о ребенке, не прошло ни дня, чтобы она не одарила ненавистного ей человека любезностью. И если сначала такие знаки внимания воспринимались с подозрением, то бдительность счастливого жениха быстро оказалась усыплена.
«Я думал, вы станете убиваться по безвременной кончине капитана Волконского», — заметил он ей как-то на прогулке.
«Мне кажется, вы переоцениваете мои привязанности Ваше Величество».
Нет, скорее он их недооценивал и каждый раз, когда он произносил имя Кирилла вслух хотелось его задушить, но вместо этого она прогуливалась с ним в парке, завтракала, обедала и ужинала и даже снова позировала, все туже и туже затягиваясь в корсет, от чего иногда становилось трудно дышать. Она и сейчас еле дышала в этом нарядном ярко-розовом платье [одном из многочисленных подарков, на которые он не скупился и которые совершенно все хотелось сжечь, но нельзя ведь: «Траур вам не к лицу, а в этих нарядах вы как богиня»]. Император, наверное, радовался, что смог, наконец, ее обуздать, а она просто улыбалась, вот как сейчас, когда поднимается очередной бокал, то ли в честь нее, то ли за Россию, то ли еще за что. Она улыбается, глядя на него с противоположного конца стола, поднимая свой бокал вслед за остальными.
Французское вино удивительно красное.
Лиза улыбается, ставя его на место.
«Нет, я ненавижу вас, но вы об этом, конечно не узнаете, пока я этого не захочу».
И, когда веселье оказывается в самом разгаре, улучает момент, чтобы подойти к нему и произвести свой план в действие, наконец. В пьяном состоянии император был склонен или рубить головы с плеч или жаловать титулы. Нужно только правильно это уловить.
Ее улыбка может соперничать с солнцем. Все так говорили.
— Я хотела просить Вас… — музыканты играют какую-то веселую мелодию, а один из братьев Голицыных травит анекдот. Не смешной на самом деле. Вряд ли он даже вслушивался в то, что она говорила. —…я хотела бы на богомолье отправиться. Время до венчание еще есть. Дозвольте мне эту малость.
Она улыбается, а его взгляд смещается куда-то в сторону выреза на платье. С каким бы удовольствием она вонзила бы ему столовый прибор промеж глаз, но все, что она делает это строит из себя покорную невесту, которая хочет помолиться. Василий Федорович в церкви был не особый ходок, поэтому только благодушно замашет руками, мол, да пожалуйста.
— Только вы, моя очаровательная кузина, меня за это поцелуйте.
Лиза смаргивает, улыбка маской застывает на ее лице и знакомая тошнота не отпускает. Рука осторожно прижимается к животу, где под дорогим платьем, корсетом, скрывается то, что у нее осталось как повод ж и т ь. Поэтому она наклоняется и целует его под дружное улюлюканье в конец опустившегося общества.
Целовать Кирилла было все одно, что целовать Бога.
А здесь – все одно, что целовать жабу, которая никогда не превратится в прекрасного принца из сказки.
***
Игуменья Покровского монастыря сидела за большим и таким древним столом, который пожалуй видал и прошлую династию на троне не то что российском, но скорее Московском. Стол бы завален старыми книгами в древних тяжелых переплетах, древними и обугленными по краям летописями, которые повидали ни один пожар, но каким-то чудесным образом остались невредимы, церковной утварью, в том числе свежими свечами, которые делали здесь же трудолюбивыми руками монахинь.
С тех пор, как Лиза приехала сюда они с крестной перекинулись лишь дежурными фразами приветствия – она поцеловала игуменье Леониде руку, а та благословила ее, но в сумрачно-серых глазах ее затаилось подозрение. Да, матушка уж наверняка понимала, что визит ее крестницы влечет за собою проблемы.
— Как спала на новом месте?
— Хорошо спала, — не дрогнув под этим усталым от чтения взглядом отвечает Лиза, сознавая, что придется объясняться рано или поздно.
Мать Леонида снимает очки, потирая переносицу, на которой задерживается красный след и качает головой.
— Невенчанная, без благословения родительского и умудрилась ребенка понести! — Лиза вздрагивает, поднимает удивленный взгляд на крестную, а та продолжает бушевать. — Не глупая, заметила. Бесстыдница! И ведь не каешься, нет! Все-то плоть говорит. До свадьбы удумала! А теперь чего от меня хочешь?
— У меня нет родных, с которых благословение нужно спрашивать, — голос бесцветен и тих. Лиза даже не возражает на упреки крестной, на это просто нет сил. — Но я прошу Вас, матушка, оставьте меня здесь, в монастыре до того как ребенок родиться. Я не хочу для него такой судьбы, какая у нас у всех была.
— Судьбу не мы свою выбираем, а Бог, — с расстановкой замечает тем временем игуменья.
— Пусть так, — не сдается Лиза. — И все же, Бог дал мне право выбора и разум. И я разумею, что так лучше будет. А как родится… — она совсем потухает. —…приму постриг. Здесь останусь. Не гоните, куда мне еще идти?
Из распахнутого окна тянется свежий осенний воздух. Благодать. Монастырский двор пуст – монахини заняты делами: кто за ткацким станком, кто за пяльцами искусно вышивая золотом и жемчугом лики святых, кто хлеб печет, кто за скотом смотрит, а кто за пчелами. Монастырское хозяйство обширно. Труд и молитва – благодать. Конечно, если в монастыре постриг примет особа царская оно и плохо будет. И монастырю полагается хорошие деньги, можно церковку остроить, кельи подлатать. Да и много чего еще. А если согласится с другой стороны – каков скандал. Император-негодный [бог его простит] потребует назад, уж наверняка потребует. И все же…
— Святая обитель в беде не оставит… — голос игуменьи все еще звучит строго, но она смягчается. Она помнит эту девушку еще ребенком, маленьким и умильным. —…но постриг монашеский это тебе не шутки. Это путь отречения. А ты вся соткана из страстей земных. И с ребенком что делать станешь, как родишь?
На лице Лизы появляется гримаса боли, она отчаянно сжимает руки на коленях, вжимаясь в спинку неудобного деревянного стула. А потом вымолвит бесцветным голосом:
— Я напишу его родителям. Там будет покойнее. Так будет лучше.
— Горе ты, горе… Слишком рано умер твой отец и брат, слишком рано умерли. Голубка ты моя бедная… — мать Леонида покачает головой. — Ладно, ступай. Под покровом Божьим даст Бог все хорошо будет.
— Дозвольте увидеться с инокиней Евдокией, матушка.
— Эх, Елизавета, еще и ее за собой не тяни. Она Божья, от мира отошла. Думаешь не знаю зачем ее видеть хочешь? Но да ладно. Все мы здесь сестры. Дозволяю. Но в мир ее за собой не тяни, Елизавета. Не тяни.
Так Лиза и увидела Наташу – теперь уже не Наташу вовсе, а женщину с печальными синими глазами, склонившуюся над пяльцами и аккуратно, но так ловко орудующую иглой. Право слово это всегда у нее получалось хорошо. Вот так и встретились снова два женских одиночества с испорченной жизнью, встретились, обнялись и говорили пусть и не долго [до вечерней службы], но впервые за долгое время Лизе стало хоть как-то спокойнее.
В комнатке-келейке, которую выделили ей теперь помещалась кровать, иконостас, письменный столик и стул, зато окно выходило в сад, а не на какое-нибудь кладбище. По вечерам, зажигая свечу, возвращаясь с вечерней службы, она садилась к окну, вдыхая влажный, пахнущий палой листвой воздух и тянула тихую колыбельную песню ребенку, с которым рано или поздно придется расстаться и который даже ее не узнает. Но, по крайней мере, она будет знать, что с ним все в порядке. Наташа [не может, Лиза совершенно не может звать ее иначе], когда узнала о том, что Лиза делать собирается покачала головой: «Это неправильно, знаешь ведь? Это не Богу жертва, а отчаянье. Но матушка игуменья права – здесь каждый страждущий приют найдет. И если уж так решила, то тебе смириться надобно, Лиза. Ты ведь все еще не веришь на самом деле, что его нет?».
Наташа конечно говорила смириться и молиться, как делала сама – образец истиной святости. Вот только Наташе легко было так говорить – она видела своего любимого в гробу, с неестественным цветом лица, она была на его могиле [все они были], знает, где похоронен. А Лиза нет. И Наташа как обычно проницательно угадывает, что до сих пор где-то в глубине души тлеет надежда, как тихо угасающая лампада.
А вдруг.
А если.
К середине осени, когда уже пора вроде бы из монастыря и богомолья обратно возвращаться у стен начали появляться «шпики» - Лиза их сразу заметила, канцелярия просто не умеет не выделяться. Все как один – подозрительные, страшненькие, в темных треуголках и плащах. И, хотя мать Леонида гнала их от женского монастыря те возвращались, непременно возвращались. А по ночам и вовсе пробирались прямо под окно, отвешивая шутливые поклоны. Император конечно же требовал возвращения, да только церковь свое отдавать не любила.
Лиза пытается сосредоточиться на чтении жития святой Екатерины, когда слышит звук, словно кто-то решается в распахнутое окно снова забраться. Она осторожно откладывает книгу, подходит к окошку, поскрипывающему на ветру и замирает. Вот уж даже здесь не могут оставить в покое. Что решили так украсть? Правду говорят – страх потеряли перед Богом. Лиза стоит неподвижно, задерживая дыхание, теперь совершенно точно ощущая, как кто-то забирается по каменной стене к ее окну. Рука осторожно нашарит на столе увесистую Псалтырь 16-века в кованом переплете.
Еще одно мгновение.
И за ним еще одно.
Чья-то тень, которую в бедном свете свечки толком не разглядеть касается пола, тень мужская, намного выше нее самой. И, пока незваный гость не повернется и не обнаружит ее нехитрое укрытие, что есть мочи ударяет незадачливого предполагаемого шпиона по затылку. С того слетает треуголка, а сам он теряет равновесие, потому как Псалтырь действительно увесистая, а ударяла Лиза от души. И у нее есть все возможности бежать прочь, к матушке или вовсе перебудить монастырь, в котором мужчинам вообще быть не положено. И Лиза хочет уже бежать, проклиная все на свете [святотатство конечно проклинать это в стенах Божьих], но тут замирает, потому что свет падает на лицо ее возможного преследователя.
Замирает и вскрикивает отчаянно, тоскливо почти, раненым подстреленным зверем. Она смотрит и не верит.
Глаза врут.
А может сон?
Она не двигается с места, боясь пошевелиться. Она узнала его. Конечно узнала поздно, но теперь она действительно видит его, которого ударила со всей силы, приняв за шпиона. Е г о. Видишь ли ты призрака или живого человека с шишкой на затылке?
— Кирилл? — не своим голосом, севшим неожиданно, тихо спрашивает, умоляюще. Может с ума сходит? А если исчезнет. А если не он? Так может бежать, бежать? Рука вновь ложится на свой живот, который все еще не стал слишком заметным. — Не может этого быть… Кирилл, Кирилл, Кирилл!
Прорывает словно, она белой тенью бросается к нему, обхватывая ладонями его лицо, пальцы чувствуют тепло.
— Живой! Правда живой? Мой милый, милый, ты живой! — покрывает лицо быстрыми, суматошными поцелуями, то ли верит, то ли нет, то ли плачет, то ли смеется. И ведь снова в окно, надо было бы привыкнуть. — А я знала, я знала – он ведь так плохо стреляет! Мне сказали, мне сказали, что ты мертв, мне так сказали… — Лиза почти лепечет это, обнимая его и не желая отпускать. Может быть она и бредит – пусть! Хотя бы на одну ночь. Он ведь даже ей не снился. А может потому, что не был мертв? — Боже, ты жив…ты… — новая мысль прожигает сознание, она останавливается, всматривается в лицо. — Боже, ты ведь не знаешь… Ты ведь не знаешь, Кирюша, раз ты жив, я могу его оставить. Оставить нашего ребенка, Кирюша. Боже, ты ведь жив! — она плачет, она смеется, прижимается к нему и не верит, что слышит биение е г о сердца.
Оторвется, шмыгая носом, словно стала малым ребенком.
— Вот только теперь придется тебе объяснять почему я не могу стать монахиней, а то я почти решила.
Поделиться32024-04-13 22:36:11
Крестьянская телега, сколоченная крепкой крестьянской рукой, слаба пред российскими дорогами, кои находятся на хорошем счету скорее у черта, нежели Бога. Покачивается, кренится, подпрыгивает на каждой кочке, скрипит и заводит тоскливую песню. То и дело слетают хомуты, отваливаются колёса и подгнившие от сырости оглобли. Словом, жизнь крестьянская не скучна. Дороги российские как известно каждому, даже иностранцу, кишат опасностями от зверей диких до людей, диких в ещё большей мере. Прошёл дождь проливной — добра не жди, дороги размыты. А в иной раз случается причта из Писания о добром самаритянине, что не обязывает к удивлению, вспоминая сколько опасностей на пути ведущем точно на тот свет. Кляча одна-единственная на семью из семи ртов, бредёт понурив голову, совершенно равнодушно перемешивая копытами грязь. Старик сидящий на облучке вовсе похрапывает под тихое пение девчушки, уместившейся удобно в сене. Тонкие пальцы ловко плетут венок из полевых цветов, коих накопилось с десяток за долгий путь. Недаром помолились перед дорогой: добрая её половина обходится без происшествий. Девчушка светловолосая в сарафане слишком подвижная, ерзает, отчего телега качается ещё сильнее, как на сильном ветру. А ветер сегодня тёплый и ласковый, точно последний летний подарок, теребит волосы выбивающиеся из длинной, толстой косы. Глаза голубоглазые поднимаются к нему, словно молят о даре летать. Красивая, — вся деревня знает. Глупенькая, говорят, а она спорит: образованная! Однажды люди научатся летать. Она могла бы мечтать о небе до самого порога дома родного, если бы не чёрное пятно, взмах чёрного хвоста и беспокойное ржание, уж совсем не похожее на ржание клячи несчастной. Глаза её широко раскрываются, дыхание перекрывает то ли от ужаса, испуга, то ли от предчувствия увлекательного приключения. А быть может, она переживает полную какофонию чувств подпрыгивая.
— Батюшка-батюшка! Остановитесь! — размахивает она руками, заголосив так, что повылетали птицы с гущи листвы деревьев, наиболее близко стоящих строем к дороге. Старик, встрепенувшись, не раздумывая тянет на себя ремни и понурая лошадь медленно останавливается. Она спрыгивает босыми ногами на траву и несётся, подобрав сарафан, к человеку.
— Маруська, ты это куда?... — оборачивается старик, поправляя спадающую на глаза войлоковую шапку. — Господи помилуй! — перекрещивается он мигом, когда высматривает будто бы человеческое тело, лежащее в сорняках, травах и полевых цветах. Чем не могила? Лежит лицом к солнцу, покорно, смиренно, и хорошо. Тем временем Маруся, не щадя наряда своего, падает на колени и удивительно шустро соображая, хватается развязывать затянутые на шее верёвки. Раздаётся девичий тонкий вскрик, когда обнажаются уродливые, красные отметины на шее.
— Кровь, батюшка… кровь, — бормочет она чуть ли не плача, а пальцы белоснежные пачкаются и впрямь в чужой крови. Лошадь угольного (как уголь в печи домашней) цвета бродит подле, словно через плечо заглядывает, бьёт по земле копытом и раздражённо фыркая, мотает мордой, отгоняя надоедливых мошек. Однако, куда более волнительной встреча оказывается с человеком, лежащим без чувств. Мысли о том, что он мёртв, Маруся отчего-то не допустила. Старик задумчиво чешет бороду, а потом кряхтит от болей в спине, однако же опускается и склонившись, прислушивается. У необразованных оно как? Дышит иль нет. Щупать биение сердца они не умеют.
— Он живой, живой. Глядите, дышит. Я вижу как дышит.
— А что толку? Что с того, а? — он ворчит как положено, по-старчески, сразу же поднимаясь и разыгрывая какое-то равнодушие. — Может, пьяный? Оклемается и пойдёт своей дорогой, а мы — своей.
— Уж нет, мы не можем оставить здесь человека! Поверьте, я-то знаю как пьяные воняют, — стреляет своими голубыми глазами наповал, хмуря брови. — А у него кровь!
Старик ещё некоторое время раздумывал, быть ли ему добрым самаритянином и какая с того выгода. Сердце русского крестьянина доброе, а быть может, слабое. Выгоды ведь никакой, только лишний рот и заботы, — война была, солдаты были, раны, беспокойная жена и кровавые белые простыни. Он махнул рукой и скомандовал дочери, чтобы помогла несчастного перетащить в телегу. А лошадь-то куда? Знала бы Маруся, сколь особенный она человек, когда забралась на вороного коня, покорно следующего за повозкой. Иль скорее, особенный тот, за кем Плутон был готов последовать хоть в самый далёкий и негостеприимный край. Через пару часов поручик Ростов в сопровождении офицеров обнаружит разве что кровь, впитавшуюся в землю. Дождь размыл следы.
***
Суматохой полнится срубленная из дерева изба. Матушка Авдотья размахивает руками, причитает, носится с простынями и тазами, полными горячей воды. Раздаёт указания непоседливым детям, которым до чесотки любопытно поглазеть на полуживого человека. Батюшка Игнат производил впечатление деятельности недолго, решив окончательно, что его полномочия кончились, как и долг перед господом исполнен. Отогревается после сырого пути через леса собственным самогоном да сетует на войну, какая побывала даже в их бедном, крестьянском доме. Сосед понимающе кивает головой да подставляет опустевшую снова глиняную кружку. “Да разве мало служивых забредали в наши края, с войны воротясь?” — взмахивает он руками, опускающимися обречено на стол. Авдотья Григорьевна оттого и мастерица, умеющая без всякого лекаря определить, имеет ли больной надежды на выздоровление. Маруся то и дело хватает бледную руку, нащупывая то самое биение сердца, о котором заезжий лекарь рассказывал. Никто в деревне не внял его просветительской деятельности, одна только Маруська, считавшая себя самой образованной, наперебой выдавала вопрос за другим. “Тук-тук. Тук-тук.” — размеренный стук означает улучшающееся состояние. Плечо его туго перевязали чем было, а теперь приходится перевязку из рваных простыней менять. Нагноения в ране не наблюдаются, — об этом они обе знают. А с отметинами на шее ничего не поделаешь, как и с тем, что иногда слышится хрип в груди, иногда он покашливает и пробуждает надежды на скорейшие возвращение к сознанию. Лекарь отмечал, что бесчувственность не столь глубока, ежели пациент проявляет какие-либо признаки жизни. Маруся уверена в том, что если чихает во сне, а этот молодой красивый совсем незнакомый человек кашляет, следовательно, всего лишь крепко спит. Но будить его никто не торопился. Детей загнали в кровати, наступила тишина. Маменька наказала приглядывать, а ей только в удовольствие.
Кирилл медленно открывает глаза. Открывает и вновь закрывает, ненадолго проваливаясь в лёгкую дрёму. Ресницы дрожат. Снова открывает, пытаясь сосредоточиться на святом лике, представшем в золотистом обрамлении. Дышит тяжело и каждый вдох да выдох сопровождается тихим хрипом. Первые минуты полагает, что пробуждается где-то среди святых, а после рассматривает самую обычную икону, стоящую в углу на скамье. Память возвращается и уносит его в тот день, в тот миг, когда судьба вновь переломилась. Он мчался верхом на Плутоне вслед за каретой. Где же Плутон? Рядом его нет. Кирилл вовсе не понимает, где находится. Оказывается, слишком далеко отбросила его жизнь, чтобы отыскали друзья. Зачем же мчался? Размытое лицо, отражающее зловещую радость и вытянутая рука, держащая крепко пистоль. Завещание! Заколотые люди в лесу. Он должен был достать завещание. Но как же беспечно и глупо пытаться забрать завещание у человека, в чьих руках власть над всей необъятной державой. Теперь у него ни завещания, ни любви, ни спасённой России, только очередной шрам на память о г л у п о с т и. Выстрел. Пуля неуклюже задевает плечо. Боль и пульсирует в затянутом плече. Потерянное равновесие и шея, туго оплетённая завязками. Внезапно для себя самого Кирилл заходится в кашле, отрывая голову от подушки. Видать не только шрам, не только на плече. Невольно хватается за горло, чувствуя сильные тиски, будто вот-вот задохнётся. Вздрагивает Маруся задремавшая под стеной и мигом вскакивает, подбегает и забыв, что человек всё ещё болен, радостно вскрикивает. Лишь заметив как он морщится, закрывает глаза, отбрасывает намерение немедленно созвать весь дом, а то и всю деревню в эту комнату. Радость-то какая!
— Вам нужно попить. Это водица с мёдом, — важно говорит она, наливая в кружку медовую воду из крынки. — Не тревожьтесь, мы вылечим ваш кашель. Наконец-то вы проснулись. Все боялись. Маменька места не находила, папенька от горя снова запил, — разве что от горя иного, а волнение за чужого раннего человека он едва ли выпускал наружу. — Я все пальцы исколола пока вышивала да и бросила, решила с вами сидеть. Ну же, давайте. А как ваше имя, сударь? — наслушавшись тайком рассказов о жизни в уважаемых, высших кругах, она выловила для себя несколько красивых слов и манер. Разве не замечательно кого-то называть сударем? Словно она, — Маруся Игнатовна, красивая девица на выданье из княжеской фамилии. Кирилл же наблюдает за ней из-под полуопущенных век, борясь с головной болью и роем вопросов, на которые едва ли ответит эта девочка. Однако, эта девочка единственная, кто мог ответить.
— Долго я здесь? — выдавливает сиплым голосом первый вопрос, оглядывая тесную комнатушку. Кирилл изменил бы своему характеру, если бы пустился в беседу вежливую, где принято называть своё имя и представлять свою персону. Тот день для него длится, а чувство необходимости спасать родину копошится внутри, терзает, не оставляет в покое. Не может лежать здесь. Не должен. Лиза. Думает ли она, что его больше нет? Должно быть, Москва празднует его мнимую гибель под одобрительным взглядом Его Императорского Величества. Разумеется, Волконскому не до чертовых любезностей. Неблагодарный.
— Пятый день пошёл, — несколько обиженно, но покорно отвечает Маруся, расслышав не иначе как командирский, солдатский тон. — Мы вас подобрали и спасли. Вы бы задохнулись. Скакать верхом на лошади в плаще небезопасно, — задирает голову, стараясь скрыть обиду, но показать собственную солидность. — Да-да, и конь ваш здесь. Вам бы поскорее встать, а то наш барин любит чужое. Заберёт ещё лошадку вашу в свою конюшню.
— Не заберёт, — тихо, однако же уверенно произносит Кирилл, — у меня шпага острая, — добавляет с удовлетворенной улыбкой на губах, закрывая глаза. Сон его побеждает быстрее, чем успевает что либо умное выдать Маруся. За окнами тёмная, густая ночь и остро сияющие звёзды над деревушкой, одиноко стоящей, — вокруг лесные чащи да отливающие бархатом пашни. Не сложилась беседа, какой она ждала всей душою, ненароком влюбившись в совсем незнакомого человека. Он казался хорошим пока спал. Маруся вздыхает и возвращается к стене, где будет дремать до первого петушиного крика.
///
“Человек, ежели сам жить не желает, то и Господь ему не помощник”, — перекрестился деревенский лекарь, зашептав страстно молитву себе под нос. Понеслись дни, полные жара, надрывистого кашля и незнакомых размытых лиц. Кирилл в полудрёме / полубреду любопытствовал у бога, для чего же жить, когда ни единого смысла не осталось. В снах тревожных ему являлась Лиза в белом платье, отчего-то кровью испачканным. Затем горела вся Россия или сгорал он, мечась на подушке во сне. А стоило почувствовать свободу от оков болезни, пусть самую незначительную, он подрывался со скрипящей кровати и хотел было немедленно бежать, но люди незнакомые вставали непробиваемой стеной на пороге. А куда бежать, Кирилл Андреевич? В полк? Место ненадёжное, в любой миг прискачет гонец с приказом или вовсе, агенты тайной канцелярии. Император непременно огорчится, если только не поверит во мстящих духов. К Лизе? Об этом думать подавно пора забыть. Они более никогда не увидятся, разве что издалека. Сердце заноет от боли. К родителям? Не маленький мальчик, чтобы прятаться, а тем паче, в отцовские глаза смотреть стыдно. Ему-то и девать свою особу грешную некуда. Сам Господь будто велел оставаться в дальней глуши до полнейшего выздоровления, вдали от суматохи столиц, от омерзительных сплетен и молвы. От всего, что напоминало о ней.
Маленькие ручонки венчают его голову венком из засушенных листьев и цветов. Трёхлетний Ванечка радостно рукоплещет, бесцеремонно умостившись на чужих коленях. Настасья на пару с Василисой друг дружку перебивают, задавая вопросы о мире, которого никогда не видели, только издали слышали. Отчего-то семейство Зиминых не сомневалось в том, что их раненый гость из кругов более важных. Оттого густые брови главы семейства хмурились, а на лице наплывали тучи. Не приемлет Игнат Иванович эдакого равенства. Зато супруга его мнения противоположного и не упустит возможности отхлестать полотенцем по затылку. Истинная русская женщина. Кирилл отвечает сугубо скомкано, сухо, чаще улыбаясь розовощёкому Ванечке — он не задаёт вопросов, лепечет слова неразборчиво и подхватывая со стола то плошку, то ложку, показывает со всей гордостью, словно его новый друг кухонную утварь видит впервые в жизни. А ведь они умудрились выбрать имя для дочери, что сейчас кажется совершенной глупостью, детской забавой. Они, быть может, и знали, — сказка их обречена на недобрый конец самим императором. А стране необходим наследник, — мысль не успевает зайти дальше, окончательно порушив хрупкое спокойствие. За стол садится Игнат Иванович, грузно и тяжело, опуская увесистый бутыль с водкой.
— Так кем же будешь мил человек? Мы всё никак разобрать не можем, откуда ты такой взялся, — начинает он, ощущая себя полноправным главой семьи. Иллюзия рассеивается спешно, стоило только появиться Авдотье Григорьевне с горшком полным дымящихся щи под боком. Кирилл хотел было помочь, но тут же опускается на лавку под строгим взглядом.
— Стыдно мне за тебя, стыдно. Как же не можем? Сразу видно, молодой человек воспитанный, образованный, не то что ты, старый хрыч, — и на этом она снова исчезает вместе со старшими дочерьми, которые “совсем от рук отбились прямо как их батенька”.
— Меня зовут Кирилл. Больше я ничего не могу вам сказать, — ибо те, кто знают больше, оказываются в опасности. Он уверен в том, что императорские люди рыщут по всей стране в союзе с канцелярией; для того, дабы убедиться что мёртв, а если жив — немедленно положение исправить. В голову ни разу не приходила мысль, что кто-то ищет и не для того, чтобы добить окончательно. Недоверие ко всему миру только крепчает, а люди добрые не должны за свою глупую доброту расплачиваться жизнями. — Потому что не помню, — немного погодя, добавляет, замечая недоверчиво-подозревающий взгляд. Игнат Иванович не смягчается, однако расспросы отставляет и водку разливает.
— Знаете, уж очень не люблю столичных. Что в государстве то делается? Батюшка наш черту продался. Все они там, продажные. Скажите мне на милость, что мы детям оставим? Эх, была Россия великой, да перестала, — и залпом выпивает всё, что вылилось в кружку. Кирилл едва удерживается от справедливого замечания: он сам и есть чёрт во плоти. И снова свежее утро, недолгая погоня, боль пронзившая плечо, падение на сырую землю — нечем дышать, в глазах темнеет, смыкается небо, слышится будто бы к р и к. Падать на землю родную, на траву мягкую не больно. Больно слышать крик. Следуя примеру хозяина, выпивает водку залпом, закашливается, а после силится улыбнуться притихшему Ванечке.
Настал тот день, когда пользоваться гостеприимностью добрых людей стало невмоготу. Вечный побег — не спасение, не решение. Должен самолично отвечать за поступки, а не люди, оставшиеся под ударом. Придётся снова разочаровать Василия Борисовича, и наверняка данное разочарование станет последним. Ранним утром, ещё затемно, Кирилл собрался, решился, на этот раз никто не остановит его на пороге. Проснулись Игнат и Авдотья, а следом и Маруся, верившая в то, что гость останется в деревне навсегда. Разве плохо в деревне? Здесь и тишина, и покой, и река неподалёку, праздники весёлые, сенокосы, пахоты, словом, прелести крестьянской жизни. Кирилл поправляет треуголку, бросающую глубокую тень на лицо, выпрямляется, становясь вдруг слишком высоким, почти до потолка достающим.
— Всё, что я могу оставить вам в благодарность, это… — разумеется не брошь, оставленная Лизой на память, — будет её носить под сердцем до самой смерти. Вынимает из ножен шпагу, так и не сообразив отчего лица вдруг сделались перепуганными. — Любой проезжий офицер у вас её выкупит, — вручает Игнату Ивановичу и тот принимает неспеша, дрожащими руками.
— Нет, мы её оставим. Будет шпага Ванечке, — умильно произносит Авдотья Григорьевна, вызывая на лице Кирилла улыбку светлой грусти. Быть может, вырастет Ванечка бравым офицером.
— А я думала, вы замуж позовёте! — не выдерживает Маруся, вытирая платочком слёзы, ручьями льющиеся по щекам. Глупенькая девочка. Отчего все девицы только и ждут, когда их позовут замуж. Кирилл улыбается чему-то своему, мыслями давно покинув тёплую избу и её добрых обитателей.
— Я вам такого никогда бы не пожелал, Мария Игнатьевна, — произнесёт он вежливо, прежде чем раствориться в темноте утра.
***
Петербург встречает осенним дождём. Кирилл долго бродит верхом на Плутоне по знакомым улицам, оттягивая тот миг, когда явится живым. Город словно опустел, вымер, а быть может, опустел и вымер сам Кирилл, не представляющий жизни без Лизы. Петербург тоже не ведает жизни без Елизаветы Петровны, цесаревны и последнего напоминания о Петре Великом. У него отнята последняя надежда. Последняя Романова. Вскоре он не замечает, как оказывается напротив ворот, за которыми казармы и конюшни, где наверняка тепло, горят свечи, распивается тёплое вино под карточные игры, а Федька не иначе как сопит в сене, не почистив последний денник. Вся жизнь, некогда привычная, родная, кажется чужой и он — всего лишь наблюдатель, никак не участник. Ворота отчего-то открыты, — по чьей-то безалаберности, как часто случалось. Караула на посту не наблюдается, вероятно из-за дурной погоды. Кому охота мокнуть под дождём часами напролёт? Петербург более не нуждается в регламенте, его покинули, никому дела нет до того, что происходит. Чем ближе он подходит, тем слышнее голоса. Останавливается на границе темноты со светом, будто ещё не поздно развернуться и бежать прочь, прочь. Сомнения и страх терзают душу. Бессмыслица — возвращаться сюда. Быть может, он готов поддаться слабости, готов всерьёз для всех умереть, но внимательные глаза замечают фигуру в полумраке раньше.
— Эй, кто там? — выкрикивает угрожающе Еремей, хватаясь за саблю. Кирилл закрывает глаза на секунду, а после разворачивается лицом к свету, чувствуя некое облегчение. Снимает треуголку, границу переступая. На лице появляется улыбка то ли смущённая, то ли извиняющаяся. — Кирилл? Братцы, это же Волконский! Братцы! Живой!
Голоса, смех, гогот, звон откинутых саблей смешиваются в один сплошной ком шума. Они радуются детьми малыми, обступив со всех сторон, зажав прямиком по середине и без шансов вырваться. Ему более и не хочется, словно вернулся в родной дом. Засыпают вопросами наперебой, ни единого он не слышит, только улыбаясь глупо и поддаваясь братским, дружеским объятиям.
— За живучих Волконских, братцы! Виват! — прозвучит голосисто тост и казармы снова наполнятся радостным гомоном.
Быть живым, — не такой уж подвиг, откровенно говоря.
После отъезда всего двора в Москву многие, даже высшие чины оказались непригодными, ненужными, не у дел. Дмитрий Яковлевич не стал исключением. Полк не стали переводить в столицу, словно одно имя, числившееся в списках, накладывало проклятие. Радость он находил разве что в частых днях, проведённых подле супруги и внуков. Другая радость — подле солдатушек, его детей, брошенных несправедливостью на произвол. Ни войны, ни охраны королевской семьи, — дух гвардейский угасал с каждым днём только стремительнее. Гвардия не ощущала привычного влияния на ход самой истории. Хвосты лошадям крутить, винище распивать, в кабаках драки затевать, в карты проигрывать, на дуэлях стрелять, — удел русского офицера, кавалериста, которому не повезло остаться в забытом богом Петербурге. “Хоть бы войну какую, хоть бы плохенькую, но службу”, — пошла среди рядов присказка, даже молитва. Дмитрий Яковлевич был бессилен. Нынче он тоже бессилен, сидя на старенькой канапке с облезлой обивкой и покуривая трубку. Одна только радость: воротился живым Волконский.
— Дмитрий Яковлевич, — садится рядом, оставив друзей допивать вино и голосить офицерские песни, — у меня есть просьба. Не могу я здесь оставаться. Отправьте меня куда-нибудь подальше.
Дмитрий Яковлевич откладывает дымящуюся трубку от удивления. Молодость — пора противоречивых желаний, надо сказать. Иногда они нехитрые, а в иной раз совершенно неясные. Кирилл смотрит на него самым серьёзным взглядом, а щёки пылают от тепла и пряного вина.
— Только воротился и уже назад просишься? А впрочем, здесь делать нечего, в этом ты прав.
— Не вы, так кто-то другой. Это вопрос времени. Может, он об этом никогда и не узнает.
— Могу рекомендовать в Ревельскую губернию. Там тебя точно никто не найдёт.
Кирилл улыбается чуть ли не счастливо, предвкушая дальнюю дорогу и далёкий край, куда отправится добровольно, а не по чужому капризу. Однако, через несколько дней он обнаруживает в ящике записку (бог знает как она туда попала) загадочного содержания. Любопытство оказывается сильнее желания седлать Плутона и мчать прочь. Автор приглашает, даже требует или назначает встречу, избегая каких либо опознавательных знаков. Ежели на этой встречи пустят ему в голову пулю, — так тому и быть. Человек страшен, когда терять в жизни ему нечего.
***
Холодный, недобрый ветер рыщет по Адмиралтейской набережной, волнует Неву и заодно, его недоверчивую отныне, душу. Едва ли пуля в голову, — место встречи выбрано открытое, слишком велика вероятность обзавестись множеством нежелательных свидетелей. Автор велел не надевать форму, а следовательно, автор неплохо осведомлён. Кирилл явился в точно назначенное время, да только никакого, желающего с ним поговорить не обнаружил. Расхаживает из стороны в сторону напротив недостроенного здания Академии наук. Не иначе как олицетворение, символ всего Петербурга, а быть может, и всей России. Высматривает в каждом прохожем нечто подозрительное, любой знак, указывающий на автора загадочной записки. Для чего столько секретности? Для чего он здесь? Сомнения стали его подтачивающей изнутри слабостью. Благодаря остаткам терпения и упорству, присущему его фамилии, дожидается под ветрами того самого знака. Приближающийся господин в тёмно-коричневом кафтане и ещё более тёмном плаще смахивает на того, кто мог бы записку сочинить. Он стремительно приближается и сомнений не остаётся, только Кирилл стоит на месте, застывший, напряжённый, — сжимает невольно эфес штатной сабли. Шпаги более нет и ему отчего-то не было жалко расставаться с нею. Ему хотелось всерьез запамятовать всё, что было раньше. А эта набережная, её брошь, её улыбка, — ничего не забывается. Недостаточно было избавиться от шпаги, а может быть и глупо, — последняя память об Императоре, которого Господь обязан был наделить бессмертием. Поздно, поздно сожалеть. Человек совсем близко, поднимает голову прежде склонённую голову и шляпу, открывая знакомые глаза.
— Григорий Сергеевич… — произносит неуверенно, будто сомневается в том, что зрение не обманывает. Бодрая улыбка князя заверяет в том, что рассудок Волконского не помутился. А впрочем, он приносит и тревожное чувство. Никогда князь Вяземский не появляется в его жизни беседы за чашкой чая ради. Каждое появление, каждый разговор значения самого наивысшего, государственного. Бежать не поздно. Ревель ждёт и зовёт шелестящими волнами родного Финского залива. Кирилл сразу понимает, что принимать участия в делах государственных не желает.
— А ты после каждого воскрешения только хорошеешь, — князь подмигивает и дружески ударяет по плечу, заставляя поморщиться слабо. После каждого воскрешения на нём всё меньше живого места, — это звучит правдивее.
— А вы когда научились записки подкидывать? Не ожидал от вас такого, — мрачно отзывается Волконский, не разделяя приподнятый, бодрый дух.
— Как? Вы меня удивляете, друг мой. Каждый русский знает, как подкидывать записки чуть ли не с рождения. Самые важные встречи назначаются через записки. В записках, пусть и зашифрованных, таятся государственные тайны. Я не мог иначе просить встречи с вами. Знаете почему?
— Потому что даже у кошек жизней всего девять. Не знаю, сколько у меня, — усмехаясь, пожимает плечами.
— Уверен, что больше. Пройдёмся, — звучит то ли приглашение, то ли приказ.
Они отходят дальше от причала, от прогуливающихся прохожих, от любых глаз. Отходят, впрочем, неторопливо, словно совершают собственную прогулку на свежем воздухе, любуясь первыми закатными лучами. Кирилл спешно привыкает к присутствию князя, пусть тот и молчит выжидающе, а быть может, любуется мраморной гладью Невы с янтарными отблесками. Григорий Сергеевич всё одно что родной человек, которого приятно видеть, ежели не вспоминать, что за спиной его ворох державных тайн и сведений. А впрочем, пусть. Кирилл готов выслушать. Быть может, этого и ожидал благоразумный, мудрый Григорий Сергеевич.
— Как вы поживаете, мой друг? Вернулись к своей службе? — впрочем, не торопится приступать к самой сути сегодняшней встречи.
— У меня больше нет ни жизни, ни службы, — отвечает Кирилл с безумной улыбкой на лице, прищуриваясь от прямых солнечных лучей.
— Тогда мы можем это исправить, — князь останавливается. — Есть сведения из Москвы, которыми я хочу поделиться. Но прежде, знаете ли вы о том, что Елизавета Петровна постриг решила принять? — он беспечен или только делает вид, будто ведёт будничное обсуждение вечной сырой питерской погоды.
Кирилл получает очередной удар под дых. Светские новости определённо миновали его персону, не посчитав достаточно важной. Сколь обособленной ни была Москва, слухи доползают и до гостиных Петербурга. А он смотрит на князя пустым взглядом, не понимая как следует откликнуться. Разве императорские невесты уходят в монастыри? Принимают постриг? На его лице постепенно проступает озадаченность, какую не составляет труда прочесть. Брови хмурятся, меж ними пролегает глубокая складка, делающая лицо старше и серьёзнее. Князь впрочем, улыбается, убеждённый в том, что его затея будет иметь успех.
— Не знаете. А оно так и есть. Император по глупости отпустил её, теперь воротить обратно не может. Разве осмелятся гвардейцы на святую землю ступить? — он усмехается зловеще-удовлетворенно. — Причины вполне очевидны. Не хочет цесаревна замуж идти. Вы же понимаете, что должны действовать?
— Предлагаете грех на душу взять?
— Уже взяли. Вы и Александр Петрович.
— Если офицеры Его величества не осмеливаются, как я могу?
— Полно вам глупить! — князь Вяземский впервые повышает голос, лишённый мягкости и какого либо намёка на доброе чувство юмора. Кирилл остаётся невозмутимым, плотно сжав губы. — Я не собираюсь рисковать всем из-за вашей глупости, и вы не станете.
— Как только Елизавета Петровна покинет монастырь, ничто не удержит гвардейцев от похищения. Я не вижу логики, Ваше сиятельство. Я приму её любое решение. Будь то венчание или постриг.
— Венчания не будет, — отрезает Григорий Сергеевич. — Василий Фёдорович болен.
— Об этом и так было известно, — снова губы тянутся в кривой усмешке, столь раздражающей князя Вяземского.
— Перестаньте острить. Я начинаю сомневаться в том, что вам можно доверять. Об этом не говорят. За это сразу плаха. Канцлер боится, что наследника определят без его участия, ежели узнают. А хворь серьёзная, как бы не охватила всю страну. Смекаете, Кирилл Андреевич?
— Нет, — произносит он совершенно искренне, мотая головой. Быть может, от столь частых смертей и воскрешений разум человека заболевает. Григорий Сергеевич непонимающе всматривается в лицо человека, которому ещё жить и жить, а не хоронить себя заживо. Впрямь не смекает или разыгрывает? Кирилл не понимает: от болезней люди имеют свойство излечиваться.
— Немедленно отправляйтесь в монастырь и верните Елизавету Петровну. Немедленно, слышите? В делах сердечных разбирайтесь сами, но ошибку совершить она не может. Она — последняя Романова, и вы должны это понимать, чёрт возьми. Примет постриг — династия падёт.
— Хорошо, — соглашается нерадостно, бросая какой-то неведомый вызов. — Я встречусь с ней, но обещать ничего не стану, — а ведь, радоваться положено, не так ли? — Решение за цесаревной. Я бы этого не делал вовсе, пока не… — запинается невольно, оглядываясь по сторонам, — пока не разрешится вопрос окончательно. Что за болезнь, ваше сиятельство?
— Оспа, — недолго думая ответствует князь.
Услышал Господь молитвы народа русского.
***
На следующий день Волконский мчится вовсе не в Ревель по назначению, а в сторону Суздали, навстречу огромному восходящему солнцу над пустым и просторным горизонтом. Он ведь, обещал, клялся бороться до конца, вероятно победного. Быть рядом — его главное обещание. Но удивления не возникнет, ежели всем назло император болезнь переборет, восстанет почти из мёртвых и тогда уж бесповоротно всё закончится. Худшее предсказание для опущённой на колени державы, которая словно только и ждёт, когда будет испущен последний вздох. Жаждать чужой смерти — грех, но был прав Григорий Сергеевич, за душой Волконского грехов водится достаточно. И мчит он со своей грешной душой в святую обитель, совсем не собираясь раскаиваться. В камзоле да при оружии, — он не иначе как чёрт для тех, кто обитает внутри совершенно иного мира, обнесённого надёжной оградой.
На святую обитель позарились все как один. Первое, что замечает он, подкрадываясь к стене: пара кривых силуэтов, больно походящих на шпионов. Сомнения разъедают душу снова и снова. Если император болен настолько смертельно, зачем здесь шпионы? Однако же, князь не станет подстрекать на гибель обоих: в его глазах заметен собственный интерес, оказавшийся под угрозой. Василий Борисович упрям или попросту не поступало приказа иного, как следить за монастырскими окнами. Ведь приказывать некому. Кирилл затягивает потуже чёрный платок на лице, собираясь совершить бесстыдно расправу в святом месте. “Господи, у меня нет другого выхода”, — молится, то ли откупается мысленно, прежде чем накинуться на горбатого шпика со спины. Живы иль нет, — разбираться не может, слишком мало времени, слишком не терпится оказаться рядом. Право слово, ничего святого у канцелярии нет перед господом, впрочем у Волконского “тоже”. Бесспорно, судьба его — постоянно взбираться по стенам да в окна, будь то война или дела сердечные. Почувствовав себя в безопасности (чувство сомнительное) срывает платок с лица, жадно вдыхая воздух тёплый, пахнущий воском свечей, которого в последнее время неизменно недостаёт. Во снах он то и дело задыхается, а когда в помещении слишком тепло / душно, немедленно стремится к свежему воздуху. Окна он тоже научился отгадывать, пусть немало подсобили шпионы. Осматривается осторожно, не торопясь обшаривать с хозяйской уверенностью всю комнату. Ему бы задуматься, что влезают в окна зачастую с намерениями дурными, а потому нечто тяжёлое опускается на голову оглушающим ударом.
Вязкая боль расползается от затылка по всей голове, а он успевает только обречённо, сдавленно вздохнуть, прежде чем рухнуть на пол и снова затылком удариться.
— Елизавета Петровна…и вы туда же, — сетуя на то, что все только и стремятся от него избавиться. Разумеется неправда. “Только не она”. Лежит неподвижно, глядя на неё снизу вверх и улыбаясь одними уголками губ. Головокружение сильное постепенно становится лёгким, а силы разом схлынули, словно своей цели он достиг и более ничего не нужно. Теперь можно отдохнуть, можно любоваться её лицом в слабом свете свечи, можно никуда не торопиться. Сколько же “можно” расцветает, когда она снова р я д о м. Разве что воссоединений он теперь боится, — за каждым следует гроза и гроза на горизонте. Слова князя Вяземского громом гремят. Кирилл мысленно посылает всё к черту, забывая напрочь где находится. Он и не задумывался всерьёз над тем, что остальные его похоронили в самом буквальном разумении. — Я бы… я бы не питал уверенности в этом после второго удара об пол, — тихо смеётся, закрывая глаза и покорно подставляя лицо мягким поцелуям, без которых определённо жизни не будет. Он убедился, — не будет. Живой, — под её губами оживает. — Меня убить не так-то просто, ты же знаешь… ты знаешь, — удерживает руками крепко, не желая отпускать ровно также, как и она сама. До чего же бесчувственным и огрубевшим он был, не желая следовать дружескому совету — отправиться за Лизой. Она должна была узнать по крайней мере, то, что подстрелить его насмерть временно (или навсегда) никому не под силу. Особенно отвратительным стрелкам. Умереть он может лишь от счастья и любви, слыша её смех, голос, чувствуя мягкость рук и нежность губ. Смотрит в её глаза снова влюблённо, будто в первый раз, когда признавался в своих чувствах. Однако, улыбка постепенно меркнет. Одна весь ошеломительнее другой. А с этим он не знал что делать.
Кирилл действительно не знал. Р е б ё н о к. “Причины вполне очевидны”, — звучит чужой голос в голове. Господи, а если бы не послушал и оставил бы её одну? Если бы кто-то узнал? Если бы он сам никогда не узнал? Как быть теперь? Ребёнок, ребёнок, ребёнок. Они хотели, мечтали, выбирали имя, летая где-то в поднебесье. Падать так больно. Безумно больно. Безумно страшно. Он смотрит в такой далёкий потолок, пытаясь осознать, пропустить сквозь душу и разум то, что услышал. Улыбается несколько нерешительно, однако улыбается.
— Ребёнок?... — переспрашивает точно заражаясь её неверием, мечтательно-рассеяно, внятно, насколько позволяет состояние человека, существование которого перевернулось. Мысли, чувства, стремления, — всё мигом переменилось. К чёрту загадочные амбиции князя. Россия тоже подвинется. — Господи, Лиза, плевать почему, я не собираюсь ничего объяснять! Они примут твоё решение, хотят того или нет. Я так рад… — шепчет, а потом целует губы долго и нежно, — прерывает разве что осточертевшее покашливание, заставляющее невольно руку прижать к горлу. — Так рад… — голова валится обратно на пол как-то обессиленно, а голос предательски скрипит. — Когда ты узнала? Только не говори что… нет, ты думала что меня нет, — всё ещё пытается избавиться от скрежета в голосе. — Ты спряталась здесь от него? Я прав? Если бы он узнал… — картины рисуются самые мрачные, и без участия императора была бы беда, — невенчанная, оставшаяся одна; кое-что он понимает, разбирается в уставах общества и чести, в первую очередь. Тогда и силы, подгоняемые вскипающей внутри злостью, помогают подняться и посмотреть ей в глаза. Злость разумеется, на одного-единственного человека, виновного в их незаслуженных страданиях. — Но тогда бы я точно его убил, Лиза. Я не могу думать о том, что было бы с тобой, не останься я в живых.
Радость момента вынужденно омрачается. Он хотел бы узнать в иных обстоятельствах. Смелый малыш, ежели решился заявить о себе в самое смутное, мрачное, тяжёлое время не только для них, но и для всей России. Кто же знал, что дальше — только хуже. Радоваться положено, пока не полетели головы с плеч, пока страна не залилась кровавыми реками. Пока они не знают, но кто-то лишь догадывается, чьё имя запечатано в завещании, о котором Кирилл думать забыл. Его буквально затапливает жгучий гнев и желание, быть может, нырнуть обратно в окно, точно как в первый раз — желание пристрелить. Разве что тогда она останется одна, одна, “одна”. Снова не имеет права и никогда его не получит совершать справедливые расправы, так как цена слишком велика.
— Мы должны этого ребёнка схоронить и понадежнее, — смотрит в глаза её, отливающие мягким светом свечи, пристально, и за руки берёт крепко. — Должны. Никто не должен не знать. Мы этого так хотели, но что теперь… — сердце рвётся ощутимо болезненно. Кирилл походит на весника дурных вестей, который оставляет после себя опустошение и темноту. А если таковым и не является, то не может избавиться от ощущения. Снова приступ кашля и он поднимается с пола, отходя в сторону, дабы её не пугать / тревожить лишний раз. В положении, каком оказалась Лиза, тревожиться нужно меньше всего и в последнюю очередь, — об этом он также откуда-то знает. Прячется в полутемноте угла, прижимая ладонь ко рту.
— Я должен был прийти сюда, чтобы забрать тебя. Но я не могу, Лиза. Не могу! — у него ещё один приступ, на сей раз отчаянья. Обязательство защищать, теперь и ребёнка, который не должен страдать подобно его родителям, давит на плечи едва ли посильным грузом. — Я не могу взять и увезти тебя отсюда, потому что нет места более безопасного. Как бы сильно мне не хотелось… — “я же так скучаю по тебе”. — Быть может, тебе лучше остаться здесь. Верно? Я видел агентов. Сомневаюсь, что увидим их снова, — подходит к окну, бросая равнодушный взгляд куда-то в сторону стены, за которой, дай бог, два бездыханных тела. “Вспомни, где находишься!” Впрочем, будь он хоть человеком святым и безгрешным (таковых не бывает), — всё одно мужчина. Рано или поздно придётся уйти.
— Есть и другие новости. Кое-кто полагает, что это достаточное основание для твоего вызволения, — переводит на неё взгляд, выдерживая паузу, не желая уточнять “кто” именно полагает. Он злится отчего-то и на князя. — Василий Борисович болен оспой. Лекари пророчат больше смерть, чем жизнь. Ежели это то самое спасение, о котором все молили бога, то я буду несказанно счастлив. А ежели нет?
Вопрос повисает в воздухе тёплом. Кирилл смотрит на Лизу и более ничего не говорит. Столь нелепо требовать у кого-то непременного подтверждения: “обещайте мне, что он умрёт!” Осматривает комнатку печальным взглядом. Здесь она могла бы провести остаток жизни? Усмехается горько, качает головой, не торопясь объясняться.
— Нет, Лиза, ты не создана для жизни в монастыре. Они возьмут грех на душу, если сделают тебя монахиней. Вот и все объяснения, — поднимает увесистый Псалтырь с пола, а затылок до сих пор ноет от вязкой, оттягивающей боли. Эта боль не страшна, пройдёт. Приподнимает в одной руке, прикидывая сколько пудов весит святая книга. Достаточно, чтобы свалить с ног целого гвардейского офицера. — Расскажи мне, что теперь будет. Или ничего, если меня никто не заметит? Уж в этом я ничего не смыслю, кроме того, что все мы грешны, — возвращает на стол Псалтырь и будто сам Господь за ними пристально наблюдает, — за дверью слышатся чьи-то шаги. Кирилл бросает взгляд на окно и мигом отказывается от намерения бежать обратно. Времени с ней провёл недостаточно, хочется ещё грешной-грешной, тёмной душе. Не находит ничего более надёжного, чем штора стекающая к полу, за которой спешно и прячется. Право слово, как малые дети для которых ничего святого не существует. А впрочем, для него святое — это Лиза и ребёнок. Вот что действительно “свято”. Пока справляются о том, всё ли в порядке (они услыхали странный грохот, вот и прибежали осведомляться), он прислушивается к её голосу и тайком наблюдает за фигурой. Она божественно красива даже здесь, в монастырских стенах. Её красота поистине вечна и никакая ряса с платком не затмит. Однако же, Кирилл не отдаст. Монахиня будто бы огорченная тем, что ничего непозволительного за спиной Лизы не увидала, удаляется.
— Помнится, я говорил что не отдам тебя даже Богу, — выходя из укрытия он улыбается как последний черт. Ежели и хотел оставить Лизу в монастыре, то ненадолго. Пока не решится судьба сгорающего в постели Василия Борисовича. Пока не сгорит. Пока не закончится агония, объявшая державу. — Ты нужна мне больше, чем ему, — опускается на колени перед ней, что делал не единожды, и обнимая прижимается щекой к животу. Несколько минут погодя прижимается губами, закрывая глаза и застывая в блаженном мгновенье. А ещё несколько минут погодя понимает: самое в а ж н о е осталось совершенно без внимания. Самое важное. Перехватывает её руку, целует потеплевшими губами и поднимает взгляд, неизменно влюблённый и полный нежности, неизменно пробуждающейся рядом с ней. Смотрит снизу на Лизу долго и не потому, что не решается, а потому что робеет и теряет слова под красивым взглядом. Ею хочется любоваться тихо или целовать без устали.
— Ты станешь моей женой? — столь легко слетает с губ, а глаза мягко сияют светом свечи. Быть может, слова эти произнести тоже хотелось иначе, не в стенах монастыря. Быть может, на озере, посадив её в лодку в один пышущий цветением сладостным, весенний день. Они научились принимать покорно то, что уготовила жизнь; если только не уготовила одному из них смерть. Пусть монастырские стены, зато любовь всегда как весенний день. — Я совершенно точно уверен в том, что хочу этого больше всего на свете.
Поделиться42024-04-13 22:37:08
—…ну так посулите ему денег, поместья, увеличенное содержание, что угодно, но пусть вылечит его в конце концов!
Дворец погружался во мрак. Но не тот, который был присущ траурной печали уходящего в небытие монарха. Это скорее был испуг от ощущения тлетворной близости страшного недуга. Но, в отличие от прочих монархов, нашедших свое последнее пристанище в дворцовых покоях, некогда видевших их на блистательных балах, о скором уходе [а никто из притихших придворных, которые от греха подальше к покоям не подходили близко, а толпились прямехонько около дверей канцлера, не сомневался в том, что император вот-вот испустит дух] нынешнего властителя мало кто будет скорбеть. Нет-нет, все затаились в ожидании часа, когда из измученных страшной болезнью легких вырвется последний вздох и вот тогда начнется п р а з д н и к. Все затаились в тревожном мгновении ч у д а – именно так в придворной среде обеих столиц Российской Империи восприняли бы новость о безвременной кончине императора, который так и не успел толком укрепить свою собственную династию на троне. Да что уж там – ничем хорошим для них он запомниться не смог, как и особенно полюбиться. Народ вообще не склонен любить своих правителей [на то они и правители в конце концов], но этого народ просто предпочитал злословить и обсмеивать с особенным удовольствием, не подозревая, что может быть и хуже и бывают иные властители, имена которых после смерти предают забвению настолько они ужасны. Все затаились, с вожделением ожидая, когда можно будет выбежать на улицы, расцеловывая друг друга в обе щеки и поздравляя друг друга с этим знаменательным событием. Нет, он определенно знает, что вместо траурного почтительного молчания его сын заслужит открытые бутылки с вином и медовухой и приемы с танцами, которые вроде бы никто не одобрит, но всем будет все равно.
Да, народ так и не смог перестать сравнивать ушедших с Александром Петровичем Романовых и его непутевого сына. Жаль, что нельзя было предложить свою кандидатуру на эту роль – все одно толку было больше. А теперь что? А теперь в покоях заново отстроенного в Москве новенького дворца [идиот конечно тот еще – не надо было слушать московскую знать, переносить чертову столицу, чтобы вся знать петербургская, у которой власти было больше, откровенно обозлилась] сгорал от оспы не успев ни жениться, ни завести наследника. А значит пока он умирает, наследник должен быть найден. И Борис Федорович почти не сомневается в том, что бывшие лизоблюды вроде Голицыных теперь быстро перейдут на другую сторону там, в кабинете бесполезного уже давно Сената, пока он здесь, уныло дожидается то ли чуда, то ли конца света. Каждый из бывших «друзей» умирающего императора будет тянуть одеяло на себя, почуяв близкий запах власти – а запах это, как известно, довольно опьяняющий. А еще чего недоброго вылезут те, кто Апраксина терпеть не может – они как шакалы или падальщики, чувствуют, когда ты слабеешь и накидываются на тебя при первой возможности, стараясь урвать кусок побольше. Кого они найдут? Кто выйдет теперь вперед? Вспомнят о детях старших сестер Романовых, подыгрывая Австрии? Выдвинут собственных детушек, вспоминая о своем древнем происхождении то ли от самого Рюрика то ли еще от кого? И конечно же непременно будут те, кто был и тогда, когда все узнали о смерти Александра Петровича, те, кто стиснув зубы терпели его сына на троне тогда, когда к ним не стали прислушиваться, те, кто считали его сына на троне чудовищной ошибкой и не больше. Те, кто снова вспомнит о прямом потомке великого императора [твоего д р у г а, но считал ли он тебя своим другом, а, а?], который остался жив. О его дочери, о единственной незамужней сестре Александра Петровича [черт бы тебя побрал сынок, что ты не сумел подчинить себе б а б у даже будучи императором]. Она Романова и не просто Романова, а Романова по прямой линии и ничего вроде бы не мешает теперь посадить ее на трон. О да, демоны в аду и призраки за твоей спиной, Борис Федорович, ухахатываются вовсю. Теперь не получится говорить, что не до баб на троне – кроме баб никого и не остается, а? Но Елизавета Петровна на троне это все одно, что признать поражение, а заодно и однажды лишиться головы. Ведь сразу вспомнится вся та несправедливость, которая творилась с ней? А может и пронесет, а? В конце концов сейчас она в монастыре и пусть там и остается – монахиню никто на трон не посадит. Или нужно скакать туда, да снова преклонять колено, гнуть спину и клясться в верности, как делал это перед Романовыми до этого, пока те с царственным величием обтирали об эту спину башмаки?
Да как бы там ни было все, что выберет не о н, означает лишь свою собственную скорую кончину – просто так спокойно ему жить не дадут, в лучшем случае отправят на вечное поселение в глухомань к его недалеким родственникам без средств к существованию. А там – поминай как звали! И всем будет совершенно наплевать, сколько ты там для России сделал, сколько трудился на ее благо – все только и будут делать, что сыпать бесконечными проклятиями. В худшем – вернут поближе к Неве прямиком в Петропавловскую крепость, откуда мало кто выходил по крайней мере в здравом рассудке.
Да, теперь, они все конечно думают, что загнали его в угол, но они вечно его недооценивали, глядя свысока своего происхождения, древнего и бесполезного – какой-то сын то ли писаря, то ли конюха, то ли кузнеца, что с него взять? Да и к тому же не ясна ли им прописная истина касаемая того, что зверь, доведенный до отчаянья кусает куда сильнее? Нет-нет, чтобы по крайней мере сохранить себе жизнь, а еще лучше и влияние, решать то, кто займет теперь престол должен он, а для этого нужно найти кандидата, который хотя бы с виду будет соответствовать традициям и законам престолонаследия.
Медикусы, выписанные из Италии, теперь только разводили руками, пряча лица под этими страшными носатыми масками, какие бы теперь деньги он им не сулил. Жизнь в итоге оказывалась дороже, а все знают, что такое оспа и не торопился на тот свет.
— Но ведь бывали случаи, когда больной выживал?! Да или нет?! — Борис Федорович цепляется за призрачную возможность сохранения власти в нынешнем состоянии, смотрит на них, но те лишь трясут головами. Голоса под масками глухи и неразборчивы, но ясно можно понять одно – чуда не случится.
— Такое бывает, Ваша Светлость, но боюсь-с, что в случае Его Величества такой исход маловероятен, его болезнь слишком стремительно развивается и смею сказать, что если бы Его Величество отличался крепким телом мы бы могли испытывать робкие надежды, но…
—…но он слаб как мышь, это сказать мне хочешь, итальянец? — прерывает неразборчивое мямляние медикуса Апраксин, откидываясь на спинку стула и разглядывая противоположную за медикусом стену – на ней часть его коллекции бабочек. Те все так же были красивы и все также мертвы, пришпиленные булавками. Их век скоротечен, а он по крайней мере навечно запечатлел эту красоту. И это ведь даже лучше – иной раз некоторые дети мучают их сильнее, отрывая крылья по одному. Тогда бабочка еще какое-то время трепещет, в предсмертных конвульсиях. А так – один точный, смертельный укол и все сделано. Вот и с теми, кто тебе мешает надо было разбираться быстро, а не отрывать им крылья по одному. И если с бывшим императором так и вышло, то с остальными он промедлил. Надо было куда подальше отправить всех тех, кто противился, голосуя не за его сына.
Старый дурак.
А Васька…а что с него взять, подвел даже теперь. Крайней неудачный у него вышел сын. Даже умирает не вовремя.
Около плотно закрытых дверей императорских покоев дежурит одинокая фигурка Нади. Его дочь стала еще бледнее за время болезни брата, еще прозрачнее, а в больших карих глазах навечно казалось поселилось скорбное, почти затравленное положение. Борис Федорович кладет на худенькое плечо задремавшей дочери руку, та вздрагивает, поднимая голову и ее глаза расширяются, словно от испуга. Так странно, но в какой-то момент ему начало казаться, что дочь боится чего-то, если не его? Но почему? Все еще злится на то, что выдал ее замуж и скоро ей отправляться во Францию [дай-то Бог, чтобы после возможной смены власти, эта помолвка не оказалась разорвана]. Нет, здесь таилось что-то еще, но у него не было времени с этим разбираться. Да и вообще, Наденька была единственной, кому в этом дворце, в столицах, казалось не было все равно на умирающего еще в общем-то молодого императора, всеми настолько нелюбимого. Апраксин иногда сам диву давался – почему, несмотря на характер и поведение брата, та так беззаветно преданно его любила. Да, пожалуй его дочь действительно была ангелом. И тем больше берет злость на н е г о, на того, чьи портреты спрятали, а имя старались не вспоминать зная, как оно раздражает Василия Федоровича. Не оценил, не понял, не захотел. Женился на безродной девчонке.
Борис Федорович осторожно берет дочь за подбородок вглядываясь в идеальные, тонкие черты лица.
— Ступала бы ты, отдохнула лучше, Наденька, — советует он ей, а та лишь помотает головой, опуская взгляд. Длинные ресницы отбрасывают тень на бледное лицо.
— Нет, батюшка, я в порядке, не волнуйтесь, я здесь останусь, вдруг Вася в сознание придет.
«Если придет, будто о тебе вспомнит, глупая».
Прежде чем зайти туда, в это логово болезни, приходится тоже натянуть на себя маску с длинным крючковатым носом, в которой дышать ужасно трудно, но уж лучше так, чем испытать смертоносную болезнь на себе. Видишь в ней также размыто, а на лице из-за духоты и невозможности нормально вдохнуть появляются капли пота. И все же, он должен теперь сам окончательно убедиться, что спасения нет, а тогда уж начнет действовать на опережение.
В комнате полумрак от чего передвигаться становится еще сложнее. Тяжелые шторы опущены и не понятно даже какой теперь час – в этой части дворца наступила вечная ночь, пугающая и даже зловещая. Горят свечи, люди в таких же масках периодически меняют их, с них капает воск, а сами они отбрасывают лишь призрачные тени на стены. Здесь не разберешь благодаря маскам кто перед тобой – князь или просто слуга, вынужденный находиться здесь неотлучно. Ведь в конце концов что стоит жизнь крепостного?
Благодаря этой тьме, этим людям-маскам, которые здесь маячат тенями, темно-бордовой плотной ткани балдахинов над кроватью, кажется словно ты как минимум спустился прямиком в преисподнюю или в лучшем случае в чистилище. Может быть здесь царство Аида, может прямо под кроватью дремлет Цербер, но смертью здесь действительно пахло. Этот тяжелый запах, перемешанный с чем-то дымным, терпким и горьким, запах тлена, запах боли.
Он одернет легкую ткань, отделяющую ложу больного от остальных и невольно дернется назад. Еще неделю назад, когда Борис Федорович справлялся о здоровье сына и императора, он выглядел чуть л у ч ш е, но сейчас в этом странном существе, лежащем под покрывалом, сложно было узнать не только его сына, но и вовсе ч е л о в е к а. И много повидавший на своем веку Апраксин чувствует, как шевелятся волосы на руках, а пот, теперь уже совсем не горячий, а холодный выступает на висках и противными каплями стекает вниз. Но он сдерживается, сдерживает тошноту, подкатившую к горлу, всматриваясь в это создание, склоняясь ближе.
Император представлял теперь зрелище мягко сказать печальное. И без того несимпатичное лицо теперь было покрыто отвратительными оспинами – красные нарывы казалось вот-вот разорвутся, извергая из себя отвратительное содержимое. Глаза его настолько опухли, что вряд ли теперь он смог бы их открыть полностью – на веках тоже поселилась эта страшная болезнь. Эти пятна были повсюду – даже на его черепе, который частично, казалось облысел, он видел их в редких волосах, прилипших к вспотевшему лбу. Губы императора потрескались, покрывшись сероватой коркой и едва-едва шевелились, в тщетных попытках поймать чуть больше спертого воздуха в легкие, измученные болезнью и жаром. Кожа его была теперь столь туго натянута на череп, что можно было увидеть кости – так он похудел за это время. И боже, боже мой, даже если он поправится, то всю оставшуюся жизнь будет носить маску, ведь с таким лицом не показаться перед людьми. Но вероятность того, что человек, лежащий перед Апраксиным, вообще встанет, стремилась к нулю. Его сын изменился до неузнаваемости, снедаемый изнутри жаром и болью и не особенно даже прореагировал, как казалось, когда страшная маска склонилась перед ним. Лихорадка мучала его уже не один день и со стороны Бога было бы милосерднее, пожалуй, прекратить эти бессмысленные страдания.
Надо было бы вызвать священника.
«Так дай ему яд, который дал мне и прекрати их».
Апраксин вздрагивает, когда слышит этот голос, оглядывается воровато, но в спальне кроме него, пары слуг и сына, распростертого на этой кровати, никого нет. Но голос, такой четкий голос, знакомый разумеется ему, Апраксину очень хорошо, он слышал явно и точно. Но все ведут себя так, словно не слышали таких страшных слов.
«Нужно больше спать тебе, Борис Федорович».
Он снова обращает свое внимание на сына, зовет его тихо и осторожно, словно даже боится, что тот ответит, зовет по имени и не особенно надеется, что тот услышит. Но вдруг, неожиданно, тело императора передергивается и холодные бледно-голубые глаза распахиваются, а рука, как и все тело покрывшаяся отвратительными нарывами неожиданно цепко, неожиданно крепко ухватывается за отцовский рукав. Это все происходит так быстро, что едва ли Апраксин-старший удерживается от испуганного крика. Сухие губы прошелестят:
— Лиза? Лиза это ведь ты? Ты пришла ко мне? Как хорошо… — дыхание с хрипами вылетает у того из груди. —…что ты пришла…теперь сыграем свадьбу…
Нет, он все также находился в безумии, в этом же сумасшествии, в котором находилась и его сестра. Они оба слишком много думали о Романовых. Одна о старшем, другой о младшей. И она, Елизавета Петровна, также как и ее брат, такой беззаветной и слепой, щенячьей почти преданности, конечно не оценила. И совершенно неожиданно для Апраксина, который за всю жизнь не испытывал особенно теплых чувств к старшему сыну, почувствовал что-то похожее на…сострадание? Горечь? Жалость? Жалость к этому безумному и больному человеку, еще по сути молодому, весьма запоздалое, со скрежетом просочившееся в Апраксинскую душу.
Рука сына, тем временем, безвольно падает обратно на постель, отпуская окаменевшее тело отца.
Нет, к лучшему, что свадьбу конечно не сыграли – иначе у Елизаветы Петровны стало бы еще больше причин претендовать на трон. Дочь, сестра, невеста и не дай боже жена императора. Почему нет? Но с другой стороны, они, Романовы, пренебрегающие теми, кто им предан, кто их любит – о, он ненавидит их теперь еще сильнее, глядя на умирающего в таких муках сына.
«Убьешь ее также, как убил меня?».
— Да кто это, черт побери?! — вскрикивает отчаянно, заставляя вздрогнуть стоящего у двери парнишку. Он обводит глазами покои, но опять никого не находит. Взгляд в маске падает на зеркало, притаившееся у окна. И вдруг, в отражении прямо за своей спиной он видит фигуру – высокую, статную фигуру в белоснежном царском камзоле, неподвижно застывшую, но ужасно реальную. Апраксин обернется резко, но за своей спиной увидит лишь тьму и пустоту. В комнате нет другого человека, но почему-то очень хочется поскорее отсюда убраться.
«Неужели ты думаешь, дядя, что сможешь сбежать?».
Тот рванется к несчастному зеркалу, сам толком не понимая, что делает. Маска душит и в голове совсем мутнеет. Но в зеркале, в этом чертовом зеркале он снова видит его позади себя, эту величественную тень, которая то мутнеет, расплываясь и превращаясь в ребенка, то вновь становится юношей. И теперь ясно кажется видно его лицо – бледное, но прекрасное, с кровью около губ. Наверное, именно такая кровь стекала у него с губ, когда он умирал – таков яд.
— Чего ты от меня хочешь? — шепчет, шипит на призрака своего сознания Борис Федорович, не обращая внимание на то, как это смотрится со стороны. — Зачем мучаешь?
«Ты убил меня, а теперь твой собственный умирает такой же жестокой смертью. Сколько еще смертей нужно?».
— Не правда! — вскрикнет, общаясь как заколдованный с собственным отражением и с С а ш е й, вид которого в этом зеркале вызывает мурашек не меньше, чем вид сына на кровати. — Не правда! Ложь!
«Ты убийца. Я любил тебя, я верил тебе, а ты убил меня. Он умирает из-за тебя. Из-за тебя».
— Нет! — голос переходит на какой-то фальцет, испуганный, надрывный и отчаянный. — Уйди! Уйди!
«Убийца».
— Замолчи!
«Убийца. И все однажды узнают об этом».
Апраксин кричит, вопит, кидает в зеркало первое, что попадается под руку – стул, приставленный к кровати и разбивает его. Осколки падают на пол, испуганно охают слуги, а он только отползает подальше от чертового стекла, от этих осколков, словно боится увидеть даже в них разбитое отражение мертвого императора. А потом, не обращая внимания на слуг, которые наверняка теперь станут судачить о том, что к канцлеру из-за случившегося с сыном подступает безумие, на подкашивающихся ногах выходит из спальни прочь, сдирая с себя маску, судорожно заглатывая воздух, не в силах сказать испуганной дочери не слова какое-то время.
Восстановив наконец дыхание, поворачивает к ней раскрасневшееся от удушливого кашля лицо.
— Он умирает, — стараясь унять бешеное сердцебиение бросает Борис Федорович, дергая за воротник. Воздуха все еще не хватает. — Точно умирает, — распрямляется наконец и пытается вернуть разуму ясность. Нужно действовать пока не поздно, нельзя позволить вырвать из своих рук бразды правления империей теперь. А призраки – это всего лишь призраки.
И словно в подтверждение его слов, там, в спальне с разбитым зеркалом, сухие губы прошелестят тоскливое: «Папа», возможно в последний раз в своей жизни.
Но и на этот раз отец этого не услышит.
<!--HTML--><table style="table-layout:fixed;width:100%"><tr><td style="width:50%;background-color:#000000"><p><span style="display: block; text-align: center"><span style="color: white"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 18px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10px"> бессрочно кораблю </span></span> <span style="font-size: 16px"><span style="font-family: Arial Black">не п л ы т ь </span><span style="color: white"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10px">и соловью </span></span> <span style="font-size: 16px"><span style="font-family: Arial Black">не п е т ь </span></span><br/><span style="display: block; text-align: center"><span style="color: white"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10px">я столько раз</span></span> <span style="font-size: 16px"><span style="font-family: Arial Black">хотела ж и т ь </span><span style="color:#B22222"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10px">и столько </span></span> <span style="font-size: 16px"><span style="font-family: Arial Black">у м е р е т ь </span>



Лишь дай мне посмотреть в последний раз в твои глаза
Я солнцем обернусь и в них останусь навсегда
Если бы кто сказал ей о том, что она когда-нибудь кого-нибудь полюбит так, как любила теперь его, этого своего мальчика с чистыми серыми глазами, меняющимися в зависимости от эмоций им испытываемых, то она, пожалуй бы рассмеялась. Рассмеялась бы как умела смеяться тогда и как кажется теперь разучилась – звонко и громко. Ведь про такую любовь обычно писали в книжках, которые барышни прятали под подушки от отцов и обычно была она столь наивна, что хотелось сказать лишь одно простое: «Не верю». Хотя нет-нет, такой любви не было описано в книгах, которые она когда-то презирала, предпочитая им работы философов или приключенческие романы, где герои смело бороздили просторы океанов и морей. И неудивительно, что не было – разве от такой любви можно выжить, чтобы после написать о ней? Нет, она бы не поверила этому шутнику, кто расскажет ей об этом – в конце концов она видела слишком много примеров «любви», которой там и не пахло. А потом появился нежданно-негаданно он, серьезный и правильный мальчик из той породы людей, которой все меньше в этом государстве. Появился, остался рядом, она сама не заметила, как полюбила [а не придумала себе светлое прекрасное чувство к человеку того недостойному], а потом он вздумал умереть почти что на ее глазах. И теперь, когда обрела его снова в этой самой монастырской келье, может быть совершая один смертный грех за другим [ведь какой, право, мужчина в женском монастыре?], Лиза кажется окончательно поняла.
Мне ничего не нужно, Кирюша.
Мне нужно, необходимо только, чтобы ты был жив. И почему мне постоянно нужно об этом просить?
Да, из-за моего не в меру эгоистичного желания, чтобы ты был рядом ты едва не умер. Я д у м а л а, что ты умер, боже, я позволила себе так думать, в это на секунду поверить. Мне нельзя оставлять тебя здесь, мне нужно сказать теперь, когда я убедилась, что ты не сон и не призрак, сказать тебе уходить, потому что в сущности ничего ведь не изменилось, так? Как только я покину эти стены меня ждут другие, а вовсе не ты. Но боже, боже мой, хотя бы на несколько мгновений \\ дней \\ часов, о с т а н ь с я.
Останься со мной.
Она кивает, подтверждая его несколько растерянный вопрос относительно ребенка. Да, возможно и стоило сообщить об этом иначе, но черт знает как обычно об этом сообщают и потом – у них особенно нет на это времени. Нет времени на красивые жесты и заранее подготовленные речи. Тем более нет этого времени у нее – ребенок растет быстро, скрывать это даже за просторными простыми одеждами, в которых издалека ее едва ли вообще можно было бы узнать ее, цесаревну, скоро могло и не выйти. А ее единственным желанием долгое время было иметь возможность рассказать ему об этом ребенке и увидеть, как во все тех же родных глазах поселяется это заметная только ей выражение, от которых они теплели. Боже, за это страшное время, пока она думала, что Кирилл мертв, она и не надеялась снова увидеть эту улыбку, в наличие которой многие, возможно и не верили. В конце концов Волконский так редко улыбается, словно это какая-то тягость!
Сердце продолжает бешено стучать в груди, глупое сердце – она и не думала, что оно снова может застучать так быстро и так сильно. Что оно вообще снова сможет забиться. В нем же болью отдается этот его кашель, взявшийся неизвестно откуда, возвращающий ее затуманенное искрами счастья от этой встречи сознание в реальность. В реальность, в который он чудом остался жив, но как она толком не знает. В реальность, где через несколько месяцев она наденет черное одеяние и уже никогда его не увидит. А если не наденет, то наденет платье белое, но еще более ей ненавистное.
Успевает поймать его несчастную голову, по которой с такой силой ударила святой книгой, до того, как она соприкоснется с полом, осторожно-ласково укладывая его обратно к себе на колени, касаясь холодной ладонью его щеки. Пальцы ощущают слегка знакомую колючесть и теперь это кажется лучшим ощущением на свете. Просто его касаться. Не во сне, а по-настоящему. И не важно, что его голос непривычно скрипуч из-за все того же надсадного кашля, не важно, что он и сам осунулся за то время, за которое она его не видела. Главное, что он был здесь хотя бы на эту минуту. Хотя бы еще немного.
— Не так давно узнала, Кирюша, — пальцы сами собой путаются в его непослушных волосах, ласково приглаживая их и все еще словно пытаясь хоть как-то залечить очевидную шишку после встречи с ее Псалтырью. — Узнала когда… — «Когда ты умер. Когда я думала, что ты умер. Когда мне сказали, что ты умер». — Володя приходил и сказал, что ты наверняка мертв. Что они искали тебя, но не нашли, а потом крестьяне на постоялом дворе сказали, что барина молодого хоронили. Красивого… т е м н о в о л о с о г о, — свой собственный голос тоже начинает сипеть, садиться, как только ей приходится возвращаться в тот самый роковой разговор, в те самые времена, которые после смерти Саши оказались самыми темными. — Я не хотела верить, что ты можешь умереть, потому что…ты же мне обещал. Обещал меня никогда не отпускать. А потом… — «Потом я думала, что умру следом, потом я подумала, что жизнь в общем-то не имеет смысла». —…потом я узнала о ребенке. И я обязана была что-то придумать, чтобы его сохранить. Потому что это т в о й ребенок, Кирюша, — она резко обрывается, проглатывая вставший в горле комок и сдерживая слезы, которые и без того не проливались все это время. Лиза и вовсе думала, что плакать разучилась. А теперь, когда видит его, смотрит сверху вниз на его лицо, сразу захотелось разрыдаться.
Нет, конечно же она и не подумает рассказывать ему о том, ч т о пришлось сделать для того, чтобы оказаться хотя бы в монастыре. Сколько раз пришлось перешагнуть через себя, изображая благосклонность к человеку настолько ее недостойному. Кирилл, возможно, и так догадается, но она, наученная теперь горьким опытом мужской жажды справедливости, просто не может позволить ему это узнать. И она буквально видит, как в нем снова закипают все те же чувства, которые она может и разделяет, но от которых его самого постоянно пыталась уберечь с переменным успехом.
— В том то и дело, Кирюша! — Лиза качает головой, поспешно, заполошно, хватая его за руки. — В том то и дело, что мертвым ты никак бы его не убил, да что там – ты бы ничего не сделал! Мертвый – это мертвый. Это холод, тлен, могила! А ты чуть было там не оказался, неужели недостаточно?! — голос опасно повышается и в нем нет-нет, но просквозит эта горечь, которая наполняла ее саму в последнее время.
Лиза тоскливо провожает его взглядом, наблюдая за тем, как сотрясаются от кашля плечи, все еще чувствуя на своих ладонях тепло его рук.
«Но что теперь?».
Лиза чувствует, как мир, который в одно мгновение засверкал, как сверкают купола храмов на солнце или первый снег: ослепительно, ярко, постепенно тускнеет, приобретая все более реальные очертания, а именно — мир снова темный, неуютно-колючий. Словно ты не задавала себе этот вопрос? Правда, тогда, когда ты себе его задавала, Кирилл вроде как был мертв. И ты позволила себе п о д у м а т ь, з а м е ч т а т ь с я, глупо и наивно, что теперь все отчего-то будет иначе. Но ведь не будет? За стенами все также шпики, все также свадьба, а здесь, внутри все также постриг. Что изменилось с того утра дождливого, когда ты просила его не горевать сильно, вспоминать о себе изредка, о т п у с т и т ь?
Лиза тоже поднимается с деревянного пола, улыбка – эта отчаянная, светлая улыбка постепенно стирается с лица, только в глазах остается выражение, с которым она разглядывает его, сгорбившегося в этом углу. Лиза смотрит с жалостью, Лиза смотрит с любовью – она испытывала это отчаянье, которое теперь охватило и его. Она его понимает, но ничем не может помочь.
«Я должен был прийти сюда, чтобы забрать тебя. Но я не могу, Лиза. Не могу!»
И она ведь это понимает, понимает и не собирается спорить, но сердце больно уколет шип, заново в нее воткнутый. В этом и проблема надежды даже мимолетной, даже безумной, даже слепой – если надежды не сбываются, потому что изначально безнадежны, терять их намного больнее. Он остался жив – это главное, по крайней мере и она сможет ж и т ь, даже обрекая себя на существование ей не свойственное и не подходящее.
Что же, по крайней мере будет за кого молиться.
— Я знаю, — просто отвечает она на его отчаянный взгляд, на его попытки хоть как-то с этим бороться. Проблема в том, что она как раз с этим смирилась. Да, ее непоколебимую уверенность в том, что шансов все исправить нет, на миг пошатнуло его воскресение [почти что чудо], но лишь на миг. На прекрасный и обманчивый миг. Лиза разглаживает руками грубоватое полотно своей рубахи, в которой собиралась засыпать. Под ладонями чувствуется словно призрачное движение, от чего ладонь хочется прижать только сильнее. Этого конечно пока не может быть – слишком рано. — Я знаю, что не можешь. Что не сможешь.
Они теперь стоят друг напротив друга, так близко и так далеко. Как и тогда – вроде бы можешь протянуть руку и коснуться, но кажется будто не дотягиваешься. Словно чего-то не хватает. Слишком, как оказывается далеко. Лиза мужественно выдерживает этот его взгляд, взгляд который рассказывает все, что она совсем не хочет знать. Ведь было бы проще не слышать этого мысленного «я скучаю».
Потому что я тоже скучаю.
Я люблю тебя.
И я тоже.
Но этого недостаточно, так?
— Я знаю, что если бы у тебя была возможность, ты бы меня… н а с забрал, — исправляется, потому что она и правда теперь не одна. — Но мы оба знаем, что ее нет, так? — губы натягиваются в дрожащую улыбку, которая быстро меркнет.
«Быть может, тебе лучше остаться здесь».
Вопрос ли это или утверждение – не важно, что-то больно царапнет в груди от жестокости правдивости этой фразы. Больше ей уже некуда идти, как бы ей не хотелось броситься к нему и …
«Нет, забери меня отсюда, ты ведь жив. Позволь мне быть рядом. Забери меня, спаси меня, не отдавай меня, я не хочу, не хочу, разве ты не видишь?!».
Нет, хватит с него ее эгоизма, с которым она вцепилась в него. Это ведь из-за нее теперь он кашляет, из-за нее его гонят из столицы, из-за нее чуть не убили. Она знает – если она скажет то, что действительно хочет сказать, то он останется, он заберет ее, выкрадет, он сделает все от него зависящее. Потому что он всегда так поступал. Если надо и умрет, «положит живот», «сложит голову». Как и все такие мальчики [но нет, милый, ты конечно особенный]. Но ей не нужны такие жертвы. Больше нет. Это раньше, когда была веселой цесаревной, отцовской «пташкой», «светлячком», подобное казалось правильным и немного забавным. Ты распоряжалась такими обещаниями [за ними тогда ничего правда не таилось лишь слова] как хотела, ты потешалась, ты считала это романтичным. Но ничего романтичного в этом нет – это только боль, видеть как эти мальчики умирают. Если она теперь скажет ему, попросит его все равно забрать ее, возьмет свои собственные слова назад, то лишится его во второй раз, а может и ребенка лишится. И тогда все зря. Зря.
— Здесь я в безопасности. Ты сам видел этих людей. Пока я здесь меня защищает церковь, а с ней наш император и так постоянно ссорится, если попробует забрать – народ не поймет. А митрополит наверняка возмутится. Поэтому я и здесь. И ребенку ничего не угрожает – даст Бог, все будет хорошо.
Какая ложь. Ничего не будет хорошо, как только ты снова останешься одна. Словно ты не знаешь, Лиза.
Кирилл отворачивается от окна, в которое смотрел с этим страшным для нее выражением лица. Если уж ты, милый, сомневаешься в том, что мы справимся, то у меня и вовсе нет веры в славный исход. Чем дольше он говорит, тем сильнее бледнеет ее собственное лицо [хотя казалось бы куда еще сильнее?], а сердце вновь пускается вскачь. Лиза боится этого чувства, этой вновь зарождающейся надежды на хороший исход, от которой потом только хуже и больнее. И ведь это, право, ужасно, надеяться на чью-то смерть [Кирилл, впрочем, кажется особенного сожаления не испытывал], уж тем более ужаснее это под взором Господа в монастыре. Лиза даже перекрестится, потому что от одного слова «оспа» передергивает.
— Вася болен? — переспрашивает на всякий случай, чтобы убедиться в том, что не ослышалась. — Кто-нибудь еще заболел? Какой ужас… — вырывается невольно. Вряд ли Кирилл согласился бы с тем, что в этом есть нечто ужасное, а Лизе наоборот почему-то страшно, стоит лишь представить эту болезнь, которую во истину даже врагу не пожелаешь. Но больше страшно если заболеет кто-то из близких. Там осталась Варя, если только ее отец не забрал ее в Петербург при первой же возможности. — Он у м и р а е т?
Лизы будто две. Одна отчаянно надеется, что действительно умирает, потому что тогда…тогда даже дыхание захватывает. Другая помнит о своем детстве, которое проводила с Сашей, Васей и его сестрой, а теперь почти все мертвы или разбиты или близки к смерти. В душе уже не осталось сил ненавидеть, как ей кажется. Да и Кирилл, в конце концов прав. От оспы и вылечиться можно. И она, которая было порывается подойти к нему, только лишь дергается, оставаясь на одном месте, зачарованно разглядывая его силуэт в оконном проеме.
Надежда ломает крылья, не успев, толком родиться.
— Ты прав…Не будет… — тоскливым эхом повторяет за ним его же слова, потухает едва загоревшись, но продолжает следить за ним, за каждым движением, жадно, стараясь запомнить, сохранить в памяти. — Пусть и не создана, — она проглатывает слезы в очередной раз, вздергивая подбородок. — но у меня нет другого выбора, разве ты не так сказал? И я благодарна, что меня укрыли здесь, потому что это единственный способ спасти нашего ребенка. И ради этого я сделаю не только это. Ты ведь меня знаешь.
Бледная улыбка касается губ и мгновенно исчезает. От нее только больнее, как и в принципе от всего фальшивого.
Что теперь будет? О, как бы ей хотелось сказать, что ничего не будет. Как бы хотелось обмануть и его и себя, просить остаться с ней здесь вплоть до рождения ребенка или хотя бы на один-единственный день, хотя кого она обманывает – ведь одного дня будет действительно мало. Вечности будет мало. Она уже давно рассыпалась, растрескалась и все никак не поймет откуда берутся силы для того, чтобы вообще стоять уж не то что говорить. Кирилл здесь, рядом, протянуть руку только нужно, но этого мало, мало, мало!
— Сейчас уже поздно, — задумчиво отвечает она, взгляд потухает окончательно. — Если попытаешься теперь уйти можешь разбудить кого-нибудь или на сестер наткнуться со Всенощной… «Останься, останься, останься, не оставляй меня одну о п я т ь». К тому же, ты не здоров, будем честными, — встряхнется, предавая себе спокойный вид. — Лучше к рассвету уходить, а пока…
Она не договаривает, что «пока», потому что в дверь стучатся настойчиво и часто – это Феклуша, у которой ко всем прочим ее достоинствам вроде сметливости и удивительным «золотым рукам» [у нее выходило буквально все за что бы она не бралась] был удивительно чуткий слух и одна очевидная проблема – она слишком любила за всеми наблюдать, а после рассказывать о своих наблюдениях непосредственно матушке-настоятельнице. Вот и теперь круглолицая, постоянно ласково [иногда через чур] улыбающаяся монахиня застывает на пороге келейки, очевидно ожидая увидеть в ней если не мужчину [такое здесь вообще мало кто ожидал увидеть], то действие какое-нибудь безнравственное. Лиза с горькой усмешкой отмечает про себя, что если не шпионы императора, то шпионки крестной. А в итоге – все равно за ней следят.
Лиза не видит, куда прячется Кирилл, не успевает этого заметить, надеясь лишь на то, что его не обнаружат и еще сильнее надеясь на то, что он не исчезнет. А если вот сейчас, как только удастся спровадить Феклушу куда подальше, она закроет дверь, а в отведенной ей келье лишь пугающая пустота. Если все это время она просто сходила с ума? Если…
— Не случилась ли чего? – интересуется тем временем сестра, заглядывая Лизе через плечо, но не замечает, возможно даже к своему разочарованию, ничего необычного. — Шум такой слышала, дай думаю спрошу все ли в порядке.
— О, не волнуйтесь, я просто такая неловкая – Псалтырь уронила, устала видно совсем… — Лиза демонстративно зевает, стараясь таким образом показать, что и общаться долго не может из-за все той же усталости.
— Ох, из-за ребеночка-поди, умаялася бедная наша, — Феклуша быстро закивает, уже в закрывающуюся дверь советуя, если что-то понадобиться сразу говорить. Все, что сейчас нужно было Лизе остаться одной. И не оставаться одной никогда. Нет, не так. Ей нужно было остаться с ним. Так будет правильнее.
Как только дверь окончательно закрывается, Лиза еще какое-то время стоит неподвижно, напряженно прислушиваясь к шагам за ней. И только когда шаги окончательно стихнут на каменных ступенях, выдыхает, оборачиваясь и встречаясь с пугающей тишиной окутывающей ее. Все, как и было до того, как Кирилл снова неожиданно появился в ее жизни. Одинокая и почти догоревшая свеча, кровать, застеленная жиденьким одеяльцем из матраса которой торчит солома, грубо сколоченный стол, стул, образ Божией Матери в углу, все как и было. Будто его нет. Будто показалось.
Похолодеют кончики пальцев от этого внезапного испуга и Лиза, невольно-моляще позовет, обращаясь к темному пространству перед собой:
— Кирилл?... — словно и не верит, что он правда здесь был.
Но был, и есть, из-за чего не сдерживает облегченного выдоха, плечи устало опадают. Вот такая это жизнь – вечно прятаться, скрываться, бояться, словно это преступление. Впрочем, в этих стенах может и так. Но ведь Бог видит все – так их учили. Так значит Бог должен знать почему это происходит. Бог должен знать что такое любовь. Он ведь сам ее придумал, создал. Неужели для того, чтобы отнимать?
Она снова замирает, как только он, неожиданно преобразившийся вновь оказывается перед ней на коленях с этими сияющими глазами, которые снились ей каждую ночь, каждую о д и н о к у ю ночь, она вздрагивает, как только он прижимается щекой к животу, а в горле снова встанет комок уже который по счету, но с ним она уже справиться не сможет. Горячие, обжигающие слезы прокладывают дорожку по щекам, пока он смотрит на нее, пока он обнимает ее, пока его губы касаются прикрытого одеждой и еще совсем не заметного живота, а она ничего не может с этим сделать. Он смотрит на нее, а она неожиданно понимает, что просто не может этого выдерживать. Она понимает, что еще немного и он конечно же ее заберет, снова подставится, снова погибнет, а она ничего не сможет сделать, никак не сможет этому противостоять. Потому что разумеется, скажет: «Да». А не должна.
Но, как оказывается, то, что он собирается сделать куда серьезнее.
И отказаться от этого тоже. Нет, не сложнее. Просто невозможно.
«Что же ты делаешь, милый?».
Лиза вроде бы и хочет освободиться, забрать свою ладонь из его руки, но не может даже пошевелиться, застывая изящной гипсовой статуей и во все глаза глядя в его лицо.
«Ты станешь моей женой».
Да. Да. Да! Еще тысячу и тысячу раз «да», которое она никогда не сможет сказать. Не должна говорить, но боже мой какой соблазн сказать это «да» теперь.
«И я тоже хочу этого больше всего на свете, ты же знаешь?».
Лиза делает то, что не сделала бы ни для кого другого – в силу характера она просто не могла так поступить, не умела. А теперь, Лиза склоняется, почти падает на колени рядом с ним, становясь таким образом одного с ним роста. Колени болезненно ударяются об пол, пока она заглядывает ему в лицо, в его прекрасное и одухотворенное лицо. Да, именно с этим человеком и хочется провести свою жизнь – это же очевидно. Потому что никто и никогда, даже когда клялся в верности, когда восхищался ее красотой и просил о благосклонности, не смотрел на нее т а к. На нее смотрели с обожанием, восхищением, с желанием о б л а д а т ь, но никогда не смотрели так, как смотрел теперь он.
Вот так они и стоят теперь друг напротив друга, оба на коленях, несчастные влюбленные, несчастные певчие птицы, которые за шанс спеть эту прекрасную песню любви непременно наткнутся на шип. Но это будет конечно же того стоить. Ведь…
Влюбился в розу соловей прекрасную порой.
И кружит день и ночь над ней, как будто заводной.
В любви признания дарит ей, а роза все молчит.
Ведь знала та, что соловей, себе лишь навредит.
А наш герой все шибче к ней, обнять ее спешит.
И в миг влюбленный соловей у ног ее лежит.
Уж много крови утекло и сердце не горит.
Уж много дней с тех пор прошло, а роза все скорбит.
— «Влюбился в розу соловей, прекрасною порой…», — Лиза дрожащими ладонями обхватывает лицо Кирилла, прижмется лбом к его лбу в губы заполошно шепча строчки из давно забытой песенки, которую столь бойко исполняла на праздновании своего же 18-ти летия. И словно это было в прошлой жизни – в прошлой, блистательной и беззаботной жизни, где она как птица, которых так любила, порхала над величественными стенами дворца [тогда, когда он еще был домом], пела, влюблялась, обнимала отца, подшучивала над братом, кидаясь тому на шею. Флиртовала. В общем – была совершеннейшей дурочкой, но была счастлива. Так странно – найти настоящую любовь, о чем многие мечтают, но стать несчастной. В этом смысл любви? — Мой милый, мой любимый, мой Кирюша, — Лиза даже не пытается стереть слезы, которые стекают вниз, собираясь у подбородка. Она мотает головой, только плотнее прижимаясь к нему, а тело сотрясается в рыданиях, которые столько времени сдерживала. Да, пожалуй на предложение руки и сердца никто так не реагирует. Саша непременно что-нибудь сказал бы. Веселый голос брата в голове заявит: «Почему все дамы распускают сопли? Вы должны улыбаться, а не становиться уродинами!». Но от мыслей о брате становится только хуже. Да, на предложение так не реагируют, особенно тогда, когда собираются согласиться.
А если собираются о т к а з а т ь?
Лиза знает, что он все чувствует точно также, как и она, поэтому наверняка предпочел бы, чтобы она не продолжала. Она и сама предпочла бы онеметь на это роковое мгновение. Или навсегда. Они удивительно хорошо понимали друг друга даже без слов. Лизе бы наконец объясниться, отпустить его, а она продолжает его обнимать, как если бы это помогло смягчить падение. Он ведь так тебе ни за что не поверит – когда отказывают так тоже не обнимают.
— Кирюша мой, прости меня…
«Замолчи, замолчи, замолчи».
Если Кирилл здесь, чтобы приносить дурные вести, как он думает, то она рядом с ним всегда исключительно для того, кажется, чтобы причинять боль.
— Прости меня, милый, — глотая слезы, но все еще цепляясь за него теперь заглядывая в его лицо. — ты же знаешь эту песню, ты ее помнишь. Я не знала тогда, но эта песня – про нас. Про соловья, который непременно погибнет и про розу, которая будет скорбеть. Кирюша, — не давая отпустить себя, не давая заспорить, не давая отвернуться, удерживая напротив себя. — как я могу сказать «да», когда это будет означать твою возможною гибель? — короткая пауза, чтобы набрать в легкие больше воздуха. — и как я могу не сказать тебе «да», когда это единственное, чего я хочу? — заглядывает в его лицо, трясется, вздрагивает, если бы не держалась за него так крепко и так отчаянно. Вытирает тыльной стороной ладони мокрое от слез лицо. Рука сама собой потянется к его шее, на которой прячь не прячь, но все равно виднеется полоска на шее. Рука потянется к его плечу, которое явно доставляет ему неудобства. И это не рана, полученная в бою с противником, на войне, это рана полученная из-за нее. Пальцы аккуратно, нежно прочертят эту линию, виновную в этих его приступах кашля. — Сколько таких еще будет, Кирилл? Как я могу согласиться, если ты сам сказал, что не знаешь, что будет завтра? Как я могу дать тебе надежду, а после ее отнять, как только он пойдет на поправку? Согласиться, чтобы потом отказать? Кто говорит «да», чтобы потом сказать «нет»? А ребенок? Наш ребенок… — она прикладывает его руку к своему животу снова, стараясь даже не думать о том, что такой простой жест делает ее почти счастливой и кажется, что все будет хорошо. —…рисковать им слишком эгоистично. Ты сам сказал, что мне лучше оставаться здесь и ты прав, нет, послушай меня, прошу, умоляю, послушай, — она настойчиво всматривается в его лицо, просто не принимая никаких возражений, не желая их слушать. — Когда я думала, что ты умер, я думала написать твоим родителям письмо, в котором просила бы их взять его, когда он родится. Кирилл это должен сделать ты. Ты должен мне пообещать, что если… я так и останусь здесь, то ты заберешь его, ты сохранишь его, ты вырастишь его подальше от этого всего, не спорь, только так я буду знать, что это не зря. Тогда я буду спокойна и может быть, даже, счастлива…
Это конечно ложь, она никогда не станет счастливой если откажет ему, если не будет женой единственного достойного человека здесь и она это понимает, утыкаясь куда-то ему в плечо растрачивая весь запас сил, которые у нее были. За окнами сияет ночь, прохладная осенняя ночь, свеча еще немного и окончательно потухнет. А Лиза, словно понимая, что после такого возможно больше никогда его не увидит, стоит отпустить его за дверь, затрясется, снова за него цепляется, хотя вроде бы не должна, должна отпустить.
— Нет-нет-нет, я не могу, Боже, не могу, я должна, а не могу… — отчаянным голосом, срываясь на шепот бормочет она ему в плечо, а после снова вглядываясь в эти так прекрасно сверкающие глаза, которые обещали ей рай. — Я не хочу, не хочу, не хочу, чтобы ты уходил, но ты должен это сделать теперь. Боже, я наверняка попаду в ад, — Лиза прошепчет это, прежде чем поцеловать его так, как мечтала поцеловать все это время.
Ей хотелось сказать ему так много. О ее любви, о той нежности, что щемит сердце, о страхе за то, что ждёт в будущем. Вместо этого она в этом отчаянном порыве целует его, вложив в прикосновение все свои чувства, которые смог бы распознать лишь он один. Она растворяется, исчезает, плывет в пустоте, точно в своём сне ощущая каждое прикосновение его пальцев и думает о звёздах, падающих с неба и оставляющих за собой пылающий след. В этот миг — сколько бы он ни длился, секунды, минуты, дни, — когда он выдыхает ее имя ей в губы и оно смешивается с дыханием, она понимает, что это возможно последний их поцелуй.
— Если… — она задыхается от этого чувства, она тонет, тонет, тонет. — …если он все же умрет, если я окажусь свободна от этих обязательств, а мы будем в безопасности… Спроси меня снова, слышишь? Спроси меня об этом снова, Кирюша, — она умоляюще почти смотрит ему в глаза. — Спроси и я отвечу, что хочу этого больше всего на свете. Спроси – и я твоя. «Вернись, умоляю, молю, требую, прошу - вернись и забирай», помнишь? Это я писала в письме. Я помню его наизусть, хотя написала за один раз. «Я не могу без тебя жить, слышишь, понимаешь? И как только представила, что могу остаться на земле без тебя - нет, уж лучше в омут, да с концами». Мне столько раз рассказывали о твоей смерти, но ты здесь. И я не могу поверить в то, что Бог так жесток, что вернул тебя мне просто чтобы мы вновь расстались. Спроси меня об этом снова, если это случится. А теперь поцелуй меня еще раз. Поцелуй меня так, что останешься со мной, пока я не увижу тебя снова.
И она целует его, не думая о том, какое наказание следует за этим в этом святом месте.
Время нещадно, время никого не ждет, оно просто идет вперед и как бы ты не заклинал его подождать, остановиться, оно непоколебимо движется, равнодушное к жалким человеческим жалобам.
Лиза смотрит в окно почти тоскливо – там все еще темно, но уже на самом деле рассвет, просто осенью от него не становится светлее. Она спрашивает то ли себя, то ли его:
— Пора идти?
Словно кто-то из них сможет ответить на этот вопрос.
Лиза со вздохом поднимается с кровати, на которой сидела поджав под себя ноги, тихонько открывает дверь, отделявшую их мир от всего остального жестокого и несправедливого. Тихо скрипнут петли, но как и ожидалось никого рядом не окажется – все или спят или наоборот, собрались теперь в церкви, откуда вот-вот понесется тихое пение клироса. Жизнь в обители подчинена правилам, которые не нарушаются.
— Я с тобой пойду, зайду кое за чем заодно, — Лиза старается не смотреть на него, пока говорит о таких казалось бы обыденных вещах. — Здесь лодочка есть около старой пристани, ты спустись от пасеки вниз, я за тобой.
«Чтобы попрощаться».
— Накинь вот это, — протягивает платок, слабо усмехается. — У Семена и того лучше получалось барышню изображать, да платки завязывать. Ничего хорошего, charmant, — французский здесь звучит почти чужеродно, — не выйдет, если кто-нибудь вроде Феклуши мужчину просто так разгуливающего заметит. А под плащом может и ничего даже.
Из мужчин в монастыре были разве что батюшка, да приходили деревенские в храм на праздники, да по воскресеньям, чтобы помолиться с монашками.
— Пойдем?
Не совершай ошибку. Не выходи из комнаты.
Она выходит из-за деревьев – тоненьких и хрупких, окружающих запруду и полусгнившую деревянную пристань, к которой пришвартована дрябленькая лодчонка. Сестры на ней часто отправляются за припасами или какими-то лекарствами, а порою и по требам – у кого ребенок захворает, кто захочет купить сладкого монастырского меда. На этой же лодочке к святой обители приплывает неизменно отец Никон – ему непременно необходимо успеть к утренней, чтобы сестры успели в свою очередь исповедоваться. Так или иначе за этой лодочкой никто видно и не следил толком – слишком часто ею пользовались, а если кому из местных непременно требовался сей неказистый на вид транспорт, то все знали, что лодчонку потом вернут [да ещё и непременно дадут сестрам что-нибудь за помощь]. Воровать у монастыря никому здесь и в голову не приходило. Да и право слово – такая лодка, как выразилась невесело Лиза, как только увидела ее впервые, сгодится только на растопку печи. А вот теперь, пожалуйста, кажется пригодилась все же.
Сестра Евдокия, в миру звавшаяся не иначе как Натальей Петровной Арсентьевой, вдовствующая императрица, а теперь простая монахиня, принявшая постриг несколько лет назад, останавливается в нескольких десятках метрах от Кирилла, а ее темная ряса почти сливается с темнотой предрассветных сумерек поздней осени. Останавливается, словно не решаясь подойти ближе, лишь поднимая руку, будто говоря: «Не бойтесь, это всего лишь я».
Возможно, они друг друга и правда сначала не признали. Точнее, совсем не так – она узнала его сразу же, но не могла поверить в то, что упрямая вера Лизы в возможное чудо и не желание смириться имеет под собой твердую почву, а он скорее просто не узнал. В последний раз когда они виделись она не носила ни скуфьи, ни апостольника, да и вообще была другим человеком. Но, по крайней мере предчувствие ее не обманула. Не зря Феклуша причитала, что с Лизой что-то приключилось, не зря самой сестре Евдокии не спалось этой ночью [как бы не читала Евангелие и Жития Святых], не зря решила последовать сюда, проследив за Лизой и теперь смотрит на можно сказать чудо господне.
Рука потянется к четкам, которые все время перебирала, осенит себя крестным знамением и только после тихо проговорит, обращаясь к восставшему из мертвых Кириллу Андреевичу:
— Значит, вы и правда живы. Чудны дела твои Господи. У Лизы удивительная вера, Кирилл Андреевич, — она двинется к нему, выходя на редкий свет этих пасмурных сумерек, которые освещают все ещё изящные черты лица. — Вы ведь узнаете меня, верно?
Он, как собственно и Лиза – словно гость из прошлого. Того прошлого, от которого она обещала отказаться и отказалась на самом деле. И все же теперь, когда смотришь на этого удивительно похожего на тебя внутренне человека, волей-неволей вспоминаешь. Хорошее и плохое. Он живое напоминание о том, о другом человеке, которого она поминает в молитвах каждый раз, которого оставила в блистательном Петербурге, который так ему подходил и который и уничтожил его – такого же прекрасного, живого и сверкающего принца. Да, пожалуй она менее всего напоминала себя прежнюю и только глаза, ее синие глаза остались такими же.
— Не беспокойтесь, я конечно же никому не выдам вас, — считает нужным это сказать, а ее мелодичный голос словно бы успокаивает. — Признаться честно, Кирилл Андреевич даже я была убеждена, что вы мертвы.
«Так же как и он. И Господи, как же я жалела Лизу, которой никогда не пожелала бы той боли, которую перенесла я сама».
Она помолчит, задумчиво бросая взгляд на воду, по которой ветер таскает туда сюда листву, опавшую с деревьев.
— Вы ведь заберёте ее отсюда, так? — после этой недолгой паузы она спросит это совершенно неожиданно, внезапно, переводя взгляд прямо на него. — Мы оба знаем, что она никогда не будет принадлежать этому месту. Ведь здесь обещаешь любить Бога большая чем кого-либо на свете, а в случае Лизы это невозможно. Потому что вас она любит больше, — Наташа теперь, а не сестра Евдокия, улыбается печальной улыбкой, подходя совсем близко. — Теперь, когда я убедилась, что вы правда живы, а она наверняка отсылает вас от себя я прошу вас не слушайте ее. Заберите ее отсюда и… от н и х, — лицо становится серьезным и почти что скорбным. — Мы оба е г о любили. Но неужели вы думаете, что Саша отдал бы страну этим людям? Но я знаю, кому бы он ее отдал, а вы не можете об этом не догадываться, — взгляд синих глаз становится пронизывающим. — Если Саша кого-то и любил также, как довелось испытать мне, то он любил так ее и нашу несчастную страну. Он всегда видел в них обеих нечто большее. Так вот я прошу вас… — она осторожно протягивает изящную ладонь с длинными пальцами и сжимает его руку. — Не выполняйте то, что хотел сделать Александр Петрович. Не отдавайте ее туда. – «во дворец, на трон, в этот г о р о д». Заберите ее, увезите ее, я знаю, что это почти невозможно, я знаю, что она просила вас этого не делать. Она упряма, я знаю. Но император не вечен, - а слухи расползаются быстро. — Для монастыря она не подходит, а престол убьет ее также, как убил его. Возьмите это, — лёгким движением руки из потайного кармана она достает кольцо. Аккуратное колечко с голубоватым камнем, в редком свете сумерек отличающее лазурным. — Это Сашино помолвочное кольцо. Я должна была оставить все во дворце, но не смогла расстаться с ним даже тогда, когда приняла сан. А это грех. Оно тянет меня в мир, к земле, а мне на ней, Кирилл Андреевич делать нечего. Мне его не носить. Возьмите его, он бы так хотел. Он мечтал, что вы ей понравилась, что она увидит в вас то, что видел сам, — улыбка режет губы, а синие глаза подернутся неожиданными слезами. — Не говорите ей, что я с вами говорила. Она скоро наверняка придет. А я буду за вас молиться.
Она бросает взгляд на эту лодочку, оставляет в руках чужих кольцо – помолвочное кольцо, которое о н, тот, с кем они наверняка однажды встретятся, отдал ей после бала в честь коронации. Отдал с категоричными словами: «Если вы не наденете его, то клянусь, выброшу его в фонтан».
Сестра Евдокия [а вовсе теперь не Наташа] возвращается к стенам монастыря, радушным и спокойным, отвлеченным от мирской суеты и уже не обернется. И уходя она будет улыбаться, словно тяжёлый крест упал с ее души, теперь посвященной Богу.
Лиза отряхивает подол длинного простого сарафана от приставших к нему желто-бурых листьев, когда наконец спускается к берегу, в душе отчаянно боясь обнаружить, что он уехал, уплыл туда, где ждёт его Плутон, а с другой стороны ей предательски хотелось не присутствовать при очередном прощании. Хотелось развернуться и сбежать, хотя она это и ненавидела раньше. Сбегают ведь только трусы, верно? А теперь она не против слыть трусом, только бы не говорить ему этого снова и снова. Да, она вроде бы и сказала, что если они окажутся в безопасности, то непременно будут жить долго и счастливо, но теперь, когда стоишь в паре десятков метров от треклятой лодки [дрянное, дрянное судёнышко], то в долго и счастливо не приходится верить.
Еще немного. Ещё один шаг.
— Возьми с собой, — голос старается звучать бодро, ты вообще хорошая актриса, но его как и Сашу обмануть попросту невозможно. Она протягивает ему аккуратно, завёрнутый в тряпицу кувшин из темной глины. — Это в монастыре сестры делают, отвар на меду и травах. Здесь и душица и зверобой и мята… И мед в монастыре самый лучший, свой…. — словно перечисление ингредиентов как-то спасет их от неминуемого как ей кажется [как она решила] расставания. Что же, по крайней мере его отсрочит. — Ты должен его выпить, у тебя ужасный кашель, — тоскливая тишина воцаряется между ними, а Лизе остаётся только в грудь побольше воздуха набрать. — А теперь поезжай, пока меня не хватились.
Никто не сдвинется с места.
Нет, глупый, возьми с собой не сбитень, а меня. Меня. М е н я.
Ударит колокол к заутрене. И как то траурно он ударит.
— Уезжай, Кирилл.
Они стоят и смотрят друг на друга и вся ее уверенность испаряется и растворяется.
— Уходи, мы оба знаем, что так лучше, — голос предательски задрожит. — Уходи, я так хочу, мне так спокойнее, слышишь? — опять в голосе зазвенят отчаянные слезы.
Но никто не торопится, а колокол тем временем ударит снова.
— Уходи, уезжай, уплывай, да что тебе стоит в самом деле! а мне никак нельзя волноваться в конце концов, уходи! – она закрывает лицо руками.
Неужели ты не видишь, как я стараюсь тебя о т п у с т и т ь?
И неужели ты не видишь, что не могу?
Поделиться52024-04-13 22:39:39
Льётся музыка, звенят голоса и бокалы полные шампанского, рассыпаются снопы разноцветных искр под чернильным небом. В пышном розовом облаке кружится она, девушка красоты неземной и обладательница чарующего голоса, проникшего в душу. На ладони сладостный аромат времени, которое ушло безвозвратно. Собственный голос звучит громко, звонко, заставляя болезненно поморщиться: ну что, готов менестрелем идти? Глупый, глупый Саша. Куда же ты ушёл? Бродишь теперь где-то над уровнем небес, где-то выше, и наверняка песни под гитару (или арфу?) слагаешь. А если бы не любовь глупая, причиняющая сплошь боль, осталась бы Лиза в розовом платье, сверкающей, беззаботной и счастливой цесаревной? И музыка стихает, и бокалы вдребезги бьются, и стреляют оглушительно-громко пушки, вытащенные на необъятную сцену войны. Лиза — в чёрном. Лиза, Лиза, Лиза. Любовь будто только и умеет уродовать, калечить, оставлять отметины _ шрамы до конца дней. От неё никуда не деться, не сбежать, — назад воротит. На колени опустит даже тех, кому не положено.
Когда, когда мы изменились до неузнаваемости?
Кирилл осторожно касается тонких запястий, закрывает глаза, осознающий как никогда ясно, что предложение его — обрывок из совершенно иной, невозможной для них, жизни. Красивые слова с эдаким пояснением, возражением, однако и удержаться он не мог. На одно счастливое мгновенье позволил себе с л а б о с т ь, представив будто всё изменилось. Только за окном стоит ночная темнота. В Москве дышит виновник всех несчастий (на самом деле ложь, ибо виновник — сама судьба). Жизни и беззаветной любви крайне недостаточно, как невесело выясняется. Её лицо в слезах, что выносить неизменно больно, нестерпимо. Верно, он заведомо знает если не каждое слово, то определённо с у т ь. А суть такова, что бежать отсюда придётся и на сей раз в одиночку. Если он — тот соловей несчастный, глупый и безрассудно влюблённый, так почему бы не повторить заранее предписанную участь? Ему всё равно, совершенно плевать. Отрезвляет разве что непривычная мысль: теперь вас т р о е. Трое. Кто-то должен жить. Сильнее сжимает её запястья от усиливающегося бессилия и горя; меж бровей сдвинутых к переносице пролегает скорбная складка. Зажмуривается отчаянно, будто ребёнок, надеющийся что глаза раскрыв, страшный сон отступится. Только они давно не дети и страшные сны наяву не имеют свойства отступать сами собой. Волшебство отпечатывается на страницах книг и не более. Отпечатывается в памяти, в образе вечера, когда зачарованный слушал её голос и позволял себе влюбляться. А наяву Кирилл открывает глаза и видит вблизи слёзы, застывшие острыми осколками и вонзающимися в кровоточащее сердце. Он — уже соловей, насквозь пронзенный. Они словно пережили десятилетия и падение империи, не помня себя счастливыми или слишком неясно, размыто, так, как если бы счастливое прошлое принадлежало людям чужим. Кирилл упрямо молчит, потому что знает — права Лиза. Впрочем, не страшно, не страшно собирать шрамы, страшнее представлять её в руках другого человека; страшнее теперь представлять, что будет с ребёнком столь желанным, и столь не в пору появившимся в их измученных жизнях. Вот, что всерьёз держит в страхе точно в оковах, ежели позволят они себе вольность. Не имеете права, — заявляет здравый разум. Он, разумеется об этом не скажет. Промолчит, поджимая упрямее губы. От прикосновения её пальцев разбегается по коже мелкая дрожь; от тепла, когда ладонь прижимается к животу затуманивается разум. На одну предательскую секунду душа желает взбунтоваться; хочется закричать «и пусть, к чёрту, слушать не хочу!», а она столь ловко угадывает сей горячий порыв и удерживает от безумства.
— Лиза… — единственное, что обрывисто срывается с губ, заодно и горячий выдох, — внутри сильный жар, печёт и жжёт грудную клетку. И в его глазах застывают прозрачные, едва видимые слёзы. Одна одинокая падает, сверкает в янтарных волосах и разбивается. Большего себе он не позволит. Крепко и отчаянно обнимает её, быстро смаргивая влагу, закусывая нижнюю губу до боли ощутимой _ отрезвляющей. Ему необходима трезвость, свет в темноте, чтобы не сбиться, не сдаться, выдержать во благо (мнимое) очередное испытание. А иначе и не назвать то, что происходит с ними; то, что происходит с ним, когда Лиза плачет в плечо и вовсе не отпускает, а хватается крепче. Он и не в состоянии / не в силах отпустить, даже если она оттолкнет. Ему упорно кажется, что они у ж е горят в аду, — жар пламени душу раздирает. Раздирает сильнее, неистовее, когда губы касаются губ, распалённые, обжигающее. Прости, Господи. Но разве не в твоей власти всё прекратить? Исправить? Этого недостаточно. Недостаточно одного мига, продиктованного отчаяньем и надобностью прощаться. Недостаточно, чтобы пронести через всю жизнь. Но и остановиться Кирилл не может, не настолько сильный, чтобы удержаться. Он ведь, тосковал. Он ведь, снова провалился в целую вечность, где не было Лизы, не было её мягких губ и нежных рук. Разве можно прощаться, когда она целует? Когда она любит? Разве можно хотя бы мысль допустить о том, что подобрался конец их истории? Такой же печальный конец, какой постиг его лучшего (мёртвого) друга. Конец, после которого впрямь не будет н и ч е г о. Подушечками пальцев осторожно касается нежной шеи и нерешительно ладонями касается горячих щёк. Лишь через мгновений несколько одолевает его лихая храбрость, позволяющая обхватить рукой крепко плечи и прижать к себе так, будто всерьёз не собирается отпускать никогда.
Если. Если. Если. Кирилл молчаливо соглашается с каждым её словом. Однако, спотыкается об это жестокое «если», кажущееся столь невозможным, иллюзорным, вовсе магическим. Наступит ли? Он, пожалуй, впервые ни о чём думать не желает. В господней милости разуверился подавно. Он ещё не знает о том, что вера Лизы — удивительная, сильная, творит поистине чудеса. Смотрит в её глаза, утопая в изумрудной глубине и не желая выбираться. Удерживает её подбородок пальцами, нежно и бережно. «Если» быть может и наступит однажды, а пока жалкие остатки времени не истекли, забывает обо всём нарочно, склоняет голову и целует снова. Не хочется говорить, не хочется тонуть в омуте вязких дум, не хочется чувствовать каждую ускользающую секунду. Всё случилось как должно было. Он должен был, знал заведомо, что т а к будет. Если не станут свободными.
Кирилл отчего-то не сводит взгляда с Лизы, словно от постоянного её вида и приближающейся разлуки не становится больнее. Сколько ещё они будут прощаться? У него и прощальный её подарок имеется, казалось бы п о с л е д н и й. Однако же теперь, прощальным подарком кажется ребёнок, которого он, разумеется, заберёт как бы сердце не скрежетало, не рвалось клочьями. Ни в чём не повинная жизнь не должна обрываться / терпеть то, что терпят они то ли по глупости, то ли по божьей несправедливости. Мраком душу затягивает плотно, крепко. А надо было радоваться. Надо было парить от счастья в небесах, чего пожалуй, достаточно с них, потому что каждый раз падают на землю и каждый раз ударяются больнее. Сколько ещё, господи? Сколько? Пора идти? Пора ли? Хочется запротестовать, ведь темень за окнами до сих пор, целая ночь впереди. Ложь. Обман. Рассвет подступается незаметно и зловеще, обещая их друг к другу отнять. Кирилл вдруг понимает, следя за ней взглядом из-под опущенных век, что не чувствует ровным счётом ни-че-го. Какой же толк от жизни, когда всё одно мертвец? Разве что ради спасения другой жизни. Вспоминай, вспоминай, глупый! Пересиливает себя, поднимается, усмехаясь в ответ. Всё, на что они способны и впрямь: усмехаться этой судьбе, скалиться, хохотать. Пусть ей тоже станет обидно.
— Глядишь так и весь монастырь на французском заговорит, mon amour, — сердце от глупой-глупой шутки вздрагивает и снова обливается кровью, не иначе, режет, режет больно. А он нарочно пытается посмеяться над роком, над тем, что творится с ними. Пытается глупо храбриться. Уроки французского вспоминаются, когда смелости хватало поднимать её на руках и украдкой целовать. Он никогда не смирится с тем, что она — не его больше. Не перестанет звать «своей любовью». Равно также не забудется ни один миг, проведённый рядом. Этого господь не отнимет. Натягивает чёрные перчатки, тесно облегающие руки с какой-то злобной и неистовостью. А что думал себе этот мальчишка? Видимо, мальчишке было достаточно наблюдать со стороны. Кириллу со стороны — мало, вот и расплачивается. Расплачивается за то, что посмел любить богиню. Расплачивается её страданиями.
Пойдём?
Останавливается на мгновенье в задумчивости, после кивает головой и уходит молча.
***
Жидкий серый свет разливается повсюду неторопливо, медленно обнажая очертания деревьев и раскидистой, не иначе как плачущей ивы над спокойной водной гладью. Шелестит высокая трава, влажная от росы. Звенит слабо булатный клинок, напоминая о том, что грех — быть ему здесь. Прячься в темных плащах сколько угодно, да только Господь всё видит, всё знает. Кирилл, навостривший слух, оборачивается резко, словно не в женском монастыре находится, а на поле сражения, где тайком подкрадываются неприятели. Совершенно невольно рука на эфес опускается и пальцы смыкаются на нём крепко, до белых костяшек. Постепенно высматривает светлое лицо, единственное что выделяется в неразборчивом мраке. Узнаёт запоздало, безуспешно вглядываясь несколько секунд; а когда узнаёт, безвольно покачивается, точно удар очередной по голове пришёлся. Право слово, Кирилл мог ожидать встретить кого угодно, только не Н а т а ш у. Он знал ведь, знал что отреклась она от жизни, да только всё одно не ожидал. Откуда ей было знать? Впрочем, она всегда знала в с ё. Наташа — такое же болезненное напоминание о призрачном времени, будто прочитанном в книге, а не случившимся наяву. Она приближается — он стоит не шевелясь, замерев, и не сводя взгляда пристального с лёгким испугом, словно призрак перед ним. Призрак всё того же счастья, которое было доверено их рукам — не удержали. Пожалуй, только услышав голос Наташи (не приемлет другого имени), осознаёт в полной мере, сколько довелось пережить Лизе с осознанием его смерти. Они впрямь так думали. А он нынче не уверен в том, что жив и дышит.
— Как же не узнать, — отзывается не раздумывая, — Наталья Петровна, — добавляет тихим, сиплым голосом. Глядит завороженно в синие глаза, сверкающие насыщенными сапфирами в серости осеннего утра. Глядят друг на друга как на призраков прошлого. На мгновенье он думает о том, что Лиза изменится так же и останутся одни глаза-изумруды, напоминающие о прежнем блеске, о красоте, о сиянии. Лиза. Его Лиза. Саше было бы больно нестерпимо, он отчего-то не сомневается. Саша не хотел бы видеть её такой, но быть может, лучшего пути не нашлось? Кирилл убедился самолично, что лучшего быть не может. Его Лиза будет также бледна, худощава, но неизменно прекрасна. Хватка слабеет. Он сам слабеет, готовый подкоситься, склониться подобно траве, какую ветер клонит к земле нещадно. Судьба у меня такая, восставать из мёртвых.
Её вопрос звучит окончательно обезоруживающе перед утренней бурей, подыгрывающей моменту, перед взглядом синих глаз, перед картинами из воображения. Отдать Лизу, чтобы обрядили её в чёрную рясу? Не безумство ли? Впивается в глаза, оказавшиеся совсем близко. Лицо его такое же бледное и застывшее маской будто бы равнодушия. Разумеется, вовсе не равнодушие овладевает его существом. Вы не понимаете? Она последняя из Романовых! — чужой голос только добавляет холодного ужаса, накатившего волной. Господи, если не в монахини, так в императрицы? Кирилл и сам когда-то видел в ней Романову — спасительницу страждущего народа, а теперь не видит и не желает видеть. Перед глазами проносится морозная ночь, остро сверкающие звёзды и умирающий друг; перед глазами сплошное море крови, в котором тонет Л и з а. Ему дурно становится до головокружения. Качает головой, отгоняя картины, навеянные предостережениями Натальи Петровны. Престол убьёт, как убил его. Убил. Убил. Убил! Столь символично он закашливается, хватаясь за шею.
— Беда в том, что я никогда не сомневался, Наталья Петровна. Император наш — самозванец. Но что я могу… — хотел было спросить, что может, куда забрать Лизу (дворец и монастырь — будто единственные пристанище, где она может существовать, глупость), и обрывается, когда видит знакомое кольцо в её пальцах. Саша хвастался бесстыдно, как и положено Саше. Они говорили об этом, о предложении, которое было принято (а твоё отвергнуто к счастью). Кирилл помнит прилив гордости и восхищения, когда посреди всего мира казалось, Саша встал на колено перед ней, единственной и любимой. А что, теперь твоя очередь? Видно ли Саше с небес, что здесь творится? Смотрит на кольцо несколько долгих секунд заледеневшими бесцветными глазами, в очередной раз окунувшись с головой в леденящие воспоминания. Зачем-то кольцо забирает, быть может услышав «он бы так хотел». Только не всё, чего он хотел, Кирилл готов исполнить теперь.
— Если это случится, я прошу вас, — допускает слабую мысль / надежду на то, что внемлет совету Наташи, — оттяните тот момент, когда обнаружат её отсутствие. Скажите, что больна, что угодно. Я знаю, грех, и единственный способ выиграть время. Чем позже узнают, тем позже доложат в Москву. Этого времени мне хватит, — ежели всерьёз решишься снова геройствовать во имя любви. Решишься ли? Однако, не произнести своей просьбы не мог, пытаясь продумать наперёд свой ход.
— Мне будет вас не хватать, Наталья Петровна, — крепко сжимает в чёрной перчатке кольцо, удивительно прочное. Быть может, уверенность в лучшем исходе и пошатнулась; быть может, впрямь грех оставлять здесь Лизу, что губительно для неё самой. Единственное, в чём уверен твёрдо: не повезёт в Петербург как последнюю Романову на растерзание и ещё более верную, неминуемую гибель. Забудьте, князь. Он смотрит на неё до последнего, да только не находит сил улыбнуться даже на прощанье. Склоняет голову и проводит взглядом, пока в образовавшейся дымке не растворится чёрная фигура. — Ты бы не хотел этого, верно? — спрашивает то ли у шумящих тускло-жёлтых крон, то ли у смурного неба, то ли у Саши, который словно стоит позади и улыбается. Ты бы не хотел видеть их в чёрном, Саша. А мне-то за что?
***
И вот, настаёт миг нового прощания, — одно краше другого. Заберите её отсюда, заберите! Кольцо надёжно спрятано в неизвестности, будет ли когда-то служить своему назначению. Будет ли? Внимательно смотрит на неё, а существо протестует, бунтует, не соглашается с тем, что расстаются они снова и на неведомое количество времени. Навсегда? Он отчего-то убеждён, что не бывать этому. Не расстаются. Не навсегда. «Возьми с собой», — звучит призыв к решительному действию. Весь мир вокруг то шепчет, то вопит: возьми с собой. Быть может, Наташу послал сам Господь? Верно, не для разлук очередных он воскрес. Чем громче и настойчивее она просит уезжать, тем больше уверенности в том, что необходимо жизненно забрать её с собой.
Первый удар колокола. Уезжай.
Нет, не уеду.
Второй удар. Уезжай же!
Нет, не уеду!
Слишком легко и словно бы ожидаемо он принимает решение, так и не приняв из рук монастырское чудодейственное лекарство. Потому что руки будут заняты. Слёзы её более невыносимы, нестерпимы.
— Никуда я без тебя не уйду, — качнет категорично головой, а голос звучит упрямо, твёрдо, сообщая о том, что всё безвозвратно решено.
Сокращает быстро и незаметно расстояние между ними. Отрывает от земли Лизу, столь ловко закидывая на плечо, догадываясь что станет упираться и сопротивляться. Кувшин падает в померкшую, бледную траву. Никакие приказы-указы, возмущения и случайные удары сжатыми кулачками не могут вынудить его остановиться, передумать, вернуть на землю. Только в лодку. Только забрать с собой. Кириллу порядком осточертело плыть по течению, которое несёт неизвестно куда, — бессильно и глупо, будто не сын своей матери, которая с малых лет учила всего добиваться. Благословил Господь силой и крепкими руками, в которых Лизу удерживает и благополучно доносит до лодки. На том спасибо, господи. Сопротивление всерьёз бесполезно оказывать, как при осаде, ежели Кирилл решился, — в этом они похожи, упрямые и неисправимые. Колокола позади звенят. Ветер гоняет листву, лодочка покачивается, а взгляд его твёрдый. Усаживает Лизу в лодку, сам опускается рядом, напротив, заглядывая в глаза и перехватывая руки, которые его изрядно успели поколотить.
— Теперь ты послушай, — нет, он не собирается предложение делать снова, но и оставлять её здесь не может физически. Что же это? Очередное храброе _ мужественное безумство или впрямь взрослый поступок? Что же это? Не разобрать. Все его храбрости дурно заканчивались, что станется на сей раз? Император восстанет из мёртвых, не иначе. — Не будет спокойно, если останешься здесь. А тем более, навсегда. Никому. Не будем изводить Бога, он и так очень занят, по всей видимости. Сами справимся, — крепче сжимает в своих руках её ладони, более не собираясь отпускать. — Не отдам я тебя им, никому не отдам, — шепчет с тенью безумия, криво усмехаясь, почти смеясь. На противоположном берегу бродит Плутон, готовый нестись прочь. За спиной шелестят кусты и трава, словно кто-то подкрадывается и он оборачивается резко, — никого. Страшно, страшно словно вылезут монашки с батюшкой и Лизу отнимут, воротят обратно, как собственность. Императору ведь, не отдали. Впрочем, Кирилл не император. Кирилл — отец ребёнка.
— Этому ребёнку нужна мать, — заявляет наотрез, твёрдым голосом, пробивающимся сквозь шум листвы. — Я не согласен с тем, что никогда больше тебя не увижу. Этого не будет, Лиза. Этот ребёнок родится у нас и мы сделаем всё, чтобы его защитить. Но не таким способом, — и не желая возражений слушать равно также, как не желала слушать она, говоря совершенно правильные вещи прошедшей ночью, он отворачивается и перебирается на берег. Находит в траве кувшин, определённо решив захватить с собой, — кашель собачий, ей богу, осточертел не меньше, чем собственная нерешительность. Дабы Лиза не успела прийти в себя / зажечь свой безусловно правильный женский разум, Кирилл хватается за вёсла и упорно заставляет дряхлую лодчонку отчалить от берега. Не вздумает же она прыгать в холодную воду?
Посреди пути на другой берег он смягчается. Напряжение сходит с плеч и рук, усердно орудующих веслами, и не менее усердно оторвавших её от твёрдой земли. Плечо не заныло от боли или быть может, не почувствовал, отвлеченный своей решимостью. Лодка замедляет ход, останавливается, но продолжает покачиваться. Холодный ветер над водой бродит более сильный, а она в одном только сарафане. Набрасывает на её плечи плащ и снова заглядывает в глаза, наверняка на него обиженные. Обида эта проходящая и вовсе не всерьёз, зато он уверен в том, что поступает правильно.
— Я хочу быть рядом, когда он родится, — находит её руку и прижимается к ней холодными губами. — Это мой ребёнок, — однажды ему необходимо было это произнести вслух, чтобы самому поверить, — и ты моя, а значит, нам нужно быть вместе. Речь уже не про разбитые надежды. Не про тебя и меня. Вероятно, я не сразу это понял, — произносит задумчиво, отпуская её руку. Не сразу понял, а испугался и весьма легко поддался страху. Страх говорил вместо него, что остаться здесь безопаснее, правильнее. Дурной страх, какого Кирилл всегда стыдился и не желал испытать. Совсем не солдатская выправка, не то, чему непрестанно учил отец. — Назад пути нет. Я повторюсь, ты не создана для этой жизни. Не смотри туда больше, — улыбается слабо, расправляя плечи и выпрямляя спину, снова берясь за вёсла.
Довольно с них прощаний.
***
Дорога обещала быть, впрочем, изматывающей и долгой. Одного Плутона определённо недостаточно, чтобы добраться до места назначения, которое было отмечено Кириллом без промедлений. Им нужен отдых, передышка, тепло и спокойствие, чтобы подумать о завтрашнем дне. Место, где безопасно. Пока Лизы не хватились, пока они располагают временем, создаётся полупрозрачное ощущение безопасности и свободы. На одном из постоялых дворов Кирилл отдал всё, что имело хотя бы какую-то ценность: разумеется, сперва небольшой запас денег, следом перчатки, приглянувшиеся бородатому мужику. Последний, как подобает русской натуре, долго торговался, изводил сомнениями почёсывая бороду, сетовал на дороги ведущие в преисподнюю, на императора, на свою клячу и колёса, которые вовсе отваливаются. Однако же, не устоял от обещанного ящика водки, — на том и порешали, «будет вам, барин, экипаж со всеми удобствами». Простая, русская душа, словом. На лицах отпечатывалась усталость всё более заметная, что несколько даже пугало да приструнивало бородатую русскую душу. По одному взгляду Кирилла понятно, что шутки плохи и категорически нежелательны. Кирилла же тревожила Лиза, которой снова приходится переживать трудную дорогу будучи в деликатном положении. Ему казалось, что скакать верхом на Плутоне по буграм да навстречу ветру дикому, или трястись в карете, не менее опасно, чем приступы волнения.
Едва ли предоставленный экипаж можно обозначить как «со всеми удобствами». Простая разваливающаяся карета, бог знает для каких целей служит и кому принадлежит. Кириллу в общем-то плевать, главное что движутся они теперь быстрее и несколько удобнее. Лизу пришлось оставить в одиночестве, а самому указывать путь верхом на Плутоне. Не оставлять же его без всадника. То и дело он натягивает поводья на себя, заставляя Плутона замедлиться, чтобы заглянуть в окошко, прикрытое наполовину старой, истерзанной шторкой. Улыбается ей слабо и устало, но радуясь внутри тому, что они вместе. Рано или поздно со всех сторон обступают его знакомые, а далее и вовсе родные места. Повсюду густой, тёмный сосновый лес, слышится крик чаек и шум накатывающих волн залива. Уединенность, дикость и безлюдность родного края видится спасением, — здесь точно никто не найдёт.
Карета останавливается на подъезде к усадьбе, мирно засыпающей под сиреневый закат. Она надёжно спрятана посреди деревьев, почивающая от ветров, не устающих бродить по берегу. Казалось, никакой ветер не страшен. И впрямь, им бы укрыться от ветра. Во дворе — ни души. В окнах стоит слабый свет, должно быть, свечи только начали зажигать к ужину. Он спешивается, более не волнуясь за Плутона, — здесь воронной наверняка освоится быстро, а отец будет только счастлив столь необычному пополнению в конюшне. Пусть и возникают сомнения, подпустит ли к себе кого-либо Плутон. Его нрав остался прежним. Открывает дверцу кареты, обещающую вскоре вовсе отвалится, если не узнает ремонта. Смотрит на Лизу несколько секунд, постепенно растягивая губы в несмелой улыбке. Иных вариантов не было: не в казармах же её прятать, показываться в столицах её вовсе запрещено, Ревель слишком далеко, а Берёзово — единственное укрытие, где, хотелось полагать, никто не додумается искать. Впрочем, искать будут, да только не Лизу (к счастью), а очередную послушную (на сей раз просчитались) куклу для престола российского.
— Здесь ты будешь в безопасности. Я не сомневаюсь. Ты им понравилась сразу, а теперь они тебя полюбят, — протягивает ей раскрытую ладонь, словно просьбу / призыв верить и доверять. Сжимает её пальцы крепко, нисколько не сомневаясь в том, что Лизу примут с добротой и любовь. Да только…
— Ну что барин, ехать мне пора, где ваша обещанная плата? — кряхтит мужик с козлов кареты, безобразно портя весь момент.
— Будет тебе водка, — мрачно-раздраженно откликается Кирилл. Да только не всем успели сообщить о том, что Кирилл Андреевич жив. Раздаётся пронзительный девичий крик с крыльца, на который он успевает только обернуться. Любавы след простыл. За несколько мгновений она переворачивает криком весь дом вверх дном, выгоняя во двор родителей, Веру Дмитриевну, Гаврилу и даже Ивана, который возился в конюшне. Вопли молодой барыни его пригнали мигом. «Живой! Поглядите, живой!» — голосила что есть мочи Любава, пока остальные наблюдали картину замерев и глазам собственным не веря. Прав слово, поручик Ростов весьма убедителен в своих письмах. Они похоронили Кирилла, пролив немало слёз, разве что не успели местечко на кладбище обустроить. Аглая Владимировна отказывалась верить, не видя т е л а, чем они с Лизой упрямо схожи, как выяснится однажды. А теперь они видят его воочию, вживую, и боятся приблизиться, словно видение рассеется в лиловых сумерках. Первыми, разумеется, подбегают женщины, пока отец с Гаврилой продолжают стоять на крыльце и медленно, осторожно подпускать осознание радостных вестей. «Жив! Живой! Живой!» Любава набрасывается первой и колотит кулачками по груди (до чего они с Лизой похожи), вымещая злобу и рыдание — всё, что скопилось за время, когда они считали его мёртвым. Матушка промокает слёзы платком. Вера Дмитриевна, разделившая счастье растить э т и х детей, то и дело плачет в свои ладони, всегда пахнущие отчего-то пирожками с яблоками или душистыми травами. Слышится смех, слёзы, возгласы, неразборчивые слова радости, а Кирилл позабыл вовсе о том, что умирал. Не позабыл о том, что Лиза до сих пор в карете. А бородатый мужик не забыл о своей водке, наблюдая с глупой улыбкой за действом и почёсывая немытую голову да приговаривая «м-да» на разношерстный лад.
— Господи, — гомон стихает когда матушка произносит это, замечая наконец Лизу и прикладывая ладонь к груди. — Господи, что же ты молчишь, непутёвый? Лизонька, девочка моя, — она расталкивает всех, кто загородил путь к карете и протягивает настойчиво руки к Лизе. Стоило ей выбраться, мигом оказывается в крепких объятьях Аглаи Владимировны. Кирилл замечает в глазах матушки блеснувшие слёзы, словно она с первых секунд обо всём догадалась. И тогда поистине душу укрывает спокойствие, — здесь о ней (о них) позаботятся. Подобно князю Вяземскому, которому Кирилл обязан жизнью, справедливо говоря, матушка даже не помышляет о том, чтобы задавать ненужные вопросы.
— Как же ты исхудала. Никуда это не годится. Продрогла вся, холод-то какой, — как и положено любой любящей матери, она внимательно Лизу осматривает и не удерживается от причитаний. — Ну-ка! Бегом все в дом, бегом, растопите камин да чаю подайте. Кирилл Андреевич позже всем расскажет, как это его угораздило воскреснуть, — смеряет его строгим взглядом, прежде чем закутав Лизу в собственную шаль, увести её в дом.
Кирилл улыбается. На сей раз не просчитался. Невозможно просчитаться с матушкой, в душе которой материнские чувства живы и будут жить вечно. Она и со шпиками, такое чувство, ловко справится, ежели те потребуют Лизу вернуть. Не отдаст. Она же, русская женщина и мать. Оставляя женщин в сугубо женском шумном обществе, Кирилл не стыдится оказаться в отцовских объятьях, какие согревают не меньше, чем родная разгоряченная ругань Аглаи Владимировны. В этих отцовских объятиях, на мгновенье позволено стать мальчишкой, которому более не надобно храбриться, а можно вполне и поплакаться, пожалиться, уткнуться в надёжное, сильное плечо. Отец вовсе не многословен, а уж тем более, когда слова излишни, неуместны. Верно, того, что происходит он и боялся, заметив неравнодушие сына к царской особе. Однако же, он не сомневался в том, что сын справится со всеми испытаниями, прочно связанными с этой любовью. Похоже, справляется. Неугомонному мужику Андрей Григорьевич пожаловал два ящика водки, а ежели узнал бы, что вскоре внук (али внучка) у него появится, то не пожалел бы и десяти ящиков. После Кирилл еле уговорил Плутона, не без помощи пары кусков сахара, зайти в денник где было приготовлено свежее сено и овёс, — умаялся-то бедный, проскакав неизвестно сколько вёрст да без надлежащего ухода. Плутон отцу приглянулся: видно, королевский нрав. При упоминании Александра Петровича на его лице возникла горько-тоскливая улыбка. Всё закончилось, закончилось, — повторяет мысленно Кирилл, направляясь к дому, окна которого приветливо горят янтарным светом.
— Кирилл в детстве любил изображать мёртвого, — Любава, держащая Лизу под руку вдруг решает поделиться детским воспоминанием. Потрясение после явления воскресшего брата отступает перед радостью встречи. Она первым делом кинулась к своему гардеробному шкафу с платьями, выбрасывая совсем не по-девчачьи содержимое на кровать. Ведь вид Елизаветы Петровны заставлял сжиматься сердце, да и платье (похожее на монастырское, как Любаве показалось) пропиталось всевозможным зловонием придорожных заведений. После ужина обещали тёплую ванну, а пока она самоотверженно отдала в руки Лизы весь гардероб. Подумать только, её брат крутит роман с самой цесаревной! А теперь она сама делится платьями с настоящей принцессой, — звучит словно мечта любой дворянской девочки. — Да-да, представьте, бежит, бежит, а потом хоп, спотыкается и падает. Я к нему подбегаю, кричу, реву как дура, а он не откликается, — отпуская руку Лизы она разыгрывает в одиночку целое действо по пути от спальни до обеденного зала на первом этаже. — Нравилось ему девчонок стращать. Я потом вестись перестала, разумеется. Похоже, мальчишки вырастают, а увлечения у них остаются те же самые. Мы ведь, похоронили его. Да и вы, наверное, тоже.
Подробностями Любава не располагает, как и обошли её пылкую особу всевозможные столичные новости, от намерений императора жениться до монастыря, в котором его невеста нашла укрытие. Она быть может, счастливая, живущая в собственном мире, такая же беззаботная щебечущая птица, какими когда-то были они сами. Кириллу меньше всего хотелось рушить её волшебное королевство, — время ещё не пришло. Оно придёт. Позже.
В обеденном зале натоплено — в очаге пылают сосновые поленья. Стоит родной запах деревянных полов, дров сложенных в сундуке (батюшка строго следит за тем, чтобы поленья в сундуке никогда не заканчивались), свечным воском, ведь в их доме никогда не скупились на освещение, пусть оное и затратно до безобразия. Аглая Владимировна самолично выражалась так: я просто чахну без света! Любава темноты вовсе боялась и мучительно долго приучалась засыпать в собственной постели. Мужская половина семьи относилась к дамским капризам снисходительно. «Вам и сарай хоромами покажется», — обижалась матушка на мужское (сугубо солдатское) равнодушие. Окнами родительская усадьба также не была обделена, от необходимости света, какой бы роскошью ни было стекло, и совершенно справедливо подмечал Андрей Григорьевич, что отвоевывал вместе с Петром Великим земли для империи не зря; иначе, откуда возьмутся средства на ваши бабские капризы? Белоснежные рамы и подоконники требовали белоснежных гардин, — они до сих пор служат украшением зала, неизменно сияющие чистотой, — ни пятнышка, ни пылинки. Напротив же окон стоит продолговатый стол, увенчанный сверкающим латунным самоваром в обыденное время. Сейчас его убрали и поставили вазу, полную срезанных в саду цветов. Этим вечером Аглая Владимировна распорядилась готовить ужин как подобает особенному случаю. Мало того, что сынок воскрес, так ещё и невесту привёл, в чём они сомнений не пытали, пусть и получили лишь однажды скупое письмо, в котором повествовалось о некой девице его сердца. После взглядов, какими он одаривал цесаревну, когда ещё жив был Александр Петрович, никто не стал долго раздумывать, в кого же столь отчаянно влюбился Кирилл. А теперь познали влюблённые горести бытия, когда не соблюдаешь житейский устав, куда более хлёсткий, чем армейский.
Кирилл с особым, откуда ни возьмись, интересом рассматривает предметы, коими заставлена каминная полка. От жара стоящего в комнатах его разморило, и отпало всякое желание одеваться, — к семейному ужину можно выйти и в рубашке. Здесь красовались, помимо особых подсвечников, вырезанные из дерева игрушки: раскрашенные солдатики, настоящие русские медведи, совсем крохотные пушки, пёстро расписные свистульки, — словно родители не смогли смириться с тем, что дети выросли и об игрушках подавно позабыли. Он касается пальцами гладкого дерева с какой-то нежностью и трепетностью как перед прошлым, когда мальчишкой носился по этому же залу от метлы в руках матушки, так и перед будущим, в котором сам станет самым настоящим отцом. Андрей Григорьевич наблюдает исподтишка. Кирилл-то в детстве игрушками не интересовался, сообразив что шпагой размахивать и ромашки косить куда более увлекательно.
— В детство вы впали что ли, Кирилл Андреевич? — весело спрашивает отец, усаживаясь за стол. Я стану отцом, подумать только! Стану отцом! — восклицает тем временем внутренний голос, а он сам пребывает в восторге чуть ли не детском, искреннем. Однако же улыбается украдкой, незаметно.
За ужином велась оживлённая беседа: обсуждали последние новости деревни да дворянских семей, проживающих по (сравнительному) соседству, которые то и дело оказываются в курьезных ситуациях; то крестьяне у них в лес убегают, то наседки нестись отказываются, то соседушки позарятся на их святую землю. Словом, на Руси скучно никогда не бывает. Кирилла и Лизу не спрашивали: откуда, зачем да почему, надолго ли и каковы виды на будущее. Их приняли как детей точно заблудших, потерявшихся, которые истосковались по любви и заботе, по домашнему теплу. Родители прочли в его глазах: не спрашивайте, ни о чём не спрашивайте. Ему не особенно хотелось распространяться по поводу своей «смерти», так как пришлось бы утаивать правду, а искусством лжи, как известно, он не овладел. Не хватало только пуститься в подробности о некоем завещании, о том, что император — самозванец и мечтает его, Кирилла, со свету сжить. Пусть родители крепче спят и меньше знают. Впрочем, батюшка наверняка догадывался что жизнь его отпрыска заварилась, закрутилась в котле дворцовых интриг, — иначе не бывает, когда приближаешься к некоторым особам настолько близко. Ему ли не знать? Несмотря на то, что многие нежелательные темы да расспросы удаётся обходить, Кирилл весь ужин просидел смурным, опёршись о спинку стула и едва ли притронувшись к еде. Весь его отсутствующий вид вопил о глубоких невесёлых раздумьях. Нужно сообщить, — упрямо засела в его голове таковая необходимость. Рано или поздно станет известно, так зачем же откладывать? Стыдно ли ему? Стыдиться поздно и вовсе не стыдно, не стыдно за любовь, за благословение, — ведь господь за любовь детьми благословляет, или Кирилл что-то напутал? А то, что не венчаны, так его ли вина? Они бы давно обвенчались, будь судьба с ними милостивее. Не о прошлом думать надо, а о настоящем и будущем, следовательно, чем раньше, тем правильнее. И как только он решается, накрывает ладонью руку рядом сидящей Лизы. Поднимает взгляд и уголками губ улыбается так, что становится понятно без слов. Наверняка она смогла угадать его намерение, слишком очевидное, отразившееся на лице каким-то воодушевлением.
— Я хочу сообщить вам важную новость, — сжимает чуть крепче её руку. Должно быть, родители тоже догадываются, ожидают услышать нечто в духе «мы собираемся обвенчаться». — У нас будет ребёнок, — не удерживается от улыбки более радостной и естественной, когда остальные на мгновенье замирают в воцарившейся тишине. Батюшка беззвучно отпивает вино из бокала, скорее неосознанно, не успев бокал поставить на стол (или мимо стола), просто удивляться ему никогда не удавалось. Матушка застывает с ножом и вилкой в руках, осмысливая новость. Любава, не раздумывая, вторит брату — улыбается, и в этот момент они удивительно похожи. Молчание, быть может, таит в себе неловкость, однако с души добрая половина тяжести сваливается мигом. Он не смог бы долго тайну хранить, наблюдая за тем, как матушка начинает догадываться, а спросить не решается, лишь бы не спугнуть. Тишина не длится долго, через минуту-другую снова зазвенит посуда, послышится треск поленьев и завывание ветра где-то за надёжными стенами родного дома.
— Так это же прекрасно! — первым отзывается Андрей Григорьевич, громко и участливо, стараясь сгладить то молчание, повергшее быть может, Елизавету Петровну в не самые приятные чувства. — У нас здесь-то воздух хороший. Леса кругом, правда, Аглая Владимировна? — весело обращается к жене, а та отмахивается смеясь. — Тут вам и рыбалка, и охота, и простор. Не то, что ваш Петербург.
— Скажешь тоже, охота. Не хватает только езды верхом! Ничего вы не понимаете в этом, дорогой мой супруг. Услышал господь мои молитвы. Я то думала, грешная, не увижу внуков при жизни. Кирилл с этим не шибко торопился, — бодро откликается и Аглая Владимировна, быть может в душе всё ещё известием потрясённая. — А как оказалось, всё у нас с этим в порядке.
— А имя придумали? — куда более непосредственно вступает в разговор Любава, сверкая своими большими глазами-вишнями.
— Только для дочки, — охотно отзывается Кирилл. Говорить об этом оказывается п р и я т н о. А оттого, что не готовился к подобным событиям, только интереснее, — целый фейерверк небывалых, неизвестных чувств. — Впрочем, для сына тоже… — думать об этом не придётся, потому что сына назовёт Сашей, даже если весь мир будет против. — Мы здесь останемся на какое-то время. Воздух в Петербурге и впрямь, плохой, — произносит задумчиво, уверенный в том, что этот некий шифр все понимают. Ещё более плохой воздух в Москве.
— Конечно, куда вам, молодым, без нашего присмотра. А ты кушай, Лизонька. Тебе нужно поправляться, совсем худая. Точно! — Аглая Владимировна вдруг хлопает в ладоши, лицо её озаряется светом. — Помнится, ты сладкое любишь. У меня есть замечательный рецепт французских пирожных. Попрошу, чтобы сегодня к чаю больше сладкого принесли. А ты даже не думай, в корсет не влезешь, — из доброй мигом превращается в строгую мать, замечая неподдельную детскую радость на лице Любавы. Радость мигом улетучивается. — И запомни, — она разворачивается к Лизе, берёт за руки, укладывая их на своих коленях, — ты всегда можешь обратиться ко мне. Как к матери. Особенно если мой сын безобразничать начнёт. Знаем мы этих Волконских, — переводит взгляд строгий, неудовлетворенный на Кирилла, словно тот уже безобразничает. Кирилл усмехается, наконец с облегченной душой протягивая руку к бокалу теплого вина.
о д н а ж д ы о н с к а з а л :
т в о й п о л ё т — всего лишь сон
и т ы л е т а т ь н е с т а л
Тишина и уединение после изматывающей череды дней, кажутся истинным благословением. Невообразимо: они сбежали, а под окнами до сих пор ни гвардейцев императора, ни агентов канцелярии, никого, кто бы хотел им помешать. Они находятся в маленьком пространстве, комнатушке, называемой по-современному «ванной комнатой», и весь мир определённо точно позабыл о них. Стоит отдать должное Аглае Владимировне, благодаря которой не только окна в доме огромные, но и пожертвована целая комната для гигиенических нужд. Небольшую старую печь решено было оставить во избежание простуды от холода, во время водных процедур, а окно завесить плотными шторами, дабы «непристойных помыслов ни у кого не возникало». Раздобыли в столице и чугунную ванну, и прочие приспособления. В лавке с французскими товарами, больно дорогими, купили масел. А мыло изготавливают умельцы из деревни. Единственный удручающий недостаток, — отсутствие вывода вода, а с иной стороны, на что им разгильдяй Ванька? За десять минут воду как наберёт, так и вычерпает, на нём хоть огород вспахивай. Словом, Аглая Владимировна гордится своей прогрессивностью и способностью при малых средствах держаться уровня столичного общества.
Аромат трав терпкий и душистый вперемешку с маслами овладевает тёплым воздухом стремительно. В тусклом свете свечей влажная кожа переливается притягательным сиянием и блеском крохотных крупиц. Лизе мог бы помогать кто угодно из д е в о ч е к, но Кирилл буквальной преградой возник перед дверью, на правах без-малого-супруга. Ему хотелось остаться наедине с Лизой, может быть безо всяких на то серьёзных причин. Разве должны быть причины? Отнюдь! Они вымотались, после дорог, после очередной разлуки, после пережитого горя, которого можно было избежать, потому что он не собирался умирать всерьёз. Не нужны никакие поводы, что стало ясно по непроницаемому выражению лица. Вера Дмитриевна передала в руки кувшин и с тенью обиды на лице удалилась. Теперь, совершенно удовлетворённый жизнью Кирилл, бережно наклоняет кувшин с тёплой водой, смывая слабо пенящееся мыло со спины. Покончив с этим нехитрым, но приятным занятием, отставляет кувшин и усаживается на полу, укладывая руки на бортик ванной. Смотрит на неё с нежностью, словно впервые ей богу. Они бы бесповоротно повзрослели, если бы не возникла шальная мысль подурачиться с водой. Один взмах руки и россыпь мыльных брызг оседает на коже и волосах, на лице. Томность и романтика момента безнадёжно испорчена, зато Кирилл впервые за долгое (неизвестное) время хохочет, отворачиваясь и щурясь от случайных капель воды.
— Поверь, чем раньше они бы узнали, тем безопаснее для нас, — перехватывает её руку и в каком-то совершенно непроизвольном, словно играючи, порыве переплетает их пальцы. — Они теперь знают, что защищать. И даже если… — обрывается, понимая сколь нелепо будет звучать, пальцы прекращают свою игру, замирая, — мне придётся уехать. Я не буду бояться. Ненадолго. Службу ещё никто не отменял, — усмехается горько. Где-то в Петербурге должно быть, снова объявлен розыск. Больно часто Волконский исчезает из виду, будто служба ему более не дорога вовсе. Надо бы разобраться со своими обязательствами, теперь разделенными на две жизни. А пока не думать об этом! Он подаётся вперёд, осторожно _ нежно касается губами каждого пальца её руки, а после целует ладонь. Разве можно хотя бы вообразить, что осталась бы Лиза в четырёх стенах монастыря и никогда больше он не смог целовать её рук? Невообразимо. Быть может, от сей невообразимости, от страха решается Кирилл на очередной мужественный поступок. Удаляется ненадолго, а когда возвращается, опускается на пол за её спиной, вполне осознавая как и собственное безумие, так и чувство, неподвластное ни контролю, ни разуму.
Протягивает руку, чувствуя как щекотно и приятно её волосы касаются лица; медленно раскрывает ладонь перед её глазами, выпуская из темноты сияние лазурного камня, украшающего кольцо.
— Я знаю, ещё не время. Ничего сделать с собой не могу. Что бы ни случилось с нами, оно должно быть у тебя, — тихим голосом, почти шёпотом, пока рука свободная опускается на плечо и ощущение нежности, покалывающее ладонь, отбирает остатки здравости окончательно. Может быть, и не стоило оставлять их наедине. Не дожидаясь пока Лиза сама заберёт кольцо, прижимаясь вплотную, самостоятельно надевает на безымянный палец. Не собирается, вероятно рассказывать откуда оно взялось. Лиза догадается наверняка. Об этом оба предпочтут молчать. На его ладони её рука столь миниатюрная и хрупкая, до какого-то внутреннего трепета. Переливаются грани голубые, отбрасывающие янтарные вкрапления. Кольцо выглядит красиво на её пальце, словно принадлежало ей всегда, пусть и предназначалось для совершенно иной жизни. — Ты уже моя жена, Лиза. Я так считаю, так чувствую. Никто этого не отнимет, — заглядывает в глаза столь яркие даже в слабом освещении нескольких свеч. Верно, она — жена. А остальное, законность и формальности, — дело наживное, и как теперь кажется, не самое важное. — Красивое, — кольцо, разумеется, но смотрит в глаза, смотрит ещё несколько секунд, прежде чем обрушить град из поцелуев на её тонкую шею и плечи.
— Если я попрошу тысячу поцелуев, дашь мне ещё одну? — на лице появляется уже знакомая плутовская улыбка, после которой он решает что с ванной пора заканчивать и уносить Лизу на руках. И спать они будут, разумеется, в одной постели.
и лететь по белому свету // став одним движением ветра лететь куда-то вдаль
и н е д у м а т ь как приземлиться
а у птиц свободе учиться
Ранним утром явился посыльный, весь бледный, точно призрак. Андрей Григорьевич его немедленно принял и задерживать не стал, оставшись наедине с посланием. Кирилл подкрадывается со спины бесшумно, скорее невзначай, чем нарочно. Сон дурной ему приснился: монастырские ворота за которыми Лиза, и никакая сила, никакой вопль, никакая шпага не помогли ему Лизу вызволить. А быть может, она сама спасаться не желала, даже не удостоив его взглядом, — сон поистине дурной. Оторвался от подушки в липком поту и с гулко бьющимся сердцем в груди. Лиза лежала рядом, спала мирно и красиво, словно в былые времена. Заснуть он не смог и очень долго выбирался из постели, боясь потревожить Лизу, — её положение эту боязнь только усиливает. Выбрался. Смотрит на отца застывшего посреди гостиной комнаты с листом бумаги.
— Что случилось? — интересуется ещё сиплым голосом после сна, подходя ближе. Плечи поникшие, сгорбился непривычно, — сразу понятно, вести дурные или важные в утреннем письме. Глаза отцовские ясные, яснее серого утра, стало быть, никакой трагедии не сталось. Он протягивает письмо, едва ли подозревая о его немалом значении.
— Император скончался, — заключает батюшка ни радостно, ни горько, скорее бесцветно, быть может со слабым звучанием грусти, которое присуще случаю. Смерть — это горе в любом случае. Кирилл не успевает прочесть, слышит раньше голос батюшки, чем пробегается по строкам, а строки то плывут, скачут, пляшут. Руки, держащие бумагу, начинают трястись. Утро светлое, но затянуто серостью да капли дождя бьются об окна. — Чаю пойду попрошу, — не желая обсуждать новость, Андрей Григорьевич уходит. А толку обсуждать? Любой собаке было известно, в какую яму катится держава. Теперь же страну вновь охватит пугающая неизвестность и каждая собака будет ждать, прячась в своей конуре, то ли света, то ли темноты. Ждать и трястись, когда же явятся за ней люди в чёрном одеянии.
Кирилл бродит по комнате из стороны в сторону, теребя пальцами обветренные губы. Иногда останавливается, засматриваясь на утопающую в серости и неприглядности осень. Дурная погода. Должно сиять солнце, золотить оранжевые листья и верхушки деревьев, подернутые пламенем. Дурная, дурная. Всё дурное. Он сам дурной. Возвращается к бессмысленному хождению, в очередной раз с головой погружённый в какие-то вязкие и тягучие думы. Напряжение охватило тело, плечи точно окаменели. А ведь радоваться надо! Ведь об этом мечтал! Подумать только, свободен, свободен впредь. Она свободна. Сама смерть перестанет гнаться за ним. За ней перестанет бродить призрак невесты. Они свободны. Их ребёнок свободен. Однако же, совесть колется. Свобода, полученная ценой чужой жизни. Право слово, что с вами, Кирилл Андреевич?
Он возвращается в спальню не торопясь, то ли осознавая медленно всё то, что становится возможным, то ли осознавая саму смерть, которая наверняка была мучительной. Ежели и смерть, то быстрая, чтобы человек не мучился. Оспа — это мучение сплошное, как известно. Кирилл отчаянно пытается разозлить себя, вспомнить сколько страдали они сами, уж точно не меньше, чем от роковой болезни. Сам он чуть на войне не погиб. Лиза в опасности проводила каждый день и натерпелась больше, чем мог почувствовать Кирилл через строки писем и личные наблюдения. Отметины на её коже. Издевательства самые настоящие, когда он оказался снова во дворце, снова подле императора, правда, самозванца. Так разозлись же! Нет, сдерживается, вспоминая что Лиза спит и врываться в комнату нельзя. Открывает дверь осторожно и тихо подкравшись к кровати, опускается на край. Рука сама собой тянется к её лицу; нежно отводит янтарные пряди, ярко выбивающиеся на фоне светлых простыней и подушек. Улыбка трогательная несмело губ касается, пока пальцы ласкают румяную и тёплую щеку. А как об этом сообщить? Он был уверен в том, что легче ничего быть не может, чем прокричать на весь мир «свершилось, господи!». Кирилл Андреевич будто повзрослел куда значительнее за это время, чем за всю жизнь. Более не хочется вопить и ликовать от радости, а желание смерти вызывает стыд, будто не боролся с жаждой выпустить одну-единственную пулю и покончить со всеми бедами. Пусть Бог решает, разбирается, все — его дети, даже этот несчастный человек, вероятно, хотевший всего лишь внимания и любви. Кирилл не убивал. Хотя и не ручается за то, что не возникнет обиды: почему господи, не дал этого сделать мне? Глупый, глупый. Тогда бы не отмылся от грязи и крови никогда. Всё закончилось, закончилось. Набирает воздуха побольше в лёгкие, замечая что Лиза и не спит уже вовсе. Ты ж тут сопли развозить не собрался случаем, Кирилл Андреевич?
— Мы свободны, Лиза, — прошепчет сипло, а глаза блестят и вовсе не потому, что жалко, а от неверия. Он был молод и мог жить долго, а следовательно, ничего кроме загубленных жизней обещать им не могли. — Представляешь? Мы свободны, — он трясётся едва заметно, мелко, то ли от подступающих слёз (счастья), то ли от прохлады — комната успела остыть. И лишних слов не требуется. Объяснений не требуется. Она понимает. Они могут получить свободу лишь при одном условии, жестоком. Кирилл наклоняется, тянется к ней, за теплом родным, за нежностью рук; оставляет поцелуи на шее, на груди, сквозь тонкую ткань сорочки, постепенно спускаясь к животу и замирая на совершенно неопределенное время. — Милая, теперь ты моя, моя, полностью моя. Господи, а если бы… ты осталась там? — поднимает голову, заглядывая в её лицо. — Нет, я бы тебя забрал. Я бы вас забрал. Ты была права, Бог не так жесток, чтобы разлучить нас снова, — мельком улыбнувшись, он целует её, прижимая ладонь к животу.
|
Поделиться62024-04-13 22:40:34
Если б знали вы, сколько о г н я, с к о л ь к о ж и з н и,
растраченной даром,
<...>
С к о л ь к о тёмной и грозной тоскив голове моей светловолосой.
Sleeping At Last — Saturn
— Allez! — прозвучит бодрая отмашка француза, который теперь выполнял не роль мастера по фехтованию шпагой, которой он очень гордился [потому что кто как не французы считают себя лучшими фехтовальщиками на всем белом свете], а судьи, легкой кошачьей походкой отходя в сторону, давая фехтующим необходимое пространство для возможных маневров.
Саша отсалютовал шпагой. Они замерли друг напротив друга. Голубые глаза буравили пасмурно-серые.
Шаг, пробный укол. Саша без труда парировал шпагу врага дагой и ответил выпадом в бедро. Неудачно. Еще несколько осторожных попыток прощупать оборону друг друга и понять, чего стоит противник. Прелюдия.
Его волосы теперь оказываются весело и так небрежно растрепаны, в голубых глазах загорает давно забытый, казалось азарт – ничего не поделаешь, Александр Петрович любит выигрывать. Он и сам признается, что в этом его недостаток [и конечно же, умудряется отшутиться, что единственный], но вкус победы это то, что еще такой молодой император, особенно любит чувствовать. Выпад, укол, отступить – все как в танце, к которым он, как и любой бывший наследник престола имел предрасположенность. И в те моменты, когда он фехтует иногда и не разберешь – не разыгрывается ли здесь какой-то замысловатый, но удивительно со стороны легкий танец, в котором шпага становится продолжением руки. Взмах, пируэт, а после снова выпад.
Старик-француз смотрит почти с отеческой гордостью – это его ученик в конце концов и он всегда отмечал предрасположенность Александра Петровича к шпаге, делая это на самом деле совершенно искренне, не взирая на титул своего благородного подопечного. А, впрочем, приходилось признать, что и оппонент у него сегодня был хорош. В этом и вся суть императора – выигрывать он любил, но с другой стороны нет ничего хуже легкой победы. Вот и теперь, когда приходилось какое-то время отступать, держась в защите от точных уколов противника, он кажется наконец-то, впервые за долгое время наслаждался своим времяпрепровождением.
Саша с детства знал, что займет свою роль на престоле, что наденет корону и, несмотря на свою внешнюю обманчивую легкомысленность, эту насмешливость, всегда был готов к последствиям этого. К последствиям в виде бессонных ночей, затворничества в кабинете, где с утра до ночи нужно выслушивать доклады, жалобы и донесения, к принятию решений в конце концов. От этого хотя бы крохотная возможность отвлечься даже на простой тренировочный бой кажется драгоценной. Да и, в конце концов, лишний повод им с Кириллом вспомнить старое, а заодно решить, наконец, кто фехтует лучше. Пока этого выяснить не удавалось – оба оказывались на диво хороши.
Пока он фехтует он позволяет всем мыслям на время затихнуть, сосредотачиваясь только на бесконечных выпадах, телодвижениях противника и собственной позиции. Саша улыбается, усмехается, как только чужая шпага достигает цели, звучит: «Туше!», а он убирает со лба чуть слипшиеся от пота волосы. Они фехтуют около получаса и только теперь, кажется начали потеть.
— А вы стали лучше, Кирилл Андреевич! Мог бы и поддаться императору для приличия и сохранения моей гордости, в конце концов! — весело замечает он, перемещает клинок по вертикали, а тот просвистит, рассекая воздух. Наконец-то, у него по крайней мере был достойный противник. Старый француз прячет усмешку – вряд ли императору нужна поблажка.
Рука заработает быстрее, отбивая точные, но для Саши, который может и выглядит беззаботно, а на самом деле сконцентрирован только на чужих уколах и пируэтах, оказываются предсказуемы. Кирилл – его упрямый друг [это же надо было собрать вокруг себя столько упрямцев с собой во главе] в дуэли один на один точно такой же как и в жизни – самый честный и правильный, а от того кажется, что ты точно можешь быть уверен, что никаких коварных маневров ждать не приходится. Или же офицерская честь просто не позволяет ему использовать их против друга, но в первую очередь императора. Оно и к лучшему – возможно, хоть кто-то из них сможет сохранить в себе эту самую честь [Саше для этого мешает корона], даже когда дело касается простой дуэли на шпагах. Самое главное, что и поддаваться Кирилл ему никогда не будет и это касается не только поединка, но и государственных решений, а Саша убежден, что это самое главное для правителя – иметь рядом с собой человека, который не готов соглашаться с каждым твоим словом [а что касается Волконского, то он не готов соглашаться вообще и это ценно в наше время – способность иметь свое мнение]. Конечно, Кириллу бы сейчас непременно воевать, доказывая таким образом, что к его заслугам никакая дружба с императорской фамилией не причастна, но однажды этот упрямец, который сейчас снова сравнял счет, поймет, что в столице он на данный момент нужнее, а повоевать они все еще успеют.
Но ничья ни того, ни другого не устроит.
— Кстати, Кирилл Андреевич, а как дела у… как там ее, Елена Степановна кажется? Фрейлина матери, которая не ровно к тебе дышит, — голубые глаза лукаво вспыхивают, как только встречаются с мгновенно вспыхивающим в ответ Кириллом. Разумеется не заметить внимания этой дамы [к тому же, все еще незамужней, несмотря на возраст, при котором вокруг тебя уже начинают шушукаться] он не мог – в этих вещах Александр Петрович все еще почитал себя знатоком куда большим, нежели Волконский, у которого опыт общения с полом противоположным оставлял желать лучшего. При дворе об этом уже целые байки ходили, которые Волконский конечно же предпочитал не замечать, Саша в общем-то тоже, особенно учитывая насколько порочны оказывались некоторые из них. Ведь положительно не может быть такого, чтобы молодой и здоровый человек в возрасте Кирилла не волочился за какой-нибудь фрейлиной или дамой, а здесь такое разочарование – никаких малейших поползновений, никаких поводов для слухов, которые в итоге приходилось придумывать. Какая досада для высшего общества! Саша, в бытность цесаревичем по крайней мере в этом высший свет не разочаровывал, когда [и да здесь нечем гордиться, Саша и не скрывает] то и дело из дворца уезжали девушки, удостоившиеся его внимания по настоянию уже его матери. Что поделать – Наташа до определенного момента была недостижимым идеалом, которая заговаривала с ним только, чтобы в очередной раз напомнить о том, насколько глупо он себя ведет, а не иметь фавориток для будущего императора считалось даже чем-то предрассудительным [отец как-то сказал ему, что «уж лучше за бабами волочись, чем шушукаться станут по углам и при каком не то заморском дворе, что наследник престола российского блаженный». У отца всегда все, впрочем было просто, когда дело касалось его детей и такие грубоватые советы полагались за отцовскую заботу]. Так или иначе в этом он все еще разбирался лучше Кирилла, который, как бы хорошо теперь не владел шпагой [и постоянно совершенствовался – Саше нравилось думать, что благодаря ему в том числе], но в женщинах не смыслил ровным счетом ничего. Как печально – у таких как Кирилл первая любовь оказывается наиболее безумной. Впрочем, что еще взять с первой любви?
— Только не говори мне, что ты и не заметил? Не слепой же ты, друг мой! — Саша поменяет позицию, оказываясь у того за спиной. — Неужели она еще не затащила тебя в постель? — он замечает, как снова вспыхивает Волконский, теперь разве что не только глазами, но и щеками. Не смотря на то, что разница в возрасте у них совершенно не большая и по большей части из-за своей серьезности, которая кроме него была присуще разве что Наташе, как раз Кирилл казался старшим, ко всему относящимся серьезно, в такие минуты Саша ощущал себя едва ли не стариком. Кто еще краснеть станет от таких подробностей? — Или ты смог сбежать? — хитро присвистывает, продолжая подшучивать и испытывать не бесконечное терпение Кирилла.
Старый француз фыркнет весело – за свои годы он конечно же выучил русский, а император оставался неисправим.
Саша, тем временем, ждет, когда противник ошибется – он давно для себя уяснил, что пока твоя рука сжимает рукоять шпаги ничего вокруг не может тебя взволновать. Взволновать Кирилла вообще-то тяжело, но второе правило – уколоть может не только шпага. Шпаги снова скрещиваются, еще несколько обменов любезностями-ударами, после чего Саша с необычайным мастерством сделал движение, известное под названием «круговая защита»: мгновенно изменив направление острия своего клинка и направив его к телу противника. Если бы шпаги были не учебные, то на белоснежной, уже слегка липнувшей к телу от пота рубашке красовалась бы кровавая царапина. С Саши станется – он постоянно говорил, что в сражении на учебных шпагах нет никакого удовольствия, но Наташа строго запретила и ему и как оказалось Волконскому на это поддаваться: «Не слушайте этого сумасшедшего, Кирилл Андреевич, он просто ищет способ как быстрее расквитаться с жизнью». Наташу, конечно же можно понять – в конце концов она женщина, будущая мать [о необходимости наследника им говорят с самого первого дня свадьбы], но в конце концов что за жизнь, в которой не существует риска.
— Или ты предпочел бы, оказаться в постели кого-то другого? — неожиданно выдает он, едва ли уходя от неожиданной атаки, когда острие проскользит рядом с плечом. Всех раздражает, когда кто-то умудряется болтать и фехтовать одновременно – но для Саши это, как сама жизнь, кажется, игра, танец, сложный, но интересный, от которого принято получать наслаждаться. Круговой удар шпагой в голову. Укол. Еще укол, теперь уже кинжальным ударом в подмышку. Удар в правый бок и мгновенный перевод в укол. Стоит признать – расшатать самообладание Кирилла не так-то просто, хотя тот отчасти и начал ошибаться. Учитывая, что они оба отлично знают на кого Саша намекает, хотя и не признаются в этом. Здесь Александр Петрович бережет достоинство своего друга – в конце концов даже он знает, что чувства это вовсе не шутки. К тому же, что касается чувств к его собственной сестре, то здесь, как и любой старший брат Саша вовсе не торопил события и, как полагается в случае чего планировал, как и любой старший брат, пригрозить. Честь сестер необходимо, в конце концов блюсти. А потом, разумеется, дать свое благословение. Но отказывать себе в этом маленьком развлечении, а именно – подразнить Кирилла лишний раз никак нельзя.
Саша конечно же заметил. Как тут вообще можно было это не понять? Как можно было не увидеть какими взглядами его верный друг провожает удаляющуюся спины его младшей сестры? Как его вечно серьезный друг улыбается неожиданно очередной выходке Елизаветы Петровны, учитывая, что на Сашины шутки тот даже не думает улыбаться [тот еще зануда].
Они оба начинают понемногу выдыхаться и ошибки подловить проще, впрочем сдаваться все еще никто не собирается. Где-то за спиной откроется дверь, Саша не видит зашедших, зато очевидно их видит Волконский и что-то меняется в его лице, что-то мимолетное, вместе с чем движения замедляются, а Саша мгновенно реагирует, воспользовавшись этой секундной заминкой.
Острие шпаги касается шеи, как только удается и вовсе опрокинуть Кирилла на пол.
— Touchй, Кирилл Андреевич! — усмехается Саша, после чего шпагу отдает французу, а сам протягивает Кириллу руку в перчатке, помогая подняться и только теперь обернется. Позади стоит Лиза под руку с Наташей, буравит его взглядом, уже привычным взглядом «я крайне обижена на тебя». С тех пор, как он силой вернул ее обратно в Петербург от ее суженого-ряженого [чистого болвана] он получает от нее только такие взгляды, слишком не привычные для них, старшего брата и младшей сестры, неразлучных с самого ее рождения, от чего ситуация становится еще более нелепой. Саша наивно полагал, что пройдет время [неделя или две] и Лиза поймет, что не случилось ничего страшного, что у него в конце концов не было иного выхода, перестанет «дуться», но он ее недооценил, поэтому холодный бойкот существования его персоны во дворце у Лизы продолжался. Вот и теперь она кивает Кириллу, упорно делая вид, что он тут вообще один, из-за чего становится неловко всем присутствующим.
— Добрый день, Кирилл Андреевич, — на Сашу она упорно не смотрит.
Это еще не самое плохое. Плохое – это когда она начинает общаться с ним через Кирилла, находясь в одной гостиной. «Передайте моему брату, что мне совершенно безразлично, что он думает по этому поводу…».
Саша переводит взгляд с Лизы, которая делает вид, что он одна из статуй, расставленных по углам, на Кирилла, а после обратно.
— Разве ты не знаешь, что шпага ревнива? — он покачает головой, снимает с рук перчатки, передавая их туда же, куда собственную шпагу и забирая из рук холодное полотенце, смоченное водой, другое отдавая Кириллу. Саша с наслаждением вытирает капли пота с лица и шеи. Вид у них обоих теперь не слишком презентабельный. Встречается глазами с Наташей, которая все пытается их как-то помирить с сестрой, словно не знает насколько они оба упрямы. — Впрочем, теперь понятно почему мне удалось тебя выиграть, а? — подмигивает ему, прежде чем повернуться к Лизе.
В воздухе пахнет грозой. Ей давно пахнет, ее приближение чувствуешь – его сестра не сможет слишком долго хранить это в себе, однажды гроза случится.
— Не слишком справедливая победа, — она качнет головой. — Мы прогуливались с Наташей, если бы знали, что помешаем, не пришли бы сюда. Кирилл Андреевич выиграл бы, а ты как всегда не честно.
— Лиза… — Наташа пытается потянуть ее за собой, пытается то ли приструнить, то ли успокоить, то ли урезонить, то ли все вместе. Бросит сочувствующий взгляд на Сашу, а тот тихонько покачает головой, мол, ничего здесь не поделаешь.
— Не надо, Наталья Петровна, не старайтесь. Моя сестра явно хочет что-то мне сказать вот уже долгое время, не лишайте же ее этого удовольствия. Все могут остаться, не думаю, что это будет что-то, чего мы все не знаем. К примеру, — голубые глаза подернутся прохладной синевой. — что ее брат, император, ее крайней разочаровал и она его знать не хочет.
Лиза вспыхивает подожженной лучиной – ее разозлить куда проще, чем куда более сдержанного Кирилла. И Саша вроде бы не хочет злить младшую, у него нет на это времени, а главное что, но что-то темное подталкивает продолжать. Они никогда не ссорились серьезно и надолго, возможно из-за этого он и теперь думал, что все как-нибудь обойдется. Он всегда был старшим, а следовательно никогда не мог позволить себе таких ссор, априори будучи не прав. Даже напротив – он всегда был тем, кто защищал ее в таких ссорах то с сестрами, которые конечно же всегда завидовали той связи, которая установилась между Лизой и отцом [оно и не мудрено – она единственная никогда его не боялась и любила с ним совершенно одинаковые вещи – корабли, море, Петербург и науку. Даже Саша зачастую признавал, что он от этого куда дальше, может поэтому они с отцом ладили куда хуже], то с избалованными дочками дворян или в конце концов с матерью. От того эта ссора – черная, болезненная казалась противоестественным. Но она не могла закончиться хорошо – они оба слишком упрямы и в конце концов горды. Каждый думает, что он прав и никто не станет извиняться. Напротив – они продолжат вот так смотреть друг на друга скрещивая взгляды голубой и изумрудный наподобие отброшенных ранее шпаг.
Он точно знает, что она его не опустит точно также, как не опустила бы никогда шпагу, если бы она у Лизы была. И, пожалуй, она единственный человек, кто не станет опускать ни взгляда, ни колен, ни перед кем, пока того не потребуется. На то она и была Романовой.
— Что ж, извольте, Ваше Величество, — копившееся неделями раздражение выливается, наконец наружу. Она чеканит слова, поджимая губы и только глаза продолжают гореть. Титул, сказанный таким тоном звучит едва ли не как оскорбление. — Я думала, ты будешь на моей стороне! Я думала, что в первую очередь ты расскажешь мне, а не решишь сыграть со мной в игру, научив меня жизни. Я уверена, дорогой братец, что ты думаешь, что ты считаешь, что ты прав и поэтому не сожалеешь, что не остановил меня раньше, чем мне разбили сердце! Я думала, что ты не как батюшка станешь распоряжаться моей судьбой! Но ты всегда знаешь, как лучше, лучше по твоему мнению – точно так же как и он!
— Я не похож на отца! — тут Саша взрывается сам, раздражённо отбрасывая полотенце в сторону, поднимая голову к потолку, словно ища у лепнины, позолоты и расписанных итальянскими художниками плафонов спасения. Но амуры, сатиры и дриады прекрасны и совершенно бесполезны, потому что молчат. Потому что мертвы.
Он сам не знает почему так резко реагирует на вполне, кажется, лестное сравнение. В стране сравнивать кого-то с Петром Великим все одно, что возносить до Бога, а Саша болезненно морщится, Саша не сдерживается и поддается этому раздражению теперь даже не пытаясь перевести все в привычную для себя шутку. Ведь и правда ирония жестока – он его единственный оставшийся в живых сын, но он на него совершенно не похож. Он не считал, что всего можно достигнуть только поместив страну между железом и наковальней, он мучался так долго, после первого убитого им человека [человек был паршивый, дуэль честной, но дела это не исправило], а сколько было убитых у отца? Саша был яркой звездой в придворной жизни, тогда как отец ею тяготился. В конце концов, Саша л ю б и л, а отец… если кого и любил, то точно не их мать. Саша не распускал руки, Саша не спал с портовыми шлюхами, Саша н е…
— Отец делал, что хотел и это считалось лучшим! — выплёвывает он, горько усмехаясь. — Это, знаешь ли не похоже на то, что делаю я, потому что отец отправил бы тебя за границу или замуж от такого позора. Это не было бы лучшим выбором, но он бы так захотел и сделал бы! А если ты под сожалением ты подразумеваешь избавление тебя и нас от этого егеря, то да – я не жалею. Я жалею о том, что он сбежал, если хочешь знать!
— Ты должен был рассказать мне перед тем, как я сделала с ним – ты знал, что он замышляет, но не сказал! Ты преподал мне урок черт знает какой ценой!
— Ты бы меня не послушала! — окончательно взрывается Саша не обращая внимания теперь ни на умаляющий взгляд Наташи, ни на стоящего позади Волконского. — Я множество раз говорил тебе, что он тебе не пара, что он пустой человек, но ты и слышать ничего не хотела, а теперь решила ненавидеть меня потому что. Я. Прав.
— Откуда ты знаешь, если ты меня даже не спросил! — возможно ему покажется, но в ее голосе зазвенят слезы. Впрочем, на глазах они даже не покажутся и Саша очень сомневается, что вообще их увидит – его сестра терпеть не может плакать. — Ты просто так решил, потому что думаешь, что все знаешь лучше других. И потом, ты ведь пожалуй и рад, что так получилось – это ведь недостойная пара. И ты оказался прав, но даже если бы он был самым достойным из людей, но невыгодным союзом ты бы его не допустил. Ты мой брат, ты мой самый близкий человек, но если будет нужно, если того потребуют обстоятельства, ты выдашь меня замуж также, как хотел сделать отец! Ты отрицаешь, но ты пытаешься походить на него, но у тебя дурно выходит!
В зале воцаряется тишина настолько плотная, что кажется ее можно потрогать руками. Да, возможно она и права, а ты, Саша, всего лишь неудачная подделка великого монарха, которой теперь нужно его заменить и по крайней мере быть не хуже. Сколько раз ты задавался вопросом, что он сделал бы на твоём месте и сколько раз приходил к ответу, что поступил бы ровным счётом наоборот? Возможно, она и сама поняла, что сказала что-то лишнее, но вслух не произнесла ничего похожего на извинения. Саша прикрывает глаза, трёт переносицу в тщетных попытках успокоиться. Лёгкости сегодняшнего дня как ни бывало, а на голову снова навалился груз, этот тяжёлый и гнетущий груз, который он предпочел бы не ощущать.
Груз короны.
— Ты ведь пожертвуешь мной, всеми, если так будет нужно и!... — запальчиво начнет она и тут он окончательно не выдерживает.
Голубые глаза темнеют настолько, что покажутся скорее темно-синими, лишенными блеска.
— Да пожертвую, черт возьми, это ты хотела услышать?! — рукой останавливает Наташу, которая, видимо, хочет его остановить от поспешных слов. Слов, которые загорчат на языке, слов, которые он надеялся никогда не произнести. Возможно, он возненавидит себя потом, а возможно и сейчас, когда замечает как она дернется от его слов, словно в глубине души надеялась, что он станет ее переубеждать. Что же, Лиза, милая пташка, сестренка, правда всегда ранит. И сколько раз ей ещё удастся ранить тебя?
Он делает вид, что не замечает ничего и продолжает.
— Ты спрашиваешь о случае, когда от твоей личной жизни, от тебя самой или твоего замужества зависела бы судьба 20-ти миллионов человек, целостности страны и династии? Если о таком случае, то да – мне придется.
Он, может и вовсе не хотел всего этого говорить, но его что-то вынудило и брать свои слова назад уже было слишком поздно.
— Значит… — ее взгляд становится почти стеклянным. — …значит я всего лишь жертва, агнец, как и все остальные женщины?
— Мы Романовы, Лиза. Мы всегда чем-то жертвуем, — его собственный взгляд светлеет, а сказанные слова все ещё саднят горло. Так и хочется откашляться. Он сделал ей больно, он знает и уже не в первый раз.
У Александра Петровича всегда было много масок на все случаи жизни. Маска для двора, иностранных королей и послов, маска для женщин, которых он не любил. Но теперь заговорила пожалуй самая ненавистная и наиболее подходящая при этом маска.
Маска императора.
— Ты выберешь свою корону. Даже ты? — это звучит почти тоскливо и так умоляюще, словно она все ещё надеется, что он передумает.
— Страну, я выберу ее. Кто-то же должен, — он улыбнется грустно, отчаянно, но слов своих назад не возьмёт.
Они ещё какое-то время будут просто смотреть друг на друга в этой обволакивающей тишине, пристально и долго, словно впервые друг друга увидели, разглядели, а после она первый круто развернется на каблуках и быстрыми резкими шагами направится прочь.
— Я поговорю с ней, — Наташа поспешно сожмет его руку [милая, почувствовала ли ты, как эта рука дрожит?], прежде чем броситься следом за так поспешно удаляющейся Лизой.
Саша ещё немного постоит на одном месте, задумавшись о чем-то своем. Обернется к Кириллу.
— «Счастливец сторож дремлет на крыльце, но нет покоя голове в венце», — он смотрит вроде бы в его сторону, но мыслями он где-то не здесь. Встряхнется через пару секунд окончательно сбрасывая с себя непривычную для себя задумчивость. — Так, кажется, было у твоего любимого Шекспира, а? Я думаю на сегодня мы закончили, — Саша похлопает Волконского по плечу, слегка сжав его, но в глаза уже не смотрит, удаляясь прочь.***
Rosi Golan ft. Johnny McDaid - Give up the Ghost
C o m e here
It's a l l worth the fight when it's you
DearОт ее волос, золотисто-каштановых, пахнет ромашкой и ему кажется, что он готов вдыхать этот запах вечно. Нет, не кажется – он в этом уверен. Он вечно готов ощущать эту приятную тяжесть на своей груди, ему нравится пропускать ее великолепные волосы сквозь собственные пальцы, дотрагиваясь невзначай до оголенных плечей. Нравится подушечками пальцев ощущать теплоту и нежность ее кожи, нравится это ощущение, которое обволакивает их в эти жалкие часы. Ощущение, которое может подарить только она, только она целиком и полностью теперь принадлежащая ему.
Ощущение покоя.
Губы легонько касаются макушки и на них тоже останется этот легкий, цветочный запах – такой простой и легкий. У них на двоих так мало времени, которое принадлежало бы только им – шутка ли император и его жена. Эти часы, эта спальня в эти часы – это то немногое и х личное пространство, которое не нужно ни с кем делить. Да, может он предпочел бы, чтобы она стала его женой, пока он был цесаревичем, а вовсе не императором, предпочел бы задержать то время, когда можно было нестись за ней на лошади, дарить цветы, свесившись из окна, просто любить ее в конце концов, но такой роскоши им не дали – ее пришлось добиваться. А теперь кажется невозможным и невероятным если бы в его постели лежала другая женщина. Невозможно представить, чтобы он мог целовать другие губы, ласкал чужие плечи. Нет, положительно это невозможно. Невообразимо.
Пожалуй, самая главная награда для него это оказаться вечером в их спальне и снова стать просто Сашей и просто Наташей [потому что как только они выйдут отсюда она снова упрямо продолжи называть его Ваше Величество, даже несмотря на то, что они женаты и несмотря на то, что он всегда шутливо обещал: «Я буду целовать тебя до тех пор пока ты не прекратишь»], знакомыми с самого детства и любившими друг друга наверное с самого первого взгляда.
Она приподнимается, приглаживает его волосы, нежно касаясь пальцами лица, он перехватывает ее руку, неторопливо целуя пальцы. В темноте ее глаза сияют сапфировым светом. Блеснет на безымянном пальце кольцо, которое он подарил – на первый взгляд простоватое для императора. Он мог бросить к ее ногам все сокровища этого мира, которым владел [шутка ли владеть такой страной?], мог засыпать бриллиантами и сапфирами, а тут простенький голубой топаз в огранке, похожий на застывшую слезу и удивительно при этом похожий на его глаза. Но она любила именно это – она никогда не приняла бы от него слишком дорогих подарков, потому что среди всех украшений, которые ей теперь приходилось надевать, она оставалась главным. Кольцо изготавливали по его собственному эскизу и теперь Наташа его не снимала.
Он смотрит в эти удивительные глаза и отчасти все еще не может поверить, что возможно быть таким счастливым хотя бы на несколько часов.
— Она вспыльчива, но отходчива, ты же знаешь, — она ложится рядом на подушку, ее рука останется лежать на его плечо. Саша грустно усмехается. Очарование момента слегка треснет, потому что хочет он того или нет, но уйти от воспоминаний о сегодняшней ссоре вряд ли получится. Как и от этого взгляда – ласкового, но прекрасно все понимающего, от которого не отшутишься в привычной манере. — И все же, ты бы правда это сделал?
— Сделал бы что? Пожертвовал бы ей? — от этих глаз ему не уйти. Помолчит некоторое время, вздохнет, прежде чем ответить. — Как ее брат я бы сделал все возможное, чтобы этого не допустить, ты же знаешь. Я ее люблю в конце концов, — он повернется к ней, смотрит долго, точно зная, что по крайней мере она точно не станет в этом сомневаться.
— А как император? — она смотрит почти с сожалением.
— А как император… — Саша не уходит ответа, не здесь, не с ней. —…как император я бы хотел, чтобы мне никогда не пришлось выбирать.
— Но ведь мы говорим не только о замужестве, так? — она не дает ему отвернуться, удерживая ладонь на его щеке и пытливо вглядываясь в лицо. — Саша, ты ведь и тогда говорил не только об этом. Я знаю.
Иногда ему, как и каждому человеку, хочется сбежать. Быть может сбежать на берег той реки, где они все были счастливы.
— Ты меня очень хорошо знаешь. Лиза не замужем – в том и дело. И я надеюсь сделать все возможное, чтобы хотя бы она одна из моих сестер вышла замуж по любви, но за достойного человека. Но пока она не замужем, а следовательно…
— …она сохраняет свои права на трон?
— Я бы доверил ей свою жизнь, а ты? – вместо ответа спрашивает он, получив утвердительный кивок, пусть и не столь уверенный, продолжит. — Наташа, единственное, что я точно знаю – то, что должно случиться все равно случится как бы ты от этого не бежал. Любая, даже самая жестокая и затяжная война в итоге заканчивается миром, так почему бы сразу к этому не перейти вместо того, чтобы жертвовать тысячами жизней? Мир все равно придется заключать только какой ценой? Я убежден, что чем больше мы бежим от того, что нам суждено – тем больше теряем. Посмотри на нас – мы поженились, пусть и сопротивлялись, но в итоге мы вместе. Просто пришлось немного пострадать. А между прочим, ты бы могла просто сразу сказать, что любишь меня и никуда от меня не уйдешь.
Она улыбается, но он все равно замечает в ее глазах то ли страх, то ли сомнение. И правда – с чего бы ему вообще заговаривать о престолонаследии [плевать, что об этом так любят заговаривать собственные придворные] – обычно такие разговоры принято вести тогда, когда чувствуешь дыхание смерти в затылок. А Александр Петрович слишком любил жизнь, чтобы думать о смерти. Да, если бы пришлось выбирать кому отдать страну после своей смерти – он бы выбрал ее, не будь у него собственных детей. Если его дети окажутся слишком маленькими – она бы стала их регентом, потому что только в ней было достаточно огня, чтобы с одной стороны разжечь страну, а с другой – не спалить ее до тла. Или вовсе оставить замерзать, в том случае если искры недостаточно.
— Но того о чем Лиза волнуется все равно не случится, милая, — он припадает горячими губами к ее руке. — Не случится, потому что… — губы трогает уже более привычная лукавая улыбка. —…во-первых я собираюсь прожить с тобой очень долго, действуя тебе на нервы, а во-вторых я думаю скоро у нас будет много маленький царевен и царевичей, —рука осторожно коснется живота, ладонь ложится на кожу и улыбка становится мечтательнее.
— Много? — она накроет рукой его руку под одеялом и улыбнется в ответ. — И сколько ты хочешь?
— Я думал как минимум о четырех, если ты не против. Но если будет пятеро или шестеро я только за.
— Я подумаю над этим, но ты совершенно неиспра…— закончить она не успевает, потому что его губы накрывают ее, утягивая в такой долгий, такой сладкий поцелуй, что больше ни говорить, ни думать о чем-либо больше не хочется.
— Ты должна быть на моей стороне, — горячий шепот опаляет кожу. — Хотя бы ты одна и этого будет достаточно. Я не знаю каким я буду отцом, но я буду стараться.
— Я всегда на твоей стороне, ты же знаешь, — прошепчет она в ответ. — А еще я знаю, что ты будешь прекрасным отцом.
— А я знаю, что люблю тебя, — голубые глаза наполняются такой нежностью, которую он не дарил никогда и никому. Потому что никто ее и не заслуживал. — А теперь, знаешь…я даже не против заняться вопросом наших маленький царевичей.
— Нет, ты неисправим! — она смеется, пока он увлекает ее в поцелуй без шансов спастись, они смеются оба, улыбаясь сквозь эти поцелуи, которыми осыпают друг друга, такие молодые, такие счастливые.
Такие любящие.
Но ты сам сказал, Саша – бежать от того, что суждено глупо. Другой вопрос что делать, если ты несешься на встречу своей участи так быстро, что скорее всего разобьешься? Нужно ли было нестись на такой скорости, что просто налетишь на подставленные пики, чтобы кровь брызнула?
Ты сам сказал.***
Он понял, что умирает как только кровь пошла носом.
Кровь он вытер перчаткой, а после выслушивал генерала Шереметьева в походном шатре, пытаясь вникнуть в расположение позиций противника и не обращая внимания на буравящий взгляд Волконского, который наверняка только и мечтал о том, как запихнуть императора на лошадь и отправить в Петербург. Да, пожалуй, за это время он окончательно стал представлять из себя жалкое зрелище, но последнее что сейчас требовалось в момент наступления сообщить всем, что вряд ли он протянет еще неделю. На этот раз Саша смерть слишком хорошо ощущал. В общем и целом на Волконского он особого внимания не обращал, а кровь, которая то и дело мелькала то на платке, то на его перчатках он просто уже не замечал.
Так проще – когда ты с м и р и л с я. Так лучше – потому что тогда тебе ясно, что нужно что-то делать. Может быть, когда он лишь только кашлял и испытывал легкие головные боли, Саша и рассчитывал подлечиться где-нибудь в тепле летом, подальше от удушающе-холодных объятий Петербурга, в конце концов от чахотки тоже с п а с а л и с ь. Но теперь он не сомневался в том, что Петербург больше не увидит. Не увидит не только эти величественные каменные шпили и дворцы, мачты кораблей и набережные Невы, но не увидит и Лизы, не увидит и… Наташу.
Он отказывается от предложенного бокала вина, пошатнется, когда придется вставать со стула, но практически злобно зыркнет на подбежавшего к нему еще безусого мальчишку, отдавая какие-то последние распоряжения относительно дислокации войск, прежде чем выйти на студеный уже зимний воздух, который никак не способствовал облегчению его состояния, и зайтись в приступе все того же удушающего кашля, сотрясающего все тело. Хриплый, мокрый, отвратительный кашель теперь кажется полностью захватил его существо. О, как он его ненавидел. Ненавидел то, что медленно превращало его в ходячий, беспомощный труп.
Итак, все верно, он умирает.
Саша раздраженным движением вытирает кровь, ко вкусу которой во рту уже привык, с губ, выдыхая в бесконечно далекое звездное небо, похожее на цвет ее глаз. Такое же синее, разве что куда более неласковое.
Он так и не узнает, как бы выглядели его дети. Были бы у них ее глаза или его? Кто родился бы первым? Он бы назвал сына Константин. Или Кирилл. Но Волконскому не скажет – зазнается.
— О, друг мой хороший! — он расправляет плечи, как только видит Плутона, начищенного и готового хоть сейчас ринутся вдаль. Только без тебя Саша, теперь уже без тебя. Саша прижимается к лошадиной морде, вороной прядает ушами, замирая на одном месте, словно чувствуя то, что чувствует теперь его человек. — Хорошо начистил его, а, Кирилл Андреевич? — переводит взгляд на Кирилла, который и держит ретивого коня под уздцы. Пожалуй, никого Плутон так не любил как Сашу. И не слушался как Кирилла. Верный друг – Плутона нужно пристроить иначе пропадет. Сколько всего нужно пристроить. Голова готова расколоться на две половины, но он мужественно держится. — «Счастливец сторож дремлет на крыльце, но нет покоя голове в венце», — неожиданно процитирует знакомые строчки, тяжело сглатывает. — Отведи его на конюшню, будь любезен. И найди мне моего секретаря, пока он не напился или еще чего – у меня к нему дело. Это не срочно, но пусть явится.
Саша остановит Кирилла на полдороги, окликнет, посмотрит пристально, долго. После подойдет к нему снова и обнимет, обнимет неожиданно крепко, почти до хруста в костях.
— Спасибо, — негромко, коротко. — у меня никогда не было брата. Спасибо, что им был.
Одно слово – его конечно мало.
Спасибо, что был моим другом.
Спасибо, что был преданным соратником.
Спасибо за то, что придется сделать.
И прости.
Но этого Саша конечно же не скажет, удаляясь в свой собственный шатер с его глаз прежде чем едва ли не рухнуть на жесткую постель.
Всем умирающим полагается оставлять завещание.***
Он отлично знает, как поступить н у ж н о, а еще отлично знает, чего делать не хочет. Но у него нет выбора, а единственный и возможный вариант – о н а. И пусть, пусть говорят, что женщинам не дано править – в Европе все уже много веков не так. С другой стороны – он обрекает ее на жизнь, которую не сдюжит иной мужчина. И все же он точно знает – что так правильно и что у него нет выбора. Она справится – рядом будут преданные люди [по крайней мере рядом обязан быть Кирилл, он попросит, если успеет, он непременно попросит]. А может все же не стоит? Посмотри, Саша, тебя о т р а в и л и, отравил возможно самый близкий человек от чего еще больнее, а что сделают с ней? Может к черту – разберутся сами, а она счастливой будет, свободной?
Нет, в з д о р. Из-за своей фамилии она скорее останется беззащитной, она останется препятствием, если он об этом не позаботится и только этот титул будет способен подарить ей по крайней мере ж и з н ь. А заодно – страну. Только она, она одна способна была продолжить то, что хотел сделать он, потому что она одна могла это понять. Другие развернут страну другим курсом, губительно направив ее прямиком в шторм. И потом – без наследника будет бунт, а тебе смотреть с небес или из адских чертогов за тем, как страна, которую ты мечтал сделать великой тонет в крови и разрухе.
Ей будет тяжело, ужасно тяжело, она возможно никогда не простит ему этого, но…
Но мы Романовы, Лиза – наша судьба жертвовать.
Лучше спасти страну теперь, чем спасать после, потеряв так много.
«Боже, пташка, я оставляю тебе страну не в том положении, в котором бы хотел. Я запираю тебя в клетке и ты можешь проклинать меня, а я все равно буду тебя любить. Но, пташка, ведь в конце концов…кто кроме нас?».
— Вы хотели меня видеть, Ваше Величество? — слышится голос секретаря позади, а Саша понимает, что в каком-то забытье провел довольно долгое время.
— Да, садитесь и пишите то, что я буду диктовать. Возьмите печать заодно, — в груди разрастается огненным цветком жар. Боже, у него еще меньше времени чем он думал – поторопиться, поторопиться как можно скорее, пока еще может мыслить ясно. — Я буду диктовать вам свое завещание, — Саша поджимает губы, снова убирает пальцами темную кровь из-под носа, садится рядом, пошатнувшись. — «Я, Александр Первый Петрович. Волею Божией император и самодержец Всероссийский…».
«Прости меня, Лиза. Но иначе было нельзя».

Лиза, если бы у нее были свободны руки непременно бы его поколотила. Поколотила бы теперь в тщетной надежде, что по крайней мере таким образом она сможет оттолкнуть упрямого Кирилла от себя настолько далеко, насколько это будет для него безопасно, даже если все ее существо попросту протестовало против такого самоуправства. Ее губы словно заколдованные произносили: «Уходи, ну уходи же!», тогда, когда все в ней буквально кричало о том, что ему следует ее забрать отсюда, а вовсе не оставить стоять на берегу и провожать взглядом уплывающую лодку в тщетных попытках убедить себя в том, что так будет лучше. Нет, она конечно же не хотела, чтобы он уплывал, потому что что-то внутри подсказывало, что в таком случае никакого второго шанса не будет, даже если Господь приберет к рукам несчастную душу императора, умирающего где-то в Москве [можно только представить, как все окажутся счастливы и это даже страшно, но и ты не будешь исключением, ведь так, Лиза?]. Не так-то просто вернуть однажды данный обет Богу, а ей придется его дать пусть это еще более страшный грех, чем побег из монастыря или ребенок, рожденный вне официального брака, одобренного церковью. Возможно теперь, отталкивая его, отступая назад и пытаясь не дать себя переубедить, обнять [боже, мой милый мальчик, если ты меня обнимешь, то это нас погубит, потому что тогда я не смогу тебя отпустить, а я, увы, д о л ж н а], з а б р а т ь, она подписывает себе смертный приговор. Возможно, это действительно последний раз когда она видит его, его глаза так упрямо не смотрящие на нее, словно он что-то задумал [да, я знаю, что ты со мной не согласен], его удрученно-опущенные плечи. И даже в этот последний раз она делает ему больно – разве это не повод, наконец, это прекратить?
Уходи, прошу, уходи – чем дольше ты этому сопротивляешься, тем меньше моя решимость сделать все правильно.
«А никогда не видеть собственного ребенка ты сможешь, а Лиза?» - спрашивает на этот раз вовсе не противный глумливый голосок, а свой собственный внутренний голос и спрашивает так печально, что хочется разрыдаться. Она итак, впрочем, еле сдерживается.
Да, как только он отплывет в лучшем случае она увидит его и своего ребенка еще один раз – сразу после того, как даст Бог разрешится от бремени. А потом, Кирилл должен забрать дитя, а она…а она навсегда надеть черное. И готова ли она к таким жертвам в своих попытках оставить их в живых и, как наивно приходится полагать, счастливыми. Это Наташе, а ныне сестре Евдокии, может быть спокойно в монастырских стенах, точно зная, что за ними ее больше никто не ждет – ее любовь давно похоронена под плитами Петропавловского собора, а детей им не было дано [какая ирония, в том что тем, кто сочетался вполне законным браком и ничего вроде бы не боялся так и не дали детей, а ведь эти дети могли бы все изменить, а им, которые не могут разобраться толком со своей жизнью, которая то и дело находится под угрозой Бог, обладающий каким-то странным чувством юмора, решил подарить это несчастное дитя]. Тебе же, Лиза спокойно в доме божьем никогда не будет зная, что где-то живет человек, которого ты любишь и твой ребенок, которого ты успела полюбить. Живет и никогда тебя не увидит и, наверно, не узнает. А возможно у него даже будет другая мать, в конце концов она никогда не попросит его об обете безбрачия – кто-то должен продолжать собственную фамилию в конце концов.
Страшно? Страшно, а ты продолжаешь дрожать как от холода, стоя на одном месте и мотая головой, не давая ни подойти к себе ближе, ни коснуться себя, но и не уходя, хотя следует, потому что ноги как будто к земле приросли.
Потому что. Ты. Не хочешь. Уходить.
Потому что ты врешь. А ему врать получается скверно.
— Нет, Кирилл, не смей! — вырывается жалкое, не слишком убедительное, как только он так быстро сокращает расстояние образовавшееся между ними, а у нее просто нет сил что-нибудь с этим сделать. Все, что она может – попытаться отбиться, но куда там, когда он взял и все решил. — Отпусти меня, слышишь! Отпусти, иначе я буду кричать, отпусти я приказываю в конце концов! — неизвестно откуда у нее взялись силы на такое сопротивление, да и на то, чтобы так вовремя вспомнить о том, что еще в праве кому-то приказывать.
Впрочем, на него ее приказы не действуют и это то ли злит еще сильнее, то ли приносит некоторое облегчение. И все же нет, нельзя так, нельзя ему позволять. Если Кирилл сошел с ума [а он очевидно сошел], то по крайней мере ей, ради них всех требуется не допускать к себе эмоции. Правда, когда ты при этом ждешь ребенка все немного усложняется. Особенно эмоции.
Пожалуй, только ему она могла позволить вот так оторвать себя от земли, забрасывая на плечо. И то – не теперь. В таком виде она, наверное, меньше всего походила на Романову, как бы поздно не было об этом вспоминать.
Лиза охает, тихо, отчаянно, мысли напрочь вылетают из головы, а все, что остается – применять физическую силу [смешно]. Она колотит его по плечам, не зная даже точно – ощущает ли он удары ее кулаками по своим несчастным плечам, упирается обеими руками, но он держит ее так крепко, как умел держать только он, поэтому ничего не выходит, а расстояние между ней и лодкой существенно сокращается.
— Упрямый, невыносимый идиот! Болван! — в сердцах вырывается у нее сквозь слезы [то ли слезы счастья, то ли отчаянья]. Идиот – о, как давно она не произносила этих слов. Ведь бранные слова – страшный грех, тем более в стенах святой обители. «Когда человек бранится – Богородица плачет». Что же, Бога они прогневили достаточно, а это ее «идиот», пожалуй, только лишнее доказательство, что она наименее подходит к этой жизни. Не дай боже назовет так еще кого-нибудь. Лиза отбивается, Лиза упирается, но ее кулачки бьются в такое чувство непробиваемую стену. — Саша правильно называл тебя то ли ослом, то ли бараном! Как ты не понимаешь, что у нас нет выхода, мы друг друга погубим! Отпусти меня немедленно, иди на все четыре стороны и прекрати делать все от тебя зависящее, чтобы покончить с жизнью! Можешь даже жениться! Оставь меня в покое! — но ни в каком покое ее уже не оставят, опуская в хлипкую лодчонку.
Лиза поднимает глаза и видит за деревьями позолоченные купола собора. Возможно их единственное спасение – она может и предпринимает слабую попытку вскочить и убежать, пока лодка не отчалила от берега, но не тут-то было, потому что ее усаживают на место. Сил все меньше, как на самом деле и желания сбежать, доказав ему, так крепко ее держащему, свою правоту. Но, в конце концов как можно было даже ее не…предупредить! Лиза еще пару раз ударит кулаками в грудь, выкрикивая еще пару совершенно уже неприличных слов, обещая, что с лодки все равно непременно спрыгнет [конечно нет]. В какой-то момент ее истерики Кириллу, видимо, все это надоедает, он просто перехватывает худенькие запястья, что удается ему сделать с такой легкостью, словно она ребенок.
— Если я выгляжу как мешок с картошкой, это не означает, что со мной можно обращаться как с мешком с картошкой, с у д а р ь! — цедит Лиза, упрямо отказываясь смотреть ему в глаза и намереваясь вовсе уши заткнуть, чтобы не слышать и не слушать тех оправданий, которые у него найдутся. Хотя, зная Кирилла – оправдываться он вовсе не будет. Потому что считает, что он прав. Зеленые глаза полыхнут казалось давно потухнувшим [или по крайней мере в монастыре надеялись, что удастся его потушить] упрямым огнем, но где-то в глубине души ты почти счастлива, понимая, что не придется наконец-то решать самой. Потому что ты бы не решилась. Надо бы вырвать свою руку из его, но почему-то не выходит. Не потому, что он так крепко держит, а потому что на самом деле тебе и не хочется, чтобы он твою руку отпускал. И все же для порядка просто необходимо возмутиться. В конце концов он даже не предупредил и не спросил! В конце концов ты ведь и правда не мешок, хотя одежда, которую не привыкла носить и правда делает тебя каким-то пугалом. Страшно сказать, наверное, как ты выглядишь в его глазах. — Как мы справимся сами?! Это была наша последняя надежда! А ты взял и решил, что знаешь лучше! Все мужчины одинаковы! — выкрикивает, отводит взгляд, упрямо разглядывая с лодки ближайшую рощицу с тоненькими и уже облетевшими березками, зябко поводя плечами.
— Не отдаст он… С ума сошел, болван, дурак… — бурчит себе под нос, но даже не совершает поползновений сбежать из лодки пока он отвернулся. А ведь возможность в конце концов отличная. Но она почему-то остается сидеть в лодке, стараясь не смотреть на него, а сердце продолжает гулко стучать в груди то ли радостно, то ли испуганно. А может все вместе. — Как мы защитим его, какой ценой, Кирилл? У нас нет сил, мы себя защитить не можем, а все сводится к тому умрет человек или нет, а теперь все уж конечно кончено, потому что отец этого ребенка сошел с ума. И я тоже, раз не пытаюсь тебе помешать… — это добавит тише, сердито отворачиваясь, из своего уже привычного упрямства не собираясь признавать его правоту, не желая говорить ему «спасибо», которое так и рвалось из груди с каждым взмахом весел.
Лиза даже не замечает, как быстро, даже в порыве обычной обиды, стала походить на себя, а не на жалкий призрак. Она не замечает, как с каждым взмахом весел, все дальше удаляясь от монастырских стен, открывающихся все больше, становится легче дышать. Здравый смысл может и твердил, что безопаснее повернуть назад, оставить все как есть, но здравый смысл ей изрядно надоел. Иногда она бросает взгляд на Кирилла пытаясь удостовериться, что это не сон и он правда жив. Стоит ли тратить их общее время на обиды и доказательство того, что ты все же права, потому что гордость никто еще не отменял? Она наблюдает за ним, пока он не смотрит и мгновенно отворачивается, когда взгляды пересекаются, разглядывая маковки церквей, составляющих монастырский ансамбль, а сердце продолжает биться.
Ты свободна. Свободна. Он забрал тебя. Он забрал в а с. Ты еще увидишь их. Ты возьмешь на руки вашего ребенка и он возможно тоже. А даже если нет – хотя бы на несколько дней, часов, минут – вы все равно вместе. Разве этого мало? Нет, пожалуй этого даже много.
И все же, за это время тебя успели так напугать, что ты просто не можешь все так легко отпустить. Когда лодка останавливается, замирая совершенно неподвижно – течения здесь никакого, а порывов ветерка достаточно только для того, чтобы ей стало еще холоднее, но никак не для того, чтобы оттеснить лодочку подальше, Лиза на секунду подумает, что он передумал, что он вернет ее назад, раз уж она так сильно просила, развернет лодку и… все кончено.
Сердце пропускает удар и она посмотрит почти испуганно, но нет, он всего лишь набрасывает на окоченевшие плечи плащ, а она чувствует предательское облегчение. Нет, он ее не вернет. Они не повернут назад. Это уже ясно. Лиза молча поправляет рукой плащ на плече, хотя бы немного согреваясь и теперь глядя на него. У него холодные руки, но ей, почему-то становится еще теплее. И она смотрит на него не отрываясь, уже не пытаясь руку вырвать – время для показного недовольство, наверное, прошло, пусть здравый смысл и вопит что-то вроде: «Разворачивайтесь!». Никуда они, конечно не развернутся.
Сердце затрепещет, когда он произносит: «Это мой ребенок» - может главную фразу за все это время. В какой-то момент их диалога там, в ее то ли убежище, то ли тюрьме, ей показалось, что новость о ребенке скорее напугала его еще сильнее, чем вероятность того, что они расстанутся. Или по крайней мере отяготила настолько, что он стал еще более усталым и серьезным. А ребенок, как ей хотелось думать это что угодно, кроме т я ж е с т и, даже если он появился неожиданно, даже если не ждали. Но его по крайней мере хотели. Думать об этом было некогда, когда она думала, что он мертв, но как только он «воскрес» все изменилось.
Лиза тихонько выдыхает.
— Ты сумасшедший, ты же знаешь это? — она качает головой, произносит это тихо, сама не замечая их переплетенных пальцев, не отнимая руки от его руки, сжимая ее крепче. — Если ты попробуешь еще раз умереть, знай – я убью тебя, — слабо усмехается, отворачивая взгляд. — И потом, откуда ты знаешь, что я твоя? — повернется через несколько показавшихся долгих моментов, вздергивает подбородок, боясь, что сейчас опять расплачется. А слез с нее достаточно. — Это ты мой. А я теперь – в а ш а, — она прикладывает руку к животу и впервые за долгое время чувствует себя собой.
***
Она придвигается ближе к разведенному костру, согревая окоченевшие за время езды верхом ладони к пламени. Сумеречный лес не собирается засыпать – наоборот, кажется звуков становится еще больше. Небо окрасилось в розовато-оранжевые цвета, последние солнечные лучи подсвечивали снизу полоски облаков. Слышна была трель большого кроншнепа. Потом раздались журавлиные крики — пара журавлей пролетела низко-низко. И как сказочно смотрелись они на фоне оранжевого закатного неба эти журавли, улетающие куда-то на юг. Им можно было бы позавидовать, как всегда она завидовала птицам, испытывая к нем непонятное влечение – слишком свободными они казались. Свободной всегда хотелось стать и ей. Где-то над ее головой ухал то ли сыч, то ли сова – в темноте, которая так стремительно сменяла жалкие остатки золотистого сияния уходящего вечера автора печальной песни было не разобрать. А чем ближе подступала темнота, отгоняемая от них только светом разведенного костра, тем больше казалось становилось призраков. О, ночной лес полон призраков. Если посмотреть на это место днем, то окажется, что перед вами огромные корни вывороченного бурей мощного, старого дерева. Оно давно лежит поваленным, потому что на его корневище поселился и бурно разросся бородатый мох. Днем он может показаться даже живописным и привлекательным, ночью же – это воплощенный ужас. В темноте ветки, корни и «пряди» мха складываются в устрашающую картину – по лесу двигается нечто гигантское, бесформенное, размахивающее огромными лапищами, шуршащее, шумящее, пугающее до потери сознания. Но треск костра – живого, теплого и настоящего призраков отпугивает. Пусть за Лизой призраки обязаны ходить толпами ей кажется теперь, что вряд ли ее что-то может напугать настолько сильно как события последних месяцев.
В ближайшую деревню на постой соваться было слишком уж опасно – не дай боже узнают, растрезвонят в монастырь, а значит всем известных дорог и слишком людных мест необходимо было избегать. До ближайшего же постоялого двора несколько десятков верст пути, а Плутон, отличавшийся скоростью и упрямством гораздо больше, чем выносливостью и вынужденный тащить на себе целых двух [трех если уж точно] человек, нуждался в хотя бы каком-то отдыхе. Вот и пришлось найти место более или менее подходящее для того, чтобы сделать привал, согреться и отдохнуть [стоит признаться, что в твоем положении вообще сложно долго переносить долгую езду верхом]. Лиза поднимает взгляд, как только слышит очередной и такой режущий слух кашель. Пожалуй, на него так или иначе достаточно свалилось – монастырь, его предложение и ее то ли согласие, то ли отказ, а после лодка, ее кулаки, снова долгая скачка куда глаза глядят, да еще и дрова и хворост на костер. И да, конечно же он мужчина и гордо переносит все трудности. А она, вроде как все еще обижена или сомневается и все же.
Поднимается со своего места, подходя к седельной сумке выуживая оттуда мазь, прихваченную опять же из монастыря [выходит мы с тобой Кирюша настолько грешники, что еще и крадем у Бога] и заветный кувшин с отваром, который Кирилл догадался таки прихватить вместе с ней.
— Даже не думай отнекиваться, я видела, как ты морщишься при каждом движении. И твой кашель действует мне на нервы, — строго отрезает она, протягивая кувшин и, дожидаясь пока выпьет достаточно осторожно отворачивает край рубашки, под которой замечает относительно свежую рану. Лиза прикусывает губу, прикусывает так, что кажется кровь брызнет в рот. Это конечно же из-за тебя, как и чертова полоса на шее. Но уговаривать его быть осторожнее на самом деле бесполезно. Кончиками пальцев размазывает мазь по ране. — Она должна согревать, — не задавая вопросов замечает Лиза. — Была бы здесь Варя было бы конечно лучше – от меня мало проку… — закончив с плечом и надеясь, что по крайней мере так станет легче она какое-то время смотрит в его глаза, в которых играет пламя костра и которые отражаются в ее собственных, в всполохах пламени кажущимися не зелеными, а скорее янтарными. А потом осторожно кладет голову на его здоровое плечо, выдыхает. — Я все еще обижена на вас, Кирилл Андреевич, — он не видит, но возможно чувствует – она улыбается. — Я обижена, что меня столь бестактно сунули в лодку и отказались слушать. Это было ужасно грубо, а еще… — пауза, после чего поднимет голову с его плеча, чтобы заглянуть в лицо. — А еще спасибо. За то, что забрал меня оттуда. Я бы никогда не решилась без тебя. Но я хотела, чтобы кто-то решил за меня, даже если решил бы неправильно, — с этими словами она приподнимается и оставляет мягкий поцелуй на его лбу.
Костер трещит, ночной лес продолжает обступать со всех сторон.
Но ей тепло.
Ей тихо.
Поделиться72024-04-13 22:41:17



Хотя, может и стоило подумать о том, чтобы хорошенько побить Кирилла или и вовсе столкнуть с лодки в воду, но поняла Лиза это слишком поздно и подходящей лодки под руками все равно не оказалось. Эти дни будто были созданы для того, чтобы их рассорить, а Кирилл начинал балансировать по весьма тонкому льду и можно было загибать пальцы на всех моментах, при которых иного мужчину она как минимум бы отчитала. А чего ты хочешь, Лиза, когда выглядишь в лучшем случае на половину также, как выглядела раньше, а твоя жизнь давно не зависит от тебя? И все же.
На самом деле за несколько десятков верст до конечной их цели она задремала, проснувшись только теперь, когда карета [если ее можно так назвать – скорее повозка с крышей] затормозила. Затормозила, покачнувшись и едва не завалившись, так что ее отбросило на переднее сиденье, обивку которого погрызли мыши и хорошо, если не завели в этой же обшивке гнезд. И в том, что возница был такой, словно обещанный ящик водки [она слышала разговор с бородатым мужичком Кирилла еще на постоялом дворе, пытаясь своим видом не привлекать внимания, что сделать было не трудно, труднее с их внешним видом оказалось нанять экипаж] он уже выпил как раз не было ничего удивительного – их всю дорогу, продлившуюся едва ли не весь день, трясло и бросало в разные стороны на кочках и ухабах, в какой-то момент Лиза видимо решила, что лучшим выходом будет именно заснуть – дорого ее измотала и измучила, во рту появился тошнотворный привкус, о еде с одной стороны думать даже не хотелось, потому что в такой тряске она грозилась оказаться на все том же отвратительном сидении, а с другой за все это время она выпила немного молока и съела пару печеных яблок и перед глазами периодически рисовалась то щука с лимонами, то наваристый мясной бульон, а может и несколько пирожных. А лучше все вместе.
Так или иначе, очнувшись теперь, она видела из окна экипажа только неясные очертания каких-то построек, осознав по синеватым сумеркам за серыми шторками, что уже вечер. В животе протяжно заурчит, а в голове пронесется невеселая мысль: «Да, малыш, ты определенно будешь очень сильным, потому что тебе приходится терпеть такое». Сознание даже не сразу отходит ото сна, затуманенное сновидениями, которые она даже не помнит, но постепенно просыпаясь, Лиза осознает, что за всю дорогу так и не спросила у Кирилла куда они направляются.
Наверное, она просто так устала, что сначала даже не задумалась, какой у него план и есть ли этот план вообще. После решила, что они затаятся на каком-нибудь постоялом дворе, пока новости не станут определеннее, поедая то, что может предложить местный трактирщик [в основном тушёную или квашеную капусту и свиной окорок]. Приходила ей в голову идея о том, что возможно они поедут прямо в Петербург, стараясь миновать Москву, которой сейчас все одно не до одиноких повозок с черт знает кем. В Петербург, может быть снова к князю Вяземскому, которому можно довериться, а может на какую-нибудь офицерскую квартиру, где можно по крайней мере затаиться [ее любимая гвардия ее не выдаст, ведь так?]. Но подобного, она, пожалуй, совершенно не предполагала.
Поэтому, когда Кирилл заговорил ее лицо из усталого мгновенно становится возмущенным.
— Ты что, привез меня к своим родителям? В таком виде? — и не понятно что ее смущает больше: неказистый наряд, который совсем не соответствует статусу, или же беременность, которая пока ещё не заметна неопытному глазу. — Ты привез меня к ним и даже не предупредил?! — возмущенным шепотом восклицает Лиза, но у них уже нет ни времени на это, ни, кажется что. Кирилл – дома , а она… она уже давно очень далеко от своего. — Понравилась вот только я не была беременна до брака от их сына и за мной не носилась канцелярия и!.. — он исчезает, а она не договаривает, отпуская его руку и оставаясь одна.
Лиза спрячется обратно вглубь экипажа, вжимаясь спиной в хлипкое сиденье, словно старается стать невидимой. О, если бы только можно провалиться сквозь землю прямо сейчас, когда уже совсем близко раздаются знакомые и не слишком голоса, когда совсем рядом слышатся слезы радости [Володя, наверное рассказал о «смерти» Кирилла не только ей]. Лизе даже представить страшно во что она превратилась: в монастыре она мало обращала на это внимание, да и зеркал там не было. А что теперь? Бледная кожа, синие рисунки вен на руках, грязь под ногтями, взлохмаченные рыжие волосы, выбившиеся из-под капюшона плаща, да и все тело вместо того, чтобы приобрести привычные для беременности очертания округлости и плавности, скорее превратилось в тело угловатого подростка [переживания и постная пища даром не проходят]. Она совсем не та цесаревна, которую они видели на балу несколько лет назад. Беременность… о, Боже, а ведь ещё и беременность! Конечно, Кирилл – мужчина и они даже не задумываются о таких мелочах, а ей, Лизе в качестве его то ли невесты, то ли жены [им все же стоит с этим разобраться], то ли просто любимой встречаться с ними впервые! Вот уж хорошенькое выходит новое знакомство – вместо представления, официального ухаживания и свадьбы сразу «в дамки».
«И давно тебя это волнует, Лиза?». Раньше она бы пожала плечами и сказала бы, что ей безразлично, потому что раньше она была глубоко убеждена, что в этом мире все любят и боготворят ее в любом качестве. Но раньше она не любила т а к, не была т а к измучена и в конце концов не ждала ребенка. Да и цесаревной оставалась, как ей казалось, лишь номинально, в каких-то фамильных книгах. Сейчас, сидя // прячась в этой карете она была просто девушкой в трудном положении, спасённой и влюбленной в их сына, убежденного в том, что они ее полюбят. Что конечно же не спасало саму Лизу от бесконечных переживаний.
Она прислушивается к чужой радости вперемешку со слезами, отчего-то боясь выглянуть наружу и дать о себе знать. В конце концов их сын вернулся с того света и мешать им совсем не хочется. «А если не обрадуются и вовсе не полюбят, как обещает Кирилл? Не покажут конечно этого, не выгонят, но ведь я все замечу».
От того ещё более неожиданным покажется возглас, когда она все же выберется из кареты, останавливаясь в нерешительности у дверцы. Видимо, ее бледное лицо, которое из-за вечернего холода кажется не раскраснелось, а стало ещё бледнее, все же увидели, как не прячься.
«Лизонька».
Так странно, почти чужеродно звучит собственное имя в этой форме, она даже не сразу откликается. В конце концов так к ней не обращались… никогда? Если и обращались, то очень давно в забытом детстве, а здесь вдруг становится так тепло, что глаза защиплет. Лиза даже не знает толком, что ответить его матери, которая принимает ее так, словно они виделись каждый день или же она здесь росла. Они не знают. Они не знают, что она принесла их сыну, но быть может догадываются, а даже если так, все равно не отталкивают, а ведь могли бы. Могли бы сказать своему упрямому сыну, что ей здесь нельзя, что у него здесь может невеста, что… Но они не скажут, Лиза видит это по их глазам, наполненным таким искренним участием, которого тоже давно уже не видела. Во дворце даже в лучшие его времена было… прохладно и это казалось нормальным. Ее семья была совсем другой. Любимой ею, но другой.
— Я… — Лиза теряется, теряется в этом семейном кругу, растерянная тем, что ее принимают как свою, а не как личность, которая все усложняют. И вроде бы теперь пора поверить, что ничего плохого не случится, но почему тогда так хочется расплакаться, как маленькому ребенку, который расквасил нос, а мама пожалела его от чего плакать хочется сильнее. Но нет, ещё не хватало разреветься! Вместо этого она улыбнется устало, несмело [робея неожиданно для себя]:
— Я надеюсь я не слишком обременила вас, приехав без предупреждения… — вид оставляет желать лучшего для такой высокопарности. Так странно, что даже теперь это вырывается, вырывается как принято, как учили, как воспитывали. Пожалуй, придется смириться, что она не умеет иначе.
Но в этом доме, приветливо светившим в лицо теплым светом свечей, она, кажется, научится.
—…да, вынуждена согласиться с вами. У него весьма натурально вышло и на этот раз прикинуться мертвым. Я почти поверила.
Перед глазами раскиданы разноцветные платья – мелькают яркие оборки, кружевные рукава и шелковые юбки. Лиза обнаруживает для себя, что за это время почти отвыкла от ярких платьев, которые носила так долго и так любила. Раньше, когда какой-нибудь купец возвращался из заморских стран на корабле, груженом дорогими тканями, то сначала его отправляли во дворец, чтобы они могли выбрать для себя лучшие и Лиза всегда относилась к этому с особенной серьезностью. Что греха таить – ей всегда нравилось хорошо одеваться. От того больнее было понимать во что превратилась ее жизнь всего за несколько месяцев – та Лиза, которая была модницей, кокеткой, в честь которой организовывали тайные общества, казалось, была ужасно далеким воспоминанием и не более. Пальцы тянутся к приятной на ощупь ткани, перебирая наряды Любавы, в которой нет-нет, но и вспомнишь ту самую себя: энергичную, легкую птичку, жизнь которой проходит в теплице и сказке и от того она и кажется такой беззаботной. Нет, нет, пусть по крайней мере ее жизнь такой и остается – тех потрясений, которые их уже коснулись вполне достаточно. Не нужно страшнее. Не нужно больнее.
Какое же чувств юмора у судьбы и жизни – когда-то это она могла делиться тысячами платьев, оставленных в Петербурге, а теперь делятся с ней. Выглядишь ли ты жалко, Лиза? Конечно выглядишь, ведь какое-то время назад тебе вообще было все равно.
Она заглянет в зеркало, висящее на стене только мельком, ужаснувшись своему виду и гадая, как его вообще переносил Кирилл. «Да, Елизавета Петровна – на первую красавицу Петербурга вы теперь совсем не похожи. Этак, с таким пугалом и в постель не ляжешь…». Лиза вздрагивает, больше в зеркало не глядя, чтобы лишние мысли не забивали голову.
Вокруг нее суетились так, словно она уже давно вошла в эту семью, а не впервые перешагнула порог этого дома почти что ночью, да еще и в таком виде, подозрительно напоминающим девицу, сбежавшую прочь из монастыря. Интересно, если бы знали, что главной причиной всех бед их единственного сына является она – думали бы также? А может они и так догадываются. И эта бескорыстная забота несмотря ни на что подкупает ее, которая успела привыкнуть, что все чего-то хотят, у всех есть тайные намерения, никто не помогает бескорыстно. Тем более никто не помогает бескорыстно людям с короной на голове.
Неудивительно, что он вырос таким, каким она его полюбила.
В такой семье.
— У вас очень красивые платья, Любава Андреевна, — считает своим долгом, наконец, заметить Лиза, разглаживая в руках светло-зеленое платье, на котором они, после долгого обсуждения какое больше подойдет к ее глазам, остановились.
— Красивые, только носить их все равно некуда. За несколько верст только одни Стрешневы.
— Чем же они плохи? — Лиза невольно улыбается, все больше понимая насколько они похожи. Саша бы непременно заметил, что все младшие сестры, которых воспитывают братья одинаково невыносимы.
— Ничем, — пожимает плечами, в карих глазах загораются лукавые, живые, огоньки. — кроме того что графиня ничегошеньки не слышит и у нее совсем нет зубов. На каждое твое слово она кричит: «Что вы сказали, милая?». — кривит красивое лицо в гримасе. — Вам у нас покажется, наверное, ужасно скучно.
Лиза продолжит разглядывать платье, губы тронет грустная улыбка. Возможно, будь ей снова 18-ть, оставь она в Петербурге не только платья, но и брата, беззаботную жизнь цесаревны, она бы даже согласилась. Но не теперь, пожалуй. Если бы можно было остаться здесь с н и м, не подвергая при этом никого опасности одним своим существованием, ей было совершенно не до веселья.
Качает головой.
— Поверьте, Петербург не так уж и хорош. Постоянно дождь, наводнения. И поверьте, при дворе тоже есть глуховатые княгини, — улыбка становится чуть шире. — И их всех требуется ублажать.
— И все же – женихов в столице тоже больше. Здесь на версту найдется может один и то ему будет за 60. В Петербурге не так, — она помолчит, словно собираясь с мыслями, прежде чем решиться. — Я могу спросить? — получив уверенный утвердительный кивок она продолжит. — Вы ведь могли выбрать кого угодно. Князя, принца или даже короля. А выбрали Кирилла.
— Хотите узнать почему? — Лиза мягко улыбнется. — Во-первых… нет, я никогда не могла выбрать кого пожелаю – мы ведь женщины, нам это не дано, пусть мне это и не нравится. Но я хотела этого. Во-вторых, вы сами сказали, что в Петербурге множество мужчин, способных составить пару. Но в том и дело – таких как он, там нет. Нигде нет. Я не узнала бы его, если бы не мой брат, — проглатывает комок, спотыкаясь о последнее слово, предательски спотыкаясь, но не заплачет. — благодаря нему мы познакомились.
Она замолкает, сестра Кирилла тоже. После Любава сожмет ее плечо – аккуратно и мягко.
— Я рада, что Кирилл жив.
Может быть, почувствовав эту предательскую паузу, когда Лиза заговорила о собственном брате. Может просто, заметив изменившееся выражение лица Лизы.
— Да… «Хотя бы один человек, которого я люблю». я тоже.
Она провожает девушку до двери взглядом, прежде чем опуститься на удивительно мягкую постель [даже от этого ты успела отвыкнуть], выдыхает устало. Здесь действительно безопасно, но насколько. Каково это жить, когда само твое существование теперь приносит людям беды? Или жертвы неизбежны? Что делать дальше?
— Для начала… — вслух произносит она. —…придать себе божеский вид. Это ты сделать можешь.
Лиза замирает у входа в столовую, расправляя складки на чистом платье и словно не решается войти. «С каких пор вы стали робеть, Елизавета Петровна? Это вам совершенно не свойственно». И правда. Она не боялась разговаривать с императорами, принцами, канцлерами, не боялась даже смеяться над ними, а теперь робеет перед родителями будущего… жениха? Мужа? Отца своего ребенка? Нет, определенно с этим нужно было что-то делать, но уж точно не теперь.
Лиза постаралась придать своим волосам более или менее божеский вид самостоятельно, позаимствовав у Любавы заколки. Ничего сложного, разумеется, потому что без помощи умелых рук это было сделать невозможно, а просить ухаживать за собой до такой степени она не могла себе позволить. Платье, к счастью, оказалось впору благодаря схожей с Любавой комплекции, хотя стоило бы подумать о том, что еще месяца два-три и ее талия расплывется до тех размеров, над которыми принято посмеиваться или деликатно кашлять, поэтому кто знает сколько еще удастся это скрывать. При дворе Лиза видела беременных жен сановников и высшего света, но не так уж и часто – им был предписан режим жизни уединенный и спокойный, а появляться с беременной на большом сроке на балах и приемах считалось уже чем-то дурным. Замужество почти всегда означало беременность, а иногда и непрекращающуюся. Ходила даже шутка, что «не увидеть эту даму беременной, все одно что не увидеть дождя в Петербурге». Сейчас еще можно было спрятаться за корсетами [впрочем она, слишком беспокоясь о ребенке и толком не зная, как лучше, нарочно выбрала такое платье, которое в этом не нуждается]. В общем – теперь ее вид может и был далек от идеала, но на бродяжку, сбежавшую из монастыря (что было почти правдой), она теперь не походила.
Из столовой, где стоит богато украшенный стол, восхитительно пахнет чем-то мясным и медовым одновременно. Живот напомнит о том, что подкрепиться было бы неплохо. Стоять в дверях было бы уже просто чем-то странным и она осторожно проходит внутрь, вступая в тепло освещенную свечами и камином столовую, где все уже в общем-то готово. Поглядев на Кирилла, который в общем-то не потрудился особенно к ужину наряжаться, Лиза даже расслабилась немного, хотя спина осталась напряженно-ровной, словно она сидит на каком-то царском приеме, причем в гостях. Боже, Лиза, раньше тебе вообще было все равно – все получалось само собой.
Правда, расслабиться все же немного удалось, когда она поняла, что задавать вопросы никто не стремится, все разговаривают так, словно ничего необычного не произошло и становится чуть легче и спокойнее. Ей удается даже поесть, изредка отвечая на чью-нибудь реплику, улыбнуться на чью-то шутку и согреться. Согреться от подогретого пряного вина [домашнего, как ей сказали], от тепла в доме, от того, что опасность притаилась где-то там, за стенами дома, наружи, где гуляет по-зимнему холодный ветер. Она конечно была – но уж точно не здесь. На какое-то время ей даже показалось, что она окончательно растворилась здесь, среди них, стремившихся стать родными всего за несколько часов. И, уличив момент, когда все сосредоточили свое внимание непосредственно на Кирилле и его злоключениях, рассматривает семью, собравшуюся за столом. Удивительно простых, удивительно дружных, с в о и х, наверняка обедающих и ужинающих вместе. Отца, мать, брата и сестру.
Что-то кольнет в груди от этого щемящего чувства. На несколько секунд память переносит за другой стол, к другой семье, которой уже нет, потому что ты осталась одна, по крайней мере так было. Ни отца, который будучи в добром настроении нет-нет, но пошутит или назовет «Лизет» на иностранный манер; ни внимательного взгляда матери, с которой до расставания казалось вовсе близки не были, но которая в случаи необходимости защищала их, ни Саши, потягивающего наливку с насмешливым видом. Ей всегда казалось, что семьи у нее толком не было, но оказывается была и как никогда хорошо это понимаешь, оказываясь в другой семье – куда более конечно дружной и теплой. Неожиданно хорошо осознаешь свое сиротство, так хорошо, что на грудь ложится камень. И, видимо, слишком расчувствовавшись, Лиза предательски пропускает очередную выходку Кирилла, за которую в очередной раз стоило бы его поколотить. А когда встречается с этим весьма решительным взглядом, то все понимает. Но понимает слишком поздно, чтобы попытаться его остановить. Хотя какие-то жалкие попытки она предпринимает, пытаясь ухватить за рукав рубашки и вернуться на место.
Надо было вообще не позволять ему пить.
И нет, не то чтобы Лиза своего положения стыдиться, хотя в таком положении обычно принято стыдить именно женщину, словно мужчина в этом участия не принимал. Но все же, на бы предпочла преподнести это как-нибудь…потом. Не задумываясь о том, что потом они скорее всего уже не будут нуждаться ни в каком сообщении. И все же. И все же не лучшее время обрушивать такое на их головы, свалившись на них посреди ночи, ничего толком не объяснив и…
— Кирюша, может сейчас не лучшее время…
Лучшее время вообще никогда не настанет на самом деле для такого. Все должно было быть совсем иначе. Одно счастливо рассказывать ему об этом, точно зная, что он этого хотел, а другое огорошивать родителей.
Очень хочется теперь найти что-нибудь потяжелее и ударить по голове снова [может это как раз из-за последнего раза в его голове что-то повернулось и он стал таким…решительно ее не слушающим], а после видимо убежать, потому что никто из присутствующих не поймет ее покушений на здоровье старшего сына и брата. Поэтому насильственные наклонности свои придется оставить, оставшись сидеть на месте с натянутой на лицо глупой улыбкой.
Кирилл выглядит так, как будто сделал что-то очень хорошее, да и вообще ничего страшного. А Лиза вдруг, отправив в рот слишком большую порцию мяса с пряностями, закашливается и этот кашель в наступившей тишине звучит еще более неловко. Потому что кроме него никто не произносит ни слова. Она отпивает вина, поворачиваясь к Кириллу с такой особенной улыбкой, которая вообще-то при обычных обстоятельствах должна была пообещать придушить его ночью подушкой, но с мстительными планами придется подождать в любом случае. Замирая с полными щеками еды, которую кое-как запивает она едва ли не давится снова, когда спустя бесконечность этого гнетущего молчания все разражаются такой радостью к которой она не была готова.
Она была готова к упрекам, дальнейшему молчанию, осторожным вопросам, да в общем-то как обычно оборонять и себя и этого ребенка заодно, но удивительно не потребовалось.
«А оказалось все с этим в порядке».
Теперь вместо кашля пришла икота. Да уж, все было очень даже в порядке, если так задуматься и вспомнить все ночи, проведенные вместе. Боже, обычно это она смущала, а не ее.
Теряете хватку, Елизавета Петровна.
— Ох, спасибо…ик! Все очень вкусно…ик! Только я тоже не влезу в корсет такими темпами раньше, чем мне бы этого хотелось… ик! — Лиза находит в себе силы улыбнуться, замечая, что тарелку тем не менее подчистила основательно.
— Ох, корсет в твоем положении вообще не нужен! – по деловому ответствует тем временем Аглая Владимировна, а Лиза только жалко кивает.
В голове все еще вертится множество мыслей, прежде чем ее похолодевшие ладони берет в свои руки мама Кирилла и она хотя бы немного, но успокаивается. «…ты всегда можешь обратиться ко мне. Как к матери».
— И вы не считаете меня…не достойной женщиной, которая приносит… — Лиза пробует подобрать какое-то мягкое слово. —…проблемы?
— Я считаю тебя будущей матерью наших внуков. Этого достаточно.
Лиза долго всматривается в чужие глаза, а после с благодарностью сожмет ее руку в ответ.
— Спасибо. Спасибо вам, я это ценю и… — обернется к Кириллу, уводя бокал с вином прямо из рук. Еще немного и наверняка бы выпил. Мило улыбнется, едва сдерживаясь, чтобы по-детски не ущипнуть или не показать язык. —…мне кажется тебе хватит.
А то мало ли, что еще он собирается рассказать.



Лиза погружается в горячую воду приятно пахнущую травами по плечи, наконец расслабляясь полностью и едва ли не задремав, очнувшись тогда, когда вода плеснула в нос. Рыжие волосы, распущенные снова и свисающие с края ванны, в которой она и не надеялась оказаться [в монастыре удавалось сходить в баню или протирать тело смоченным в воде полотенцем], завьются. От воды идет пар, поднимающийся кверху купальни, а Лизу так разморило, что она даже позволяет себе помечтать о том будут ли у их ребенка ее волосы или его глаза. Помечтать о чем-то таком простом, а не о том, как выжить. Здесь можно было расслабиться хотя бы потому, что никто не хочет похитить ее, следить за ней, выдать замуж или прости господи – убить. Поэтому, она даже не вздрагивает, когда дверь откроется, тем более, что его шаги она узнает с закрытыми глазами.
— А где Вера Дмитриевна? Вы, сударь, и вправду хулиган – мне стоило когда-то вам поверить. Разве я разрешила вам заходить?... — тем не менее совершенно не возражая против его действий, чувствуя, как кожа покрывается мурашками от каждого прикосновение и едва ли от этого не мурлыча. Она слишком расслабилась хотя бы на какое-то время позволив себе стать просто девушкой. Не дамой в беде, не опальной цесаревной. Здесь даже скрываться, кажется не нужно, как было необходимо все это время. Его больше не нужно прятать. И все же, она считает своим долгом хотя бы немного, но возмутиться.
Лиза открывает глаза, отрываясь от спинки ванны, на которой лежала и оборачивается. Кожа посверкивает от пены и капелек воды.
— Как ты мог додуматься сообщить об этом таким образом? — хмурится притворно. — Несносный! — всплеснет руками по воде, обрызгивая и без того непослушные вихры Кирилла. Прячет довольную улыбку, продолжая дурачиться и чувствуя, что наконец может это делать. Для верности продолжит брызгаться еще какое-то время, пока он не перехватит ее руку. Впрочем, она его достаточно теперь намочила. Пальцы переплетаются, а сердце замирает. Взгляд смягчается. — Да, узнали бы. Но сначала обычно сообщают о том, что собираются пожениться, или о том, что любят друг друга, или на худой конец, что ты собираешься за мной ухаживать, а может все вместе, я не знаю, но не все наоборот! А если они решат, что я легкомысленная особа, затащившая тебя в постель? Я хотела бы понравиться твоим родителям, но не так! В общем, я подумаю прощать тебя или нет, — но это, конечно же теперь не всерьез.
Она серьезнеет, слушая его голос, вглядываясь в появившуюся на лице горькую улыбку. Касается влажной от воды ладонью лица, прижимая ее привычным движением к щеке.
— Ты уверен, что нам стоит здесь оставаться? Что мы… что я, — выделяет последнее слово. — не подвергаю твоих родных опасности? Я этого не хочу.
«Как и того, чтобы ты уезжал. Уезжал без меня».
Он целует ее руку, а она окончательно понимает, что он прав. Был прав, когда забрал ее, когда не послушал – потому что просто вообразить, что не увидит его, не почувствует его, не услышит его голоса, было невозможно.
Она задерживает дыхание, когда он оказывается за ее спиной. Теплое дыхание опаляет шею, а перед ее лицом словно по волшебству оказывается кольцо. И она, конечно же сразу узнает это небольшое колечко с ограненным топазом в центре. Саша показал ей его, не говоря для чего оно предназначается, а после она еще долгое время мучила Наташу, которая отказывалась кольцом хвастаться.
Лиза не дышит, разглядывая его на своем пальце, чувствуя, как из груди рвутся слезы и на этот раз она все же не сможет их сдержать.
— Она с тобой говорила… — прошепчут губы, а глаза словно заворожены голубоватым сиянием кольца, оказавшемся теперь ее. Лиза, конечно же все поняла. Возможно поняла даже больше, чем он мог представить. Поняла, что Наташа, которая не была особенно разговорчива с ней на протяжении всего пребывания Лизы в Покровском монастыре, словно избегая ее, говорила с Кириллом. Говорила, чтобы спасти ее, Лизу, потому что Наташа всегда понимала все куда лучше, чем она сама. Поняла, что Наташа отпустила е г о окончательно. Поняла, что Наташа благословила их. — Они должны были быть стать такими счастливыми… Но у них не вышло, — Лиза обернется к нему, не делая попыток снять кольцо, которое когда-то предназначалось другой. — А у нас должно. А мы станем счастливыми, теперь я в это верю. Потому что перед Богом – я твоя, а ты мой. И этого достаточно.
Все просто. Остановись. Вдохни. Прими. Говорят, что брак строится на обещании. Так и есть. Но самые прочные основаны на уверенности, на необъяснимой вере в другого человека.
Все было очень просто.
И все становится не важным, не таким страшным, пока он целует ее, пока он рядом с ней, пока он ж и в.
— Я дам тебе десять тысяч поцелуев. Все десять тысяч. Никто и никогда не будет целовать тебя, кроме меня, — она улыбается широко в ответ на этот лукавый взгляд, протягивая руки, обхватывая его за шею, чтобы он помог ей выбраться из ванны.
Знать бы только, что никогда такое страшное слово. И такое предательски обманчивое.
***
Лиза конечно чувствовала, что он ушел – она вообще всегда это чувствовала, чувствовала эту предательскую пустоту рядом, но была так вымотана, что даже не открыла глаз, позволив сну снова завладеть сознанием. Она провалилась в сон без каких-то сновидений сразу же, как голова коснулась подушки – то ли ванна смогла так ее расслабить, то ли дорога и переживания в конце концов дали о себе знать. Сквозь сон она ощущала его надежные, крепкие объятия, льнула к чужой груди как маленький ребенок – они оба слишком устали даже для близости, которой может быть им и хотелось, но на которую у них попросту не было сил. Сквозь сон она чувствовала, как он то и дело ворочается, сама же Лиза оказывалась надежно убаюкана теплом и спокойствием, вот и спала ни разу не просыпаясь.
Она проснулась от его же прикосновений, точно зная, что это он даже находясь где-то между сном и бодрствованием. Лиза приоткрывает глаза, смаргивая остатки такого блаженного сна и к своему удовольствию отмечая, что ее самый сладкий сон вовсе не сон, а явь – сидит рядом осторожно убирая с лица непослушные волосы. Она сонно улыбается, сладко потягиваясь, открывает глаза шире, фокусируя взгляд на его лице и, наконец, замечая и его бледность, встревоженность. Да что там – едва ли Кирилл теперь не плакал, а уж его плачущим она не видела никогда.
Сердце тревожно забьется в груди, а дыхание становится прерывистым. Блаженная улыбка беззаботности спадает с губ, оставляя на лице выражение растерянности. Что происходит? Необходимо бежать? Вот так, в одной сорочке. Их обнаружили?
— Кирилл? Что случилось? — собственный хриплый голос Лиза почти не узнает, приподнимаясь на подушках, поджимая под себя ноги и инстинктивно обхватывая руками еще не появившийся живот. — Нас нашли? На тебе лица нет! — она и сама готова задрожать, пока перебирает в голове возможные причины такого его поведения.
А после ей кажется, что она падает. Новость оглушает, одно слово «свободны» после которого она сразу же все поняла, оглушает. Лиза неверящим, стеклянным взглядом всматривается в его просветленное, такое трогательное лицо, в поисках вероятного подвоха. Возможно Лиза ждет, что вот-вот проснется и хорошо теперь, если проснется на том же самом месте, а не в монастырской келье, потому что происходящее теперь уж точно больше напоминало сон – а кто знает, сколько ты спала? И правда ли Кирилл ж и в? Но чем больше всматриваешься в него, тем больше понимаешь, что все правда.
«Спроси меня еще раз» - звучит в голове собственный голос, звучат в голове собственные слезы.
Оспы и любви мало кому удается избежать – такая жестокая ходила поговорка.
Даже если ты император.
Лиза набирает в грудь побольше воздуха, мотает головой – дрожь от него теперь передается и ей, но она находит в себе силы поймать его руку, сжимая до побеления в костяшках пальцев.
Свободны – какое удивительно сладкое слово. Впрочем, ты всегда стремилась к этому слову, как стремится любая птица, пойманная в клетку, но мечтающая о поднебесье, в котором парила.
Свободны – свободны любить, свободны от страха смерти и постоянной погони, свободны в конце концов быть вместе.
Свободны, свободны, свободны – это стучит в голове колоколом, все мысли напрочь выветриваются из головы.
Жестоко радоваться чьей-то смерти. И однажды, чуть позже, она возможно постарается отдать хоть какую-то дань уважения человеку, который может и принес столько проблем и горя, но которого ты знала всю жизнь и который не всегда был исчадием ада для тебя. Еще один человек из твоей прошлой жизни канул в небытие – кажется теперь, кроме Нади, которая, впрочем теперь будет где-то за границей, никого и не осталось.
Лиза тянет тонкие руки к нему, как малый ребенок, которому необходима ласка и защита. Она не замечает даже, как скатываются одна за другой по щекам горячие слезы, подставляя лицо, шею под его такие нежные, такие желанные поцелуи.
— Боже, все закончилось, так? Ты ведь уверен, Кирюша? Ты уверен, что все закончилось? — всматривается в его лицо с такой безумной надеждой, что пожалуй теперь ему будет очень трудно будет забрать свои слова обратно. — Господи, не могу поверить, я могу остаться с тобой. Я могу быть твоей и не прятаться, Кирюша! — она смеется сквозь слезы удивительно чистым смехом, запуская руку в его волосы, ласково перебирая пальцами любимые вихры чувствуя, как тепло разливается по телу пока он так трепетно прижимается губами к животу.
Они победили.
Теперь, конечно же все будет по-другому.
Так?
Лиза плотнее кутается в теплый платок, наброшенный на плечи, вглядываясь в постепенно светлеющий горизонт – солнце вот-вот должно появиться, освещая песчаный берег залива, пусть и не давая теперь тепла. Дыхание зимы уже не просто близко – зима стоит на пороге, общая кому-то вечный покой, кому-то передышку. Солнечные лучи освещают узкую полоску берега, испещренного чужими следами. Встав так рано даже для себя ей не придумалось ничего лучше, по старой привычке, тихонько ушмыгнуть из не до конца проснувшейся еще усадьбы, оказавшись в итоге здесь, на берегу, встречать рассвет, выдыхая полной грудью студеный влажный воздух. Она проводила взглядом угасающие звезды, вспомнив их названия, а теперь подставляла лицо солнцу, обещавшему сегодня ясный день.
Первый рассвет твоей свободной жизни.
Лизе кажется, что за спиной снова начали расти крылья, которые все так старательно пытались подрезать.
Она нарочно пришла сюда, чтобы наконец поверить в то, что теперь все будет иначе по-настоящему. Что теперь нет нужды скрываться и оборачиваться, видеть в каждом прохожем у окон возможного шпиона. Нет нужды жертвовать. От того простой восход солнца и ощущался по-другому. Наверное, стоило сказать Кириллу, когда уходила с утра, но она, осторожно выскальзывая из теплый объятий, так и не решилась его разбудить, любуясь теперь уже со своей стороны такими спокойными, разгладившимися во сне чертами лица. К тому же он и так в последнее время спит так беспокойно, а теперь, когда он заснул не просыпаясь и не вздрагивая от каких-то своих плохих сновидений – как она могла нарушить этот покой? Нет, Лиза какое-то время лежала неподвижно, положив под голову ладонь, любуясь им, осторожно поглаживая волосы так, чтобы его не побеспокоить. В конце концов, даже если он проснется не может же он подумать, что она сбежала, да еще и в таком виде [едва ли Лиза потрудилась одеться подобающе для какой-либо дороги, ограничившись только теплыми чулками и платком]. Как бы там ни было была еще одна причина, почему она встала так рано и больше не могла заснуть кроме желания встретить новый рассвет своей жизни.
Глаза всматриваются в горизонт, слезятся то ли от холода наступающей зимы, то ли от яркого света, расстилающегося по воде. В Березово и вправду спокойно, здесь почти что рай, если хочешь укрыться или забыться. И Лиза даже не сомневается, что стоит остаться здесь, что именно в таком месте и стоит растить детей – подальше, подальше от Петербурга или Москвы, подальше от интриг, распрей и этого д у р н о г о воздуха. Конечно, но Петербург ей все равно снится. И не только Петербург.
Лиза ежится, жалея о том, что вновь понадеявшись на свое непробиваемое здоровье не надела что-то потеплее. Но холод заставляет немного успокоиться.
Ей снился Саша. Впервые за долгое время он снился ей. Он не снился ей даже после своей смерти, как бы ей не хотелось его увидеть в то время. Нет, ей и теперь хотелось его увидеть, рассказать ему о том, что любит Кирилла и признать, что тот был прав [в конце концов Саша так любил, когда это признавали], вновь и вновь извиняться за слова, сказанные в порыве гнева, рассказать о ребенке, сказать, как она скучает. Но мертвые на то и мертвые, чтобы не беспокоить живых. Тем не менее в эту ночь он ей, наконец, приснился. Но во сне Лиза толком и не могла ничего ему сказать – они стояли друг напротив друга, а позади сверкали шпили Петропавловской крепости. После она поняла, что стоит на палубе корабля очень похожего на «Звезду Петра». Они стояли и смотрели друг на друга, он не произносил ни слова, просто печально улыбался, а ей что-то не давало подойти ближе, обнять его.
«Саша!» - она зачем-то кричит в этом сне, словно между ней и братом стена, невидимая, но перекрывающая слова. Он ее словно не слышит, как бы она не кричала. «Саша! Что мне делать?» - зачем-то спрашивает она, а он все смотрит ей в глаза, то ли в очередной раз прощаясь, то ли желая что-то сказать.
А после, отворачиваясь, он показывал рукой куда-то в сторону набережной, на которой должен стоять дворец. И когда она проследит за этим указующим жестом, то в ужасе поймет, что дворец полыхает. Кроваво-красные отблески пламени ложились на воду, всполохи пугающие пробегали по лицу, страшные тени игрались в пятнашки на палубе. Удивительно, как она сразу не заметила такого пожара? Кажется, что пламя касается лица – такой жар исходит отовсюду. Кажется, что и сам корабль теперь горит и она в отчаянье снова поворачивается к брату:
«Саша, нужно потушить огонь, нужно спасти корабль, мы же погибнем!».
И его голос – мягкий, печальный голос отвечает:
«Нет покоя голове в венце, верно, Светлячок?».
А после, она остается на палубе одна, понимая, что все это время так крепко сжимала штурвал невесть откуда взявшийся [чего только во сне, собственно говоря не происходит, верно?], что ладони побелели. Пожара нет более, только Нева лениво облизывает борта корабля, ударяясь волнами в деревянную обшивку. Дворец – другой дворец, покрытый золотом и выкрашенный в бирюзу, а не охру смотрит на нее своими окнами. Она его не узнает, но чувствует, что штурвал отпускать нельзя. Во сне она не знает почему – просто что-то подсказывает.
А потом туман – густой и плотный окутывает все вокруг и она просыпается с бешено колотящимся сердцем. И даже после пробуждения ей кажется, что жар пожара все еще опаляет щеки, а взгляд брата практически преследует. Сон казался таким реальным, что успокоиться она смогла спустя какое-то время, наблюдая за Кириллом и унимая сердцебиение.
В итоге Лиза оказывается здесь, на берегу залива удивительно безмятежного, упорхнув от таких непонятных и тревожных снов, где до нее пытались что-то донести, она почти не сомневается, но что? Холодный воздух, близость к воде и солнечный свет постепенно успокаивают, вновь заставляя поверить, что все в порядке. Ее рассвет новой жизни не в силах омрачить такие сновидения, но подумать в одиночестве она, видимо была обязана. Остается много чего нерешенного – ее побег из монастыря, их дальнейшая жизнь, стоит ли говорить, что она жива, а не канула в небытие, умерев в какой-нибудь канаве и… и кому захотят теперь отдать престол? Вряд ли Вася, сжираемый болезнью, оставил завещание. Раньше все было проще – старший по линии. Но отец никогда не искал простых путей.
Лиза усмехается, прикрывая глаза, выдыхая, поглаживая надежной скрытый тканью живот. И почему просто нельзя порадоваться, не оглядываясь, не задумываясь о призрачном долге? Нет, это ее рассвет, ее свободный рассвет. Она слишком долго его ждала, чтобы теперь от него отказываться.
Открывает глаза, осознавая, что окончательно замерзла и поспешит к усадьбе, приветливо замигавшей окнами и дымком из печи. Пора возвращаться д о м о й.
Солнце за спиной забрезжит окончательно кроваво-красным рассветом.
Но она уже не заметит.
***
—…ай, напугал! — Лиза резко оборачивается, как только кто-то подходит сзади так быстро, словно как минимум собирается напасть. Руки в муке пробороздят по рубашке, а она сама представляет собой вид еще куда более нелепый, чем выпачканный в белой пшеничной муке Кирилл, который так стремительно подкрался к ней, увлеченной процессом готовки настолько, что потеряла всякую бдительность.
Лиза шмыгает носом, вытирает его ребром ладони, разумеется мгновенно пачкаясь снова и становясь еще забавнее.
Здесь, на кухне, до которой она добралась идя исключительно на запах теплого хлеба и сладкого тепло, пахнет готовящейся [пригоревшей, разумеется] тыквенной кашей, корочкой от яблочного пирога и сливками. Спать ей уже все равно не хотелось, а выпив здесь чаю, ее нет-нет, но и заинтересовал процесс готовки, который на первый взгляд не показался чем-то через чур тяжелым. Она – истинная дочь своего отца, которому непременно нужно было все попробовать своими руками за какое бы дело ему не захотелось взяться: выдернуть зуб, построить корабль, напечатать страницу газеты и т.д. Не важно, что при этом получалось не все. И стоит признать, что первый блин вышел комом в прямом и переносном смысле слова. Немудрено, конечно, учитывая, что на кухню дворцовую они никогда и не спускались – разве что в детстве, играя в прятки и прячась за огромными мешками с крупой или яблоками. Пища всегда была готова к сроку, а каким образом ее мало волновало, а теперь выясняется, что если бы Кириллу посчастливилось жить только на ее кулинарных способностях, он бы, наверное, протянул ноги. Ее раззадорили, заявив, что для того, чтобы блин перевернуть «нужна решительность». Лиза, разумеется сразу сказала, что она «решительна», но первый блин оказался где-то на полу, а она оказалась недостаточно решительной, видимо. Или же переборщила. Так или иначе не признаваться же теперь было в поражении и она, находясь в каком-то давно забытом веселом настроении согласилась присмотреть [сама изъявила через чур самоуверенное желание] за оставшимися на печи горшочками со злосчастной кашей, пока те, кто разбирается в готовке гораздо лучше Лизы, сходят за свежими яйцами.
Воевала она с горшками и ухватами так, как воевать должен был бы какой русский офицер с басурманами. Но, как оказывалось если ты талантлива в танцах, иностранных языках, литературе и философии [а также астрономии и географии], это совершенно не означает, что тебе удастся приготовить сносный обед. Или завтрак. Что же – батюшка выучился строить корабли, так неужели она не справится с простой кашей и парой блинов? Сама погляди, Лиза, ты будто муку-то впервые увидела, за такое короткое время превратив все вокруг в сплошное «мучное побоище». От того веселее становится, что Кирилл так неожиданно в кухне оказавшийся застал тебя в таком виде.
— Что ты здесь делаешь? — легонько касается его носа, привставая на цыпочки, пачкая его лицо в муке безбожно. — Почему у тебя такое лицо напуганное, словно призрака увидел?... Стой, — взгляд становится совсем мягким, когда она понимает в чем, собственно дело. — ты меня все таки потерял… — продолжает вглядываться в это бледное лицо [твое белое от муки]. Вглядывается и понимает, окончательно вдруг понимает, что все волнения о высоком, долге, о том что д о л ж н а возможно взять на себя какую-то теперь ответственность тают. Понимает, что весь ее долг начинается и заканчивается здесь и она ничего не может с этим поделать, пока он так на нее смотрит, потеряв ее прямо с утра.
— Прости-прости, я не хотела тебя будить, а ты так крепко спал, впервые за это время… К тому же, какой вы глупый, Кирилл Андреевич, куда я по-твоему могу уйти отсюда не надев нормального платья? Или я по твоему по небу летаю? — усмехается, щелкая его по носу и отворачиваясь обратно к своим несчастным подопытным – каше, да блинам. — Вы не поверите, впрочем – я решила, что было бы неплохо научиться…готовить. Вот и задержалась здесь. Посмотрим… — приподнимает крышку над кашей, от которой пахнет весьма подозрительно, кладет несчастную в тарелку с таким видом, словно здесь лучшее творение кулинарного искусства, а сама мысленно обещает себе при случае никогда не критиковать еду. Бедный их повар, сколько всего выслушивал. Но, по секрету ей сказали здесь же, на кухне усадьбы, что если уж муж хороший и жену любит, то стряпню ее точно съест.
— Ты должен попробовать и сказать, что думаешь! — садится напротив за грубо сколоченный кухонный стол, очевидно собираясь наблюдать за тем, как он старательно будет изображать, что это съедобно. Подпирает рукой голову, в глазах затаится чертенок, который казалось давно был из них изгнан. Если так подумать, он, как и она сама, наверное, успел забыть ее т а к о й. Их такими. — Ешь, а я расскажу, где я была.
Здесь так тепло, никто отчего-то не торопится возвращаться с яйцами от наседок, словно действительно решив оставить в этот утренний час их одних.
[float=left] [/float]— Ходила к заливу. Это первый день, когда мы… свободны, — голос дрогнет, но она продолжит. — Я не хочу знать, какой ценой, но это так. Мне хотелось почувствовать это, понимаешь? Ночью мне снился Саша, — она не отрывает взгляда от его лица, прямого, открытого. — Он раньше никогда мне не снился, а сегодня приснился. И единственное, что он мне сказал была фраза, это из Шекспира, ты должен знать это из «Генриха iv». «…и нет покоя голове в венце», — последние строчки, как оказывается [она это видит по его взгляду]. Хочется допытаться, хочется узнать когда Саша говорил ему эти слова, но она удерживается – в конце концов он бы рассказал. — Странно, правда? Сон был таким реалистичным, в нем горел дворец, все горело. Конечно же больше я уснуть не могла вот и пошла прогуляться. Кирилл, а если это не просто сон?… Я понимаю-понимаю, — ее речь ускоряется, словно она сама пытается отогнать от себя такую нерациональную мысль о реальности сновидений. — понимаю, что это глупо, но… Я тебе не говорила, но после смерти Саши, когда тебя еще не было, перед объявлением наследника, ко мне приходили и… говорили, что престол могу занять я, — воспоминаниях о тех временах все еще болезненны. — в то время я конечно же отказалась. Это было безумием – захват власти, к тому же многие были против. А я не хотела крови, а Саша так ничего и не оставил… — показалось ли ей, или по его лицу пробегает тень, значение которой ей не разобрать. — Кирилл, а если теперь они придут снова? И попросят меня о том же? Я думала о том должна ли я согласиться или отказаться. Это мой долг или нет? И я, наконец, поняла, — еще немного и аппетита у него не будет совершенно.
[/float]— Ходила к заливу. Это первый день, когда мы… свободны, — голос дрогнет, но она продолжит. — Я не хочу знать, какой ценой, но это так. Мне хотелось почувствовать это, понимаешь? Ночью мне снился Саша, — она не отрывает взгляда от его лица, прямого, открытого. — Он раньше никогда мне не снился, а сегодня приснился. И единственное, что он мне сказал была фраза, это из Шекспира, ты должен знать это из «Генриха iv». «…и нет покоя голове в венце», — последние строчки, как оказывается [она это видит по его взгляду]. Хочется допытаться, хочется узнать когда Саша говорил ему эти слова, но она удерживается – в конце концов он бы рассказал. — Странно, правда? Сон был таким реалистичным, в нем горел дворец, все горело. Конечно же больше я уснуть не могла вот и пошла прогуляться. Кирилл, а если это не просто сон?… Я понимаю-понимаю, — ее речь ускоряется, словно она сама пытается отогнать от себя такую нерациональную мысль о реальности сновидений. — понимаю, что это глупо, но… Я тебе не говорила, но после смерти Саши, когда тебя еще не было, перед объявлением наследника, ко мне приходили и… говорили, что престол могу занять я, — воспоминаниях о тех временах все еще болезненны. — в то время я конечно же отказалась. Это было безумием – захват власти, к тому же многие были против. А я не хотела крови, а Саша так ничего и не оставил… — показалось ли ей, или по его лицу пробегает тень, значение которой ей не разобрать. — Кирилл, а если теперь они придут снова? И попросят меня о том же? Я думала о том должна ли я согласиться или отказаться. Это мой долг или нет? И я, наконец, поняла, — еще немного и аппетита у него не будет совершенно.
Огонь в догорающей печи весело потрескивает. Она выпрямляет спину, пододвигает стул совсем близко к нему, таким образом касаясь его коленей своими.
— Знаешь, так странно. Всю жизнь с сознательного своего возраста я мечтала сделать что-то значимое. Стать великой, как отец. Доказать, что женщину могут так называть в конце концов, объездить мир, показать себя, пусть это позволено только вам, мужчинам, не спорь, — легко улыбается, качая головой. — Удел любой девушки удачно выйти замуж. А мне с детства говорили, что удел любой царевны создать удачный союз. И это поверь мне разные вещи. Женщины в императорских семьях нужны ради союзов, а мне никогда это не нравилось. Я верила, что предназначена для чего-то большего. А сейчас… — придает лицу еще большей загадочности, помолчит и разулыбается. —….а сейчас я сижу на кухне, а ты сидишь напротив меня живой и здоровый и ешь мою отвратительную стряпню, а я и не представляла, что это может стать пределом мечтаний, — накрывает своей, нагретой теплом кухни ладонью его руку, заглядывает в лицо, становясь чуть серьезнее, но все еще улыбаясь одними уголками губ.
— Я думала, что влюбилась в Кречетова, а на самом деле влюбилась в образ, который выдумала, в образ рыцаря без страха и упрека, как в романе Мэлори. Le Chevalier suns peur et sans reproche, — французский звучит как обычно мягко и певуче. Она вставляет его даже не задумываясь. — А этим рыцарем был ты. Я тебя нашла, а все мои амбиции, весь мой долг теперь, заключен здесь, — тянется за его рукой, уже привычной и приятной тяжестью опустив ее на свой живот. — поэтому, если они приедут – я скажу «нет». Я не хочу ничего больше, так что… — Лиза снова перестает быть серьезной, забирая у него из рук несчастную ложку каши и отправляя в собственный рот. Закашливается, отплевывается состраивая удивительно забавную гримасу отвращения. —…какая гадость зачем ты это ел, скажи мне? Боюсь, если ты все еще хочешь на мне жениться тебе придется найти прислугу. Я безнадежна! Нет не ешь больше, я приказываю в конце концов! — она выхватывает из под носа тарелку, смеется звонким заливистым смехом, таким легким и казалось бы потерянном, усаживаясь ему на колени.
На сердце вдруг стало удивительно легко: ни преград, ни недоразумений, ни обид — только они вдвоем. И больше вроде бы никого не нужно.
— Как бы там ни было… Я хочу написать два письма. Одно отправлю крестной в Покровский – не хочу, чтобы она считала меня мертвой падшей женщиной. Пусть считает просто падшей, — Лиза усмехается. — а второе в Петербург, мальчикам. Они, наверное с ума сходят, да и я так давно их не видела еще дольше, чем тебя… — ловит это неповторимое выражение лица, словно он вот-вот хочет возмутиться. — Что это за лицо такое? Ты же не… Боже, немедленно перестань – это все одно, что ревновать к Саше, они моя семья! Это ни со мной не связано, ни с логикой! Мерзость какая! Дурачок! — Лиза ловко соскакивает с его колен, быстрой пташкой возвращаясь к столу и не особенно долго думая сдувая муку на его лицо и волосы. Грех конечно с едой играть, но что поделать если она счастлива. — «Жадина-говядина не делится ни с кем. Пусть и несъедобное - всё равно я съем!» — пританцовывает вокруг стола, не давая себя поймать и бессовестно показывая язык, выкрикивая на распев старую детскую дразнилку.
Солнце окончательно зальет комнаты утренним мягким светом. Холодное зимнее солнце. Но в доме все еще тепло.


I f e e l y o u h o l d i n g m e t i g h t e r
I c a n n o t s e e w h e n w i l l w e f i n a l l y
Breathe
— Мальчики мои! — вырвется радостно, как только они спрыгнут с лошадей. Лиза, не взирая ни на то, что вообще-то это не особенно и прилично [когда ее это так уж интересовало?], ни на то что в ее положении принято только медленно расхаживать по двору [что же теперь всем беременным в ее положении на одном месте сидеть, все одно что больным или прокаженным], несется к ним, раскрывая руки и падая в объятия сразу к трем. Иные, кто не разбирается в тонкостях ее взаимоотношений с собственными пажами, усмотрит в этом нечто предрассудительное, но для Лизы эти кучерявые [кроме Семена] юноши, которые выросли вместе с ней, принимали тумаки за ее проделки, кого она шутливо посвящала в свои рыцари, все одно что последний осколок былой и безвозвратно утраченной жизни.
За то время, за которое она не видела их, они, казалось, повзрослели и изменились, впрочем, как и она сама, видимо. От них пахнет дальней дорогой и холодом – лица покрыты дорожной пылью и стоило бы догадаться, что как только они получили от нее письмо с ее местонахождением, то вряд ли долго раздумывали пусть теперь мало чем ей были обязаны. И об этом ей тоже нужно было им сообщить – вряд ли теперь она могла что-то для них сделать, находясь вне дворца и вне двора, а следовательно им нужно было поступать на иную службу. Но сейчас Лиза была слишком увлечена их встречей, чтобы сразу огорошить всем, что приключилось с ней.
— Паша, Матвей, Семен! — она с какой-то гордостью оглядывает их – все разумеется намного выше нее из-за чего приходится задирать голову. — Как я рада вас видеть! Как вы добрались, где остановились? Как Варя, вы видели ее, говорили?
И тут на нее буквально обрушивается град самых разнообразных новостей, произнесенных на несколько голосов сразу: тут тебе и престарелая графиня, которая под старость лет совсем потеряла разум и сбежала с любовником-итальянцем за границу, прихватив с собой все драгоценности и оставив мужа-простофилю ни с чем, салюты в Петербурге, зачинщиков которых все еще ищут, потому что посчитали это нарушением траура, опала пары родовитых семей, которые имели вес и могли бы-де совершить бунт. С Варей все вроде бы хорошо, они с отцом в Остафьего обретаются пока при дворе не установится хотя бы маломальский покой, потому что князь рисковать не хочет лишний раз появляясь во дворце. Ходят также слухи, что после смерти нынешнего императора столицу вновь перенесут в Петербург, чему тот несказанно рад, считая, что Первопрестольная этот статус забрала себе совершенно несправедливо и то по причине умственной слабости предыдущего императора.
Все это они выговаривают быстро, перебивая один другого – новости, сплетни, слухи, приказы, которые она, находясь в такой глуши конечно же пропустила. От них веет духом столицы – модной, шумной и изящной. Вместе с собой они принесли этот ветер сюда и словно бы и сюда пытаясь привнести эту чужеродную для этих краев атмосферу.
Лиза оборачивается к Кириллу, уже как-то инстинктивно находя чужую руку. Возможно, такую толпу молодых, оголтелых слегка юношей и не стоило приглашать сюда, тем самым обременяя людей, которым и так была обязана слишком многим, но увы, более приглашать их было попросту некуда, а томить их неведением относительно своего положения или встречаться на каком-нибудь постоялом дворе было немыслимо и неправильное. Постоялый двор забраковал бы сам Кирилл, в конце концов. К тому же за своих пажей Лиза всегда ручалась, да и так или иначе все были с ними знакомы благодаря тому визиту в столицу. По крайней мере лишний раз пообщаться со своими сверстниками была не против не только сама Лиза, но и Любава. А против сразу двух молодых женщин никто протестовать не может.
Лиза берет под руки своих извечных кавалеров, вспоминая, что все таки их можно сказать шеф.
— Ладно, идемте хотя бы умоетесь с дороги и все мне расскажите по порядку! А я расскажу многое вам, — через плечо, отпуская руку Кирилла состроит ему умилительную гримасу, мол «потерпи», после они шумной, веселой и все еще на самом деле молодой компанией идут согреваться и делиться новостями.
***
—…так наследника престола выбрали?
Они сидят за одним столом, тесной компанией, в которую теперь ко всему прочему входит и Кирилл [ты будто боишься оставить меня с ними наедине, ей богу] и Любава. Странно щемит грудь – раньше точно также собирались они в маленькой, но уютной гостиной вместе с Сашей, Наташей, которая вечно делала вид, что ее не интересуют столь несерьезные занятия, но на самом деле всегда в таких собраниях участвовала, Надя, застенчиво улыбающаяся где-нибудь в уголке, да даже Вася. Теперь же все изменилось – люди уходят и приходят.
— Да, а вы еще не знаете? Новости доходят до сюда медленнее, чем мы думали, — Паша вздыхает, отставляя так заботливо принесенную им еду в сторону и складывая руки перед собой. — Народу объявили, что престол вновь переходит к династии вашего батюшки. Василий Борисович не оставил завещания или наследников. Новой наследницей объявили вашу двоюродную сестру, Софью Михайловну.
Лизе показалось, что она ослышалась еще тогда, когда он сказал «наследницу», потому что она всегда была убеждена, что женщин на престоле не потерпят те, кому так или иначе постоянно приходилось решать эти вопросы. Строго говоря потому, что это вечно были мужчины. В прошлый раз ее кандидатура не устроила многих именно потому, что она ж е н щ и н а, но почему теперь никого не смутил тот факт, что на трон взойдет женщина. Да и какая?
«Нет, Лиза, разве же теперь должно тебя это волновать, когда ты недавно сама сообщила, что если бы тебе предложили – ты бы непременно отказалась?».
Но теперь видно выходит, что никто и не собирался это делать.
Снова внезапно вспоминается Саша, смотрящий на нее так грустно, словно снова и снова прощается. Словно отпускает ее, но понимает, что это, возможно, ошибка.
Они видимо замечают ее растерянное выражение лица, которое она никак не могла скрыть, ожидая, что династия вновь сменится или по крайней мере, что сановники вспомнят о сыновьях ее сестер, которые имеют ограниченные претензии на трон других государств.
— Вы знаете будущую императрицу, Ваше Высочество?
Называть ее так они, конечно привыкли. Она никакое теперь не высочество, о ней так удачно забыли и Лиза полагала, что смирилась с этим и даже рада этому. Но где-то в глубине души что-то кольнет, как маленькой острой иголкой.
— Нет… — глаза находят Кирилла, Лиза растерянно покачает головой, глядя на него и словно ища то ли ответов на свои вопросы, то ли поддержки. Выбор все еще не казался ей хоть сколько-нибудь очевидным. А она-то тревожилась о том, какими словами отваживать послов от своей персоны. А оно вон оно как. —…нет, мы никогда не встречались прежде. Софья намного старше меня и после свадьбы она безвыездно жила в их с мужем имении вдовой. Батюшка разве что был на ее свадьбе, но батюшка в принципе любил свадьбы и с молодости говорят любил завалиться к кому-нибудь из бояр в качестве свата. Эти обычаи были ему любы… Но боюсь, что со своей кузиной я никогда не встречалась.
Не встречалась она и со своим дядькой, который умер еще до ее рождения и говорят не отличался умом, из-за своего недуга в итоге подписав отречение в пользу брата младшего. Отец никогда не был близком с братом, ровно как и с его детьми, позаботившись только об их свадьбах, да и видимо забыв. Лиза даже не знает толком от чего Софья теперь вдова, как она выглядит в конце концов и какова из себя. Да, в ее семье, как она и говорила Кириллу родственные связи были весьма хрупкими, а женщина просто должна была обеспечить полезный союз. Насколько был полезен союз Софьи она не знала. К своему стыду Лиза понимает, что до этого момента ее вообще мало интересовала жизнь собственной сестры и она даже примерно не представляла себе как живет ее родня. Ходили, разумеется, слухи, что родня с той стороны недолюбливает родню ее отца, потому что та захватила причитающиеся привилегии. Но разве были Лизе, в ее обычной беззаботности, интересны семейные распри? И уж тем более вряд ли ей было известно насколько хорошей правительницей та станет? Должна ли она об этом беспокоиться, ее ли это теперь ответственность, разве не сказала она, что ее единственная ответственность это ребенок и их будущий брак? Не ты ли, Лиза, так устала от распрей и вечной погони раз задумываешься над этим?
— Неужели вы не вернетесь? — вдруг прорезает сознание знакомый голос.
Лиза вздрагивает, встречаясь глазами с Семеном, который смотрит прямо на нее, не обращая внимания на предостерегающие жесты Паши, сбрасывая с плеча его руку. В светлых глазах загорается знакомый ей упрямый огонек. И что-то еще. Горечь? Угасающая надежда на что-то, чего она не замечала или не хотела замечать? Надежда на то, что ты, Лиза, на сияющем коне ворвешься в столицу и конечно же потребуешь свою корону. Свою ли?
— Сема… — вырывается собственное жалкое и усталое.
Нет, не вернется. В очередной раз мечась между этими двумя стульями в какой-то момент начиная сомневаться в своих решениях, ей стоит только представить очередную борьбу, на которую не хватит сил, очередные потери, от которых становится страшно и больно и хочется разве что только закричать: «Хватит! Довольно!».
— Это же ваше место, ваше право! И поверьте – так думаем не только мы, так половина Петербурга считает! Сходите в казармы, спросите. Елизавета Петровна – ждут вас, а не неизвестную императрицу, которую хотят посадить на трон «верховники»! — он говорит так горячо и убедительно, что становится страшно.
— Лучше бы они так не говорили, — с горечью прерывает Лиза, поднимая руку и морщась словно от головной боли. — И тебе не советую. Такие разговоры – это измена. А я не хочу и никогда не хотела подобного. К тому же… — голос смягчается лицо светлеет. Лиза тянется к Кириллу, сидя на своем месте. С гордостью вытянет вторую руку, на которой красуется кольцо . —…если я и вернусь в столицу, то не ради трона. Кирилл Андреевич сделал мне предложение. И… еще, я должна вам рассказать главное. Я жду ребенка.
Едва ли их реакция чем-то отличалась от реакции родителей Кирилла в первые несколько бесконечных секунд, но теперь Лиза уже не особенно переживала. Потому как спустя эти мгновения осознания, все вскакивают, начиная поздравлять их наперебой, возбужденные и радостные, ошеломленные такими новостями, которые, как мгновенно сообщил Матвей: «По важности своей уж наверняка перебивают новости о нашей императрице!». Лиза хохочет, улыбается, а душа, которую разбередили новостями из Петербурга, кажется, хотя бы немного, но успокаивается.
Семен, конечно, тоже поздравляет их, как зачарованный глядя на кольцо на ее пальце и по его лицу сложно понять о чем он думает теперь. Да и Семен об этом конечно же не скажет, пригвожденный к своему месту, оставаясь неподвижным. С ее руки, на котором блестит предательски кольцо, надетое кем-то д р у г и м [разве Паша не повторял тебе каждый божий день, что о своих чувствах относительно цесаревны следует забыть, как и о том, чтобы желать того, что никогда не будет твоим? Но Пашка всегда умничает], взгляд переводит на лицо Волконского, такого счастливого и довольного, которому, конечно повезло. Она его любит – любит настолько, что и не замечает вовсе какой опасной становится эта любовь. Каждый раз, когда Семен пытался убедить себя, что следует ее отпустить, раз она счастлива, следует быть счастливым тоже, столько же раз натыкался на вещи совершенно обратные. Каждый раз она рисковала собой из-за него. И даже теперь…И даже теперь.
— Так вы из-за того… — выговаривает он, прожигая в лице Кирилла дыру. — …из-за этого хотели постричься в монахини. Вся столица шумела об этом, а в итоге вы могли принести себя в жертву, потому что остались без защиты! И это, сударь, снова, из-за вас? — лицо покрывает каменная маска, но едва ли теперь они не близки к тому, чтобы не просто рассорится в очередной раз, но и устроить здесь драку. В доме Волконского. — Словно случая с пулей было недостаточно. Сколько еще вы будете подвергать ее опасности?
Возможно, не все присутствующие здесь вообще в курсе событий, которые произошли не так уж давно. Не все видели шрам на ее плече, который предназначался другому, потому что это долг мужчины пули ловить собой.
И, когда еще немного и должна была произойти совсем уж отвратительная сцена, между ними буквально возникает Елизавета Петровна. Где-то позади маячат фигуры Матвея и Саши. Тоже мне, друзья.
— Прекратите! Я сказала прекратите о б а! — ее голос прорезает стоячий от напряжения внезапного воздух, вновь напоминает повеление. — Я не хочу, чтобы наша встреча окончилась так. Ясно? Семен, — она повернется к нему, зеленые глаза упрямо блеснут. — я не настолько беззащитна. Я не могу вечно полагаться на защиту мужчины и иногда и сама могу кого-то защитить. Кирилл, — обращается к своему теперь жениху? — не делай такое лицо, как будто собираешься его ударить! И…идемте гулять, вот что! Сегодня снова светит солнце и я хочу гулять. Мне полезно! Помиритесь немедленно – дорогие мне люди не должны ссорится. Миритесь! — она повышает голос, призывно глядя на собравшихся и, видимо, не собираясь слышать отказов первой вспорхнет прочь, когда берет под руку Любаву, очевидно слишком раздраженная, чтобы идти с несносными по ее мнению мужчинами.
Что поделать, Елизавета Петровна, если все мужчины становятся вашими рабами. Так или иначе?
Противостоять ей оказывается невозможным.
Поэтому и приходится, поджимая губы, протянуть ему руку, выходя за остальными на тот самый солнечный свет и надеясь, что больше этого делать не придется.
Поделиться82024-04-13 22:41:55
***
Лиза наблюдает за тем, как мальчики устроили соревнование на берегу – они бросают в воду плоские камни, весело улюлюкая, если какой-нибудь из них отскочит от воды наибольшее количество раз. Проигравшему же грозило наказание – они сдергивали друг с друга треуголки, окуная в весьма прохладную воду, а после надевали на голову проигравшего. Проигравший оказывался не очень доволен, начиная носиться за непутевым шутником, который предусмотрительно прятался за спиной Любавы с корягой, выброшенной на берег.
Рядом с ними, такими молодыми, как и она сама, Лиза наконец ощутила и себя вновь собой. Нет, все они изменились и жизнь в конце концов стала налаживаться. Все непременно будет хорошо. В конце концов, новая императрица Романова. Темные времена остались позади. Впереди должно быть солнце такое же, как и теперь.
— Прекрати дуться, ты же дуешься, я вижу, — она останавливается, не отпуская его руку, которую держала, пока они прогуливались по берегу этого залива. Прогуливались в этом мрачном насупленном молчании. Лиза заглядывает ему в глаза, упорно заставляя посмотреть на себя, поднять взгляд, взмахнув этими длинными-длинными ресницами. Иногда, все мужчины дети. Невыносимое ребячество. — Кирюша, они молоды, как и я, к слову. Все мы говорим глупости, о которых жалеем. Ну, посмотри на меня, — рука в замшевой перчатке, которые также как и наряды позаимствовала у Любавы касается его щеки, настойчиво все же заставляя обратить на себя внимание. — все еще дуешься? — Лиза привстает на цыпочки, оставляя легкий поцелуй на губах, едва-едва их касаясь. — и так? — целует кончик носа. Улыбается. — и так все еще дуешься? — целует в щеку, удерживаясь за шею и склоняя голову набок. В глазах пляшут веселые искорки.
Если она захочет на нее все еще тяжело слишком долго дуться.
Под ногами скрипит речной песок, волны лениво лижут берег, а Лиза, поглядит на узкую полоску горизонта вдалеке, на веселящихся пажей, которые однажды наверняка станут генералами или может важными сановниками. А может скоро тоже заведут своих детей, ведь она больше над ними не властна. Все, что она может это написать пару рекомендательных писем, чтобы мальчики сделали карьеру, о которой так мечтали их родители. Где-то на пригорке попадается одинокая маковка церквушки – по сравнению с соборами Кремля или храмами в Петербурге такая простенькая, но своим видом напомнившая Лизе о том, что на самом деле хотелось сделать, несмотря на то, что вроде бы они решили, что подобные формальности ни к чему. Но ей вовсе не хочется запомнить тот момент таким, а после рассказывать дочери или сыну о том, что она ответила вынужденным отказом.
— Кирилл Андреевич, — обернется к нему, протягивая обе руки. Посмотрит внимательно. В глазах отражается солнечный холодный свет, отскакивает лучистыми хризолитовыми осколками и отражается уже в его глазах. — вы так и не спросили. Не спросили меня еще раз. Спросите. Сейчас здесь есть и красивое место и свидетели тоже есть. Спроси меня.
Спроси меня еще раз – хочу ли я стать твоей женой.
Лиза улыбается, замирая на одном месте, тем не менее сердце все равно забьется быстрее, пока следишь за ним, за его движениями. Возможно, именно так, там, где он вырос и нужно было делать предложение, на которое она ответила бы да сразу. А после радостно, счастливо вымолвишь:
— Да. Конечно да! Да-да-да! — она смеется, обнимая его за плечи, смеясь, пока отрывается от земли, в его руках вечно хрупкая и такая маленькая.
— Ба, господа, хватит обниматься! Идите к нам, иначе Семен всех здесь обыграет, а мы сляжем с жаром и придется пить отвратительные лекарства! — послышится веселый голос Матвея.
Лиза хохотнет, утыкаясь лицом в широкую грудь Кирилла, а после сама тянет его к компании, которая, очевидно, собиралась наконец устроить реванш.
А им на головы начнет падать снег. Первый снег в этом году, падающий с совершенно безоблачного неба, представляющий действие совершенно невероятное: алмазные крупицы опадали на волосы, серебрили меховую опушку. Настоящий алмазный снег.
Семен сам не знает, зачем попросил его отойти, когда все перед отъездом собирались выпить чаю у радушных хозяев. Пашка конечно предостерег от глупостей. Наверняка считает, что Семен собирается вызвать Волконского на дуэль, в которой неминуемо проиграет. Глупость, конечно. Семен с минуту просто молча разглядывает его, пытаясь совладать с клокочущим внутри возмущением. Но он сделал ей предложение. Она его приняла. Ты ничего не можешь поделать – делать ее несчастной в твои планы уж точно не входит. Он угрюмо вздохнет, потянувшись к внутреннему карману и выуживая оттуда письмо, которое предназначалось Кириллу.
— Из казарм. Вас, я так понимаю, хватились. Цесаревна написала, что она в безопасности с вами. Письма я не читал, но предположу, что вам придется вернуться. Я рад, что вы сделаете ее счастливой, пусть в это и сложно поверить. В то, что я этому рад, — через некоторое время добавляет он, прямо глядя в лицо Волконского. Лошадь, которую держит под уздцы [Семен собирается уехать раньше остальных] весело и нетерпеливо фыркнет. — Вы пообещаете, что она будет в безопасности с вами и более не будет страдать? Император Александр Петрович хотел, чтобы мы ее защищали – теперь это ваше дело, так? Пообещайте, что она будет в порядке, Кирилл Андреевич, — вскакивает на свою приземистую кобылку, натягивает повод. — Потому что, если вам не удастся это сделаю я. Если же понадобится – я вас непременно найду.
Сделаешь ее счастливой? Найдешь его и вызовешь на дуэль?
В жизни всегда так бывает – одно сердце оказывается наполнено счастьем, а иное разбито.
Знать бы еще тебе, Семен Иванович, что искать действительно придется. Только не так скоро.
Лошадь весело всхрапнет, переходя на быстрый шаг, а после на рысь и галоп.
Снег продолжал валить крупными хлопьями, заметая чужие следы и надежды.
***
Лиза расчесывает волосы – густые медово-рыжие пряди опадают по плечам. За то время, которое она провела здесь, ее внешность так или иначе улучшилась: цвет лица стал более живым, волосы снова заблестели, из глаз пропало настороженно-затравленное выражение, которым она обзавелась беспокоясь о своем будущем. Да, она все еще оставалась удивительно-худенькой [к неудовольствию домочадцев, которые так упорно хотели ее откормить изо дня в день придумывая новые блюда и сладости, которые она должна была попробовать], но в общем и целом ей теперь не было столь противно глядеть на саму себя в зеркало.
В зеркале отражается его лицо – родное, серьезное [так и хочется лишний раз вызвать заветную улыбку, потому что она счастлива, счастлива, счастлива!] и остается только гадать, когда она увидит его еще раз. Ведь то, что ему необходимо будет вернуться, она знает и без этого предательского письма. Знает, но соглашаться с этим не намерена. Лиза еще давно решила, как следует поступить, а новости из столицы это только подкрепили. Но самое главное – предположить, что снова нужно будет расстаться в голове не укладывается.
Откладывает гребень, посмотрит на него.
— Так ты уедешь? И просить тебя послать всех к черту бесполезно? — поднимается со своего места, заводит руки ему за шею и склоняет голову. — А просить взять меня с собой? А если я знаю способ, как тебя переубедить?
Она внимательно смотрит в его потемневшие глаза – за окнами ночь, глухая и уже зимняя ночь. Взгляды оказываются гипнотическими, пока она, не отрывая взгляда от его лица тянется к завязкам на сорочке, а после обернется в пол оборота, очень плавно сбрасывая ее с плеч. Сорочка неслышно упадет легкой белой волной к ногам, обнажая спину, плечи с предательской отметиной, оставленной на вечную память на собственном теле, бедра и ягодицы. Чувствует его взгляд, прежде чем обернуться слегка, отбрасывая волосы вперед и обнажая спину, спрашивая:
— И чего ты ждешь?
***
Свечи мягко догорают, отбрасывая теплые желтоватые тени на их кровать и на них самих. Ее волосы в этом свете отдают медью. Лиза ерошит его волосы, рисует невидимые узоры на груди [ей необходимы эти касания, она успела забыть как ей важно кого-то касаться оказывается]. Она осторожно целует его плечо, на котором как и на ее собственном теперь есть шрам. Лиза хорошо знает его шрамы, полученные из-за нее или же других обстоятельств, а новые ее скорее печалят. И кажется, что чем больше прикосновений, то тем выше вероятность, что ей удастся их излечиться. Она заглядывает в его лицо:
— А знаешь, заниматься этим, когда вы почти замужняя пара, кажется, нравится мне еще больше, — лукаво выговаривает она, сверкая в его сторону глазами-изумрудами, а после перемещаясь на подушку рядом.
Свечки весело потрескивают поблизости.
— Знаешь, Кирюша, я поняла почему ты такой замечательный, оказавшись в твоей семье. В такой семье ты не мог получиться другим. Думаешь мы будем такими же? — задумчиво глядя в потолок спрашивает она после некоторого блаженного молчания. — Кстати, ты говорил, что для мальчика имя придумал. Но какое? Вдруг у нас будет мальчик. К слову… — кладет голову на его плечо, оказываясь так близко, что слышит его сердцебиение. —…мне бы хотелось, чтобы у наших детей была твоя фамилия. Я бы и сама хотела ее взять, знаешь ли. Кирилл, — приподнимается, глядя на него сверху-вниз. — возьми меня с собой. Здесь чудесно и я понимаю, что ребенка мне бы хотелось воспитывать здесь, когда он родится или в подобном месте и твои родители прекрасные люди. Но я не представляю, что нужно снова расставаться, даже если ненадолго. К тому же, — она отвернется, вновь кладя голову на его плечо. — мне кажется, что я должна поприветствовать сестру. Появиться на ее коронации и показать, что я ей не угроза. Я не хочу бояться, не хочу сомневаться, я просто хочу жить счастливо мне больше ничего не нужно. Поэтому, возьми меня с собой, прошу.
Почему я не целовала тебя постоянно? Почему я каждую секунду не говорила, что люблю тебя? Почему мы не осознавали тогда, лежа в этой кровати, что проживаем самые счастливые мгновения до катастрофы?...
Почему так получается, что мы так поздно понимаем ценность каждого мгновения? Почему мы так долго ждем и только тогда, когда времени остается совсем мало, начинаем стремиться к тому, о чем мечтали? Почему не делаем этого раньше, когда у нас столько времени? Почему не смотрим на самых любимых так, словно видим их в последний раз? Какой яркой, какой насыщенной была бы жизнь. Жизнь, проживаемая по-настоящему.
Поделиться92024-04-13 22:46:08
д л я н а ш и х о т н о ш е н и й н е п р и д у м а т ь н а з в а н ь я
( с б и т о д ы х а н ь е )
н и к о г о н е п у с к а е м с т о б о й в а р е а л о б и т а н ь я
Поверить в хорошее оказывается сложнее, чем в дурное. Кирилл побывал во всех углах дома, потому что его измученное сознание не смирилось с тем, что теперь всё хорошо. Одного дня для того, чтобы п о в е р и т ь оказалось недостаточно. Нужно больше дней. Больше дней вместе. Нужно чудо, чтобы стереть из памяти столь болезненное прошлое, где, казалось, больше тёмных дней, чем светлых, какой бы яркой её улыбка ни была. Однажды он поверил в то, что «долго и счастливо» невозможно, никогда не наступит, глупая выдумка или вовсе не касается его собственной жизни. А теперь собственная голова над ним потешается, перемешивая действительность с дурными снами. Лиза была. Лизы снова нет. За ними следят. Люди в чёрной одежде, как сама смерть, заносящая топор над шеей. Люди мертвы, убиты собственными руками, измазанными по локти кровью. Лицо мертвеца удивительно живое, непривычно розового оттенка (он ведь при жизни всегда был бледен), искажается в отвратительной ухмылке, а после и вовсе расхохочется. «Здорово я тебе обдурил, а?» — мерзкий голос сквозь хриплый хохот, а лицо-то испещрено следами болезни. Кирилл сходит с ума, а всё потому, что не обнаруживает Лизу рядом, а ночью снился дурной сон, ушедший только под раннее утро. Кто-то (ему настолько скверно, что не рассматривает лица, перед глазами то и дело выступают чёрные пятна) несколько удивлённо говорит о том, что Елизавета Петровна на кухне. Тогда Кирилл опускается на пол под стеной, давая себе несколько минут на то, чтобы отогнать сон и унять головокружение. Словом, прийти в чувство. Ему бы хотелось нормальной, обычной жизни, — не получается. Быть может потому, что не рождён для неё, и желание вовсе не настоящее. Его предназначение явно заключаются в чём-то ином.
Лиза и впрямь на кухне, что теперь удивляет. Подкрадывается осторожно, впрочем, слишком быстро разоблаченный. Даже дико видеть её перепачканной в муке, посреди кухни, где растоплена печь, бурлит каша (едва уловимый запах подгорелого), шкварчат блины в масле. Другое дело, постоянно заставать матушку за занятием, казалось бы, женским. Вера Дмитриевна искренне недоумевала, отчего же отнимают у неё работу. Быть может, совершенно нормально видеть женщину на кухне. Быть может, любой другой мужчина затрепетал бы где-то на пороге, глядя на то, как сбываются его самые сокровенные мечтания. Дом, полный детей, и жена, суетится подле печи. Кирилл не разбирается. Мельком улыбается довольно, только не тому, что детская шалость удалась (не было никакой шалости, это она н а п у г а л а), скорее тому, что наконец-то её обнаружил. Он теперь спокоен, да только по-прежнему бледен.
— Это был мой вопрос, — морщится, мука нос щекочет, грозясь вызвать приступ чихания. Пожалуй, задавать такие вопросы женщинам не стоит, если они обнаружены на кухне. Взгляд замирает на её лице, когда она столь легко угадывает причину, по которой в очередной раз чуть не обезумел. А быть может, без всякого «чуть». Обезумел. Впрочем, призраки к нему тоже являются, с чем пора расправиться окончательно. Пора прекратить бояться того, что он придёт и заберёт её снова, как делал множество раз. Уверения «ты моя» будто бы не имеют силы, что совершеннейшая неправда. Они должны быть сильнее любых других слов. — Ты всё таки знала что так может быть… — будто Кирилл готов обидеться малым ребёнком на то, что Лиза не предотвратила столь ужасное его пробуждение. В иной раз сочтут душевно больным, и тогда уж наверняка всё закончится.
— Дело не в платье, — а в том, что тебя постоянно хотят забрать. Он сдерживается. Устраивать скандал, будто они три десятка лет женаты, разумеется неуместно. Лиза в хорошем настроении, а он попросту испугался, попросту не оклемался. Если во снах до сих пор гремят пушки и разворачиваются сражения на поле боя, чего ожидать от событий не столь далёких. Они, конечно же, будут терзать душу. Наблюдения за Лизой отвлекают, даже вызывают подобие кислой улыбки, пока не осознаёт, что каша оказывается в тарелке не без повода. Улыбка, даже кислая, исчезает с лица. — Уверена ли ты в том, что… цесаревне пристало такому учиться? — интонация больше утвердительная, нежели вопросительная, а в голосе сквозит подозрение. Пожалуй, в этом заключается прелести отхода от службы «по семейным обстоятельствам». Покорно кивает головой, безмолвно обещая поделиться эдакими впечатлениями по поводу её успехов в кулинарии. Последнее его интересует теперь больше, чем каша в тарелке, словно Лиза собирается рассказать нечто важное. Поднимает весьма неуверенный взгляд со своего завтрака на неё, сидящую напротив. Наверное, в честь того, что глаза изумрудные снова светятся, снова бесы в них пляшут, стоит и потерпеть. Он ведь, её любит. Не торопится, помешивая деревянной ложкой кашу. Остыть ведь, должна. Принимается внимательно слушать, то опуская глаза, то встречаясь с её прямым взглядом, открытым, словно в душу смотришь. Чуть брови нахмуривает. Первый день свободы, — самому только предстоит осознать. Почувствовать. Саша. Саша неизменно ходит за ним тенью, о чём никому не признаётся. То ли стыдно проявить слабость, то ли хочется сберечь особенность их братских отношений. Казалось, вспоминать о Саше теперь менее больно, только светлая грусть приливает волнами. Звучит фраза, способная до сих пор разбередить рану. Смотрит на Лизу исподлобья, в напряжении ожидая продолжения.
— Ну почему же странно. Странно, что Василий Борисович дворец не подпалил, — не выдерживает Кирилл, ещё более усердно начиная мешать кашу. — Не просто сон? — переспрашивает настороженно, а плечи напрягаются ещё больше, каменея. Каким же образом осознать свободу, когда в вещих снах горят дворцы. Только Саша откуда? Впрочем, через несколько мгновений становится совершенно не важно, откуда Саша, произносящий те самые слова. Он слышал э т и слова. Он слышал достаточно, чтобы по спине хлынул холод от столь запоздалых новостей. Саша ничего не оставил. Не оставил. Ложь! Оставил. В голове разражается битва: сообщить громом посреди ясного неба правду, или умолчать. Зачем Саша просил у неё прощения? Знал ведь, что обрекает на жертвы и страдания. Знал, что покоя не будет. Верно, не будет. Может ли он, Кирилл, столь эгоистично утаивать правду только потому, что сам желает покоя? Безумие происходит в его голове и вынуждает отложить ложку в сторону. Эти метания меж огнями никогда не закончатся. А у него то и дело очередной ожог.
Лиза-Лиза, не могу сказать тебе о том, что сон в действительности что-то значит. О том, что вероятно, Саша возлагал надежды на тебя. Саша оставил завещание, даже если тебе трудно в это поверить. Что с нами тогда будет? Что будет с тобой? Что будет…
Он определённо ненавидит каждого, кто являлся к ней с подобным предложением. Даже человек, которому безмерно доверял, вдруг оказывается чужим и далёким. Как можно было требовать вернуть Лизу в общество ради того, чтобы надеть на её голову корону и бросить на растерзание? У него перед глазами картины ужасающие, кровавые, за которыми не замечает, как оказывается она рядом.
— Да, я помню… — хрипит голос, взгляд отстраненный, — он медленно возвращается в эту кухню, где пахнет подгоревшей кашей, блинами и родным домом. Разумеется, помнит каждую их встречу, каждое новое признание Лизы, доказывающее то, что она совершенно отличается от многих девиц, вьющихся вокруг офицеров. Лиза никогда не желала быть отданной чужому человеку, как положено. Он сам был убеждён, наблюдая со стороны, в том, что она — для чего-то большего. Не думал ведь, что станет её мужем. Не мог вообразить. Оказывается, положение супруга многое м е н я е т. А сейчас… Замирает, хмурит брови сильнее, устремляя на неё внимательный взгляд. Тепло руки точно топит лёд, корочкой схвативший его душу, уставшую метаться меж сторонами правды и лжи во благо. Проще плюнуть на высокие убеждения и чувство долга. Осточертело всё! На мгновенье, разумеется, он засомневается в пределах мечтаний. Может ли любовь быть настолько сильной, что затмевает все стремления, ощущение своей эдакой миссии в этом мире? Тебе, кажется, осточертело сомневаться, Кирилл Андреевич.
— Никогда бы так на себя не подумал, а есть сахар?... — делает попытку обернуться, поискать горшочек с сахаром, но вскоре решает есть кашу мужественно и безо всякого подслащивания. Хмурые тучи на лице рассеиваются постепенно. Когда рука вдруг оказывается на животе, Кирилл вовсе не удерживается от слабой улыбки. — Тогда вполне вероятно, что тебе придётся смотреть на этот пожар, — пока ты не станешь той, кем должна была стать, — хочется добавить, но, вне всякого сомнения, здравый рассудок не позволяет. — Может не просто сон, всё может быть. Но что дадут тебе эти люди? Безопасность? Нет, как только ты окажешься во дворце, никакой защиты не будет. Ты им нужна, конечно нужна. Ты же дочь Петра Великого, шутка ли, — крепче сжимает в руке ложку, заодно набираясь силы, чтобы покончить с кашей. — Поэтому я рад, что твоя любовь тебя от этого убережёт. И моя, конечно, — улыбается несмело, смотрит в глаза. Отдать ложку оказывается непросто, он и не понимает вовсе, по какой причине её отбирают. Наблюдает за ней с некоторым сочувствием. — Я знаю почему ты не хотела выходить замуж, — почему-то не хочется обсуждать тему к а ш и, — потому что меня не встретила. Верно? Будто бы я хотел жениться, до того как встретил тебя. Это даже не обсуждалось. Ну, ты можешь научиться готовить… — Кирилл, разумеется глупенький или совсем неопытный в супружеской жизни. Предстоит многому научиться. — Чем не значимое событие? А пока будешь учиться, возьмём кого-то на кухню, конечно же. Нет! — попытки оставить тарелку при себе оканчиваются неудачей. На коленях оказывается Лиза и совершенно бесцеремонно привлекает к себе внимание целиком. Её смех заражает, отгоняет серьёзность и тяжесть, какие одолевали до сего момента. Он сполна ощутил сомнение и стыд за то, что так бесстыдно отнимает у неё будущее, быть может, полное великих свершений. По крайней мере, путешествовать по свету она могла бы. Вместо этого: подгоревшая каша, ребёнок и супруг, которого порой будет обременять служба отечеству. Когда она смеётся, Кирилл убеждается в том, какой дурак и сколь безумны, даже обидны, оскорбительны его мысли. Они любят друг друга. У них будет ребёнок. У них будет счастье.
Он слушает её внимательно, увлечённо, любовно разглядывая румяное лицо, перепачканное мукой. Написать крёстной, — разумеется стоит, они нуждаются в поддержке. Однако, улыбка снова сползает с лица, оставляя место недоумению, возмущению и мрачной тени. Если бы не воспоминания мрачные, выводящие из душевного равновесия, если бы не мальчишка один-единственный, быть может, поддержал бы затею Лизы. Мальчишка, который служит напоминанием о собственной беспомощности, о том, что одной любви недостаточно, о несправедливости самой судьбы. Им бы никогда более не встречаться. Что же, Кирилл Андреевич — объект для извечных насмешек. Весьма дурно выходит поддерживать баловство Лизы. А впрочем, она знала, что её избранник / рыцарь с сегодняшнего дня, весьма занудлив, неразговорчив и редко улыбается. Не связан с логикой тот факт, что Лиза не замечает / не желает замечать очевидного, а именно несчастного влюблённого мальчишку.
— Елизавета Пет…. — хотел было возмутиться, да только приходится отвернуться от мучного урагана в его сторону. — Елизавета Петровна, — повторяет более грозно, — кто вас манерам учил? Я-то думаю, отчего вы так быстро нашли общий язык с моей сестрой, — намекает на возраст, что должно быть очевидно. — Не хочу — не делюсь. У меня есть основания. Если вы их не замечаете, так что я могу с этим сделать? Ей богу, их пора отпустить со службы, не вместе же нам жить.
Кирилл будет долго возмущаться, пока не выпьет чаю. Он после чая успокаивается, запальчивость проходит, — очередная схожесть, одна из многих, с Андреем Григорьевичем.
[indent]
***
Ему бы хотелось сполна разделить радость встречи; быть может, и разделил, позволив губам растянуться в слабой улыбке, когда Лиза встречала своих мальчиков. Непомерно удручает то обстоятельство, что никогда не сможет разделить тоски по ушедшей жизни или по этим же людям; пусть и болит сердце от осознания, сколько потеряла Лиза. Она потеряла семью и брата. Единственное хорошее, что связывало с двором, разумеется дружба с Александром Петровичем. Они проводили время самым разным образом: веселились, бранились, дрались, дискутировали, обсуждали фрейлин и количество мушек на их лицах, выпивали в несколько неприличных заведениях, и пусть. Они были молоды и возможно, в определённой мере счастливы. Но никогда, никогда Кирилл не почувствует тоску по жизни придворной, для которой не был в общем-то рождён. Об этом не задумываешься, пока обстоятельства не вынуждают буквально красть царевну из её дворца. А они, повзрослевшие и юные одновременно, привезли с запахом дороги, пыли и холода забываемое время, связанное далеко не с самыми положительными воспоминаниями. Новости, столь обыкновенные для столичного общества. И совершенно ничего не меняет тот вечер, когда они собрались молодой компанией, когда он играл на фортепиано, потому что так и не почувствовал себя частью чужого мира. Теперь же пусть всё, что должно произойти, произойдёт перед его глазами; всё, что пажи собираются рассказать, он должен услышать. Хотя бы по той причине, что имеет некоторое отношение к последним событиям. Слава Богу, что завещание Александра Петровича покоится в никому неизвестном месте, а именно тайнике, ключ от которого запрятан не менее надежно.
Кирилл принимает серьёзное, непроницаемое выражение заблаговременно, готовясь к тому, что любые новости, пригнанные из столицы — скверные. Скрещивает руки на груди, находясь в невольной оборонительной позиции, ей богу, будто придётся защищать честь своей семьи и свою собственную. Речь, разумеется, о семье из трёх человек. Он привыкает к мысли, что теперь их т р о е. Его семья. Первая новость заставляет задуматься: мог ли Саша сочинить завещание на имя безызвестной женщины, более того находящейся в некой опале? Думай, думай, Кирилл. Не мог! Очередная самозванка, плевать что женщина. О двоюродной сестре Лизы он слышал слишком недостаточно, чтобы составить мнение. А не всё равно ли? Лишь бы оставили в покое! Переводит взгляд на Лизу, обнаруживая на лице растерянность. Быть может, ей известно больше. Но вскоре выясняется — отнюдь, следовательно, причина другая. Женщина на троне, — политика канцлера весьма прогрессивна и современна. А ведь твердили, что быть такого не может. Он знал, был уверен — новости паршивые, и на душе делается паршиво. В какой-то момент захочется уйти, и вовсе не знать какой самозванец займёт правящее место, — бессмысленно, когда страной правит человек здравствующий, не собирающийся умирать. Только для Лизы это, вероятно, имеет значение, лишь потому будет сидеть рядом. Потому, что ловит её взгляд и чувствует необходимость присутствовать; хотя бы для того, чтобы взять за руку.
«Неужели вы не вернетесь?»
Звучит чужой голос, который менее всего хотелось сегодня слышать. Будучи сдержанным человеком, скупым на эмоции, даже он переводит на Семёна недоумевающий взгляд. Это ведь ты привыкаешь к мысли о том, что у вас семья. Ты знаешь, что она беременна. Ты был с ней на кухне тем утром, первым свободным утром. Другие не знают, верно? Они не знают. Внутри медленно вскипает возмущение; словно кто-то снова пытается отобрать у него самое ценное, самое дорогое, ради чего пожертвовал бы и своей службой, — к чёрту их, сами разберутся. Ему бы сменить деятельность, чтобы каждый день возвращаться домой; вместе ужинать, пить чай в гостиной, прогуливаться перед сном; ещё больше радостей ожидает, когда родится ребёнок, — сын или дочь, — не имеет значения, ведь он будет его любить больше всего на свете. И пожалуй, э т о главное достижение его жизни. Но когда в твой дом приходит человек, снова и снова сеющий сомнения, становится невыносимо. Указывать на дверь невоспитанно. Да и причина «я ощущаю себя пустым местом», весьма несерьёзна, и наверняка, неправдоподобна. Он не станет жаловаться на то, что какой-то мальчишка оскорбляет его чувства. Разумеется, не станет. А что же тогда делать? Всё вдруг чудится неправдоподобным, не только какие-то сомнительные внутренние ощущения. Всё кажется неправильным и лишь усиливается иллюзия, когда воздух сотрясает чужой громкий голос с убедительными интонациями, и отчаянием.
«Это же ваше место, ваше право!»
Кирилл мрачнеет бесповоротно и теперь по неизвестной причине; причин слишком много. Потому что создаётся мираж опасности, нависающий над только обретённой спокойной жизнью? Потому что он знает, видит насквозь, чего столь отчаянно желает этот человек, — мужчинам понять друг друга несколько проще, стоит признать. Семён Иванович надеялся на нечто большее, чем братско-сестринская привязанность. А теперь, очевидно, его надежда бесповоротно рушатся. Самое же худшее заключается в том, что Кирилл слабеет перед сомнением и допускает чужую правоту. Ждут вас, вас, вас! Кирилл знает. В гвардии цесаревну любили всегда и гвардия в любой миг готова восстать основываясь не на бумаге, где имя написано, а на высоких чувствах, на любви, на надеждах, — дочь Петра Великого поднимет страну с колен. Она бы и подняла, если бы успела за тот короткий срок, который отвели бы люди, убившие его д р у г а. Кирилл знает, что Семён прав и никогда сего не признает, ни вслух, ни мысленно. Прости, Саша, но счастье и твоё завещание никак не совместимы. Что стоит выбрать? Жертву во имя нашей многострадальной державы? Быть может, ты прав. Замечает внимательный взгляд сестры, точно единственная тростинка, за которую можно ухватиться и выбраться из затягивающего омута. Она смотрела совершенно серьёзно, словно понимала больше, чем положено, а через мгновенье строит гримасу, наверняка пытаясь развеселить. Кирилл понимает, что ответственен и за родителей, за сестру, жизнь которой предстоит устроить. Он и все они очутятся в определённой опасности, но разумеется, в наибольшей опасности будет Лиза. Непонятно, зачем такая участь, зачем корона, зачем Саша усложнил жизнь. Дурак, не надо было умирать. Кириллу жить теперь с осознанием предательства, с ночными кошмарами, в которых будет метаться. Слишком правильный, слишком честный. И где здесь счастье?
На её руке сияет кольцо. Любое напоминание о Саше теперь равняется упреку. Не сказал, не сказал. Смотрит так, будто готов кольцо потребовать обратно и утопить на дне залива, авось унесёт куда подальше. А я и не уверен! Завещания не читал! — отчаянно оправдывается перед самим собой. И впрямь, не читал, не знает, только догадывается. Для людей порядочных одних только догадок мало, чтобы власть свергать. Заткнуть бы этого мальчишку, может и полегчает. Но теперь говорит Лиза. Кирилл угадывает, о чём она сообщит, — они в эти моменты удивительно похожи. Впрочем, он ничего не ожидает, ему плевать совершенно, что подумают другие, кто-либо. Родители должны были узнать, чтобы защитить. Что же, помнится, пажи давали подобные клятвы, беречь и защищать. Быть может, радость искренняя, поздравления от души, быть может. Кирилл слабо улыбается. Он сам-то радовался поскромнее, что совсем несправедливо. Он был схвачен жестокими обстоятельствами. А теперь вынужден наблюдать, как радуются другие. Они должны радоваться, событие ведь, радостное. Если бы только не омрачала его странная мысль, словно украл Лизу у целой страны, и безвозвратно.
Но радоваться было рано. Недостаточно страданий, недостаточно боли душевной, более сильной чем физическая, да и физической вероятно, тоже недостаточно. Злая насмешка судьбы — этот Семён Иванович, не способный наконец угомониться. Ещё немного и Кирилл поинтересуется, какой чёрт в него вселился и беснуется вот уже длительное время. Чёрт любви. Только для того придётся многое объяснять. Обойдётся. Невообразимо, неужто ещё позволено быть таким молодым и глупым. Кирилл настраивает себя на отеческую снисходительность, полагая что сил хватит дождаться пока все наконец уйдут прочь. А мальчишке захотелось поговорить, ведь прежних слов было мало. Мало звать Лизу на престол, обещая ей целый переворот при участии гвардии и вероятно, половины населения Российской Империи. Эти слова могли бы укрепиться в статусе неудачной шутки, могли бы убедить в том, насколько Семён Иванович глуп и молод; только они вдруг столь ясно демонстрируют беспомощность Кирилла перед человеком, который вовсе мёртв, что ранее вскипевшее существо начинает ощутимо бурлить. «Сколько еще вы будете подвергать ее опасности?» — говорит человек, минутами ранее пригласивший Елизавету Петровну на трон, во дворец, где сплошь недоброжелатели, враги, только потревожь и отравят своим ядом в самом буквальном смысле. Он видел смерть Саши, видел кровь, стекающую по губам, видел испарину на лбу и чувствовал сильный жар, уничтожающий его изнутри. Видел как новый день отнимал друга, а потом бесчувственно засияли звёзды, а потом Сашу забрали и даже не позволили попрощаться. Случись подобное с Лизой, наверняка Кирилл бы услышал эти слова вновь: вы не смогли её защитить, вы подвергли её опасности. Впрочем, вероятно выговаривать пришлось бы ещё одной надгробной плите. Какой-то м а л е ц совершенно ему неизвестный, чужой, вдруг говорит непростительные слова ему, старшему, в его же родном доме, — последняя капля, отсутствие какого-либо уважения. Кирилл подрывается с места, собираясь сделать что? Врезать хорошенько, как поступают настоящие мужики? Вызвать на дуэль, как подобает дворянину иль тотчас же схватиться за шпагу? Благо Лиза оказывается шустрее, чем здравый разум, вопящей о том, что затевать драку с маленьким щенком бесчестно и стыдно. Если старший, будь выше э т о г о. Он крепко сжимает кулаки, поджимает губы, не ощущая собственного окаменевшего тела и старается скрыть тяжёлое дыхание. Лучше бы этой встречи не случилось вовсе, а её дорогой человек никогда таковым не станет для Кирилла. Единственное, в чём права Лиза, — затевать драку не стоит.
— Думайте, что говорите, если вам дорога жизнь. Не я, так кто-то другой, — цедит он сквозь издевательскую улыбку, пожимая руку и глядя в глаза. Сей жест только для того, чтобы оказаться ближе и произнести эти слова как можно тише. Прости, Лиза, но это выше моих сил.
[indent]
***
Они ведь, действительно мальчишки: наивные, неугомонные, находящие радость в моменте (в отличие от тебя), даже в обыкновенной детской игре. Кириллу же кажется, что его молодость ушла безвозвратно. Когда-то здесь были его д р у з ь я, когда-то они носились вдоль э т о г о берега; когда-то здесь разворачивались баталии на шпагах и палках, вытащенных из леса; когда-то здесь стоял смех, слетали с губ юношеские мечты, споры о значительном и пустяках. Они ощущали силу, задор, запал, убеждённые в том, что победят весь мир. Слишком рано вы начали стареть, Кирилл Андреевич. Теперь он здесь и рядом всё, что у него осталось. Даже на то, что осталось, другие умудряются позариться. Он совсем не уверен в том, что сможет вернуть то, что утрачено. Не сможет носиться по берегу и без задней мысли дурачиться. Всё, на что способен: степенно прогуливаться, то и дело глядя на полосу горизонта, где брезжит зимний закат. Разумеется, ему не хочется об этом говорить. Едва ли захочется. Лиза настойчива.
— Лиза, я согласен только с тем, что воспитывать их должны родители. Вспыхивать было глупо. В остальном же, позволь мне остаться при своём мнении, — упрямо отводит взгляд, подозревая что сопротивляться более не сможет, и верно, — не сможет. Смотрит в её глаза, понимает как никогда ясно: будет бороться за неё до последнего, удерживать от опасности, пока будет сила. Знать бы о том, что кто-то уже помышляет, каким образом этой силы лишить. — Я не передумаю, — упорствует, чувствуя приятное тепло на губах. — Елизавета Петровна, что вы делаете? — произносит сквозь улыбку, окончательно побеждённый её игривыми, лёгкими поцелуями.
Кирилл выдыхает с облегчением, опуская руку на её плечи. В уголках губ застывает улыбка смирения и принятия. Ничего не имеет значения, кроме того, что Лиза находится рядом. Быть может, не стоит растрачивать драгоценное время на страх её потерять. Не стоит и сомневаться. Не стоит вестись за дурное подстрекательство, — не таким ли образом многие оказались в крепости? Раз уж решил верить Лизе, то до конца и всецело. Взрослеть пора, взрослеть, Кирилл Андреевич. Добрая половина тяжести спадает с души. Он улыбается смелее, беря Лизу за руки, — столь привычно и столь необыкновенно, тепло. Стоит взяться за руки и чувствует всем существом неразрывную между ними близость. Никто этого не отнимет. Никто не запретит л ю б и т ь.
— Ох, Елизавета Петровна, — произносит громче, артистично, всё же подхватывая волну веселья, зажигаясь огоньком её сияющих глаз. — Я тут постарел на сто лет, а вы меня о таком просите. Знаете как сложно в глубоком возрасте вставать на колени? — широкая улыбка постепенно гаснет, уступая недолгой задумчивости и опущенным глазам. Не совершит ли он сейчас вновь ошибку? Нет, нет! Ошибки быть не может! В последний раз задумывается, набираясь уверенности в том, что они получили то, чего желали и этого хватит на всю жизнь. Они получили свободу.
Не отпуская её руки, Кирилл опускается одним коленом на влажную, холодную землю и снимает треуголку, откидывая куда-то в сторону. На сей раз следует предложение сделать правильно, неторопливо, прожить каждую секунду счастливого момента. Поэтому, он находит прежде наиболее удобное положение, тихонько прокашливается, набирает полные лёгкие колючего воздуха и задирает голову, чтобы видеть её глаза. Что же следует сказать? Он ведь, совсем не мастер красивых речей. Зато Лиза его любит.
— Что же, я не могу многого тебе пообещать, сколько ты заслуживаешь, потому что имею не так уж и много. Кажется, всё, что у меня есть, — это ты. Для меня этого более чем достаточно. Достаточно тебя. И если… ты чувствуешь то же самое, в чём не сомневаюсь… — запинается на мгновенье, голос едва уловимо дрогнет, а её пальцы сжимает чуть крепче, — если мы получили свободу, тогда становись наконец моей женой. Нет, не верно. Я должен спросить. Ты будешь моей женой? — смотрит на неё с надеждой, словно бы она могла ответить иначе. «Да. Конечно да!» — отголоски звенят во всей душе, во всех её дальних и тёмных углах. Он давно стал самым счастливым, вовсе не в эту минуту. Он счастлив с того дня, когда встретил её. Он счастлив, потому и отрывает от земли, кружа в звенящем, холодном воздухе, в сиянии крохотных крупиц снега.
Вероятно, спасением снова оказывается горячий чай, которым пахло в обеденном зале. Кирилл окончательно отвлекается на самые недавние события: принятое предложение руки и сердца, радость в доме, когда тем похвастался перед родителями и получил долгожданное благословение. Он даже не сразу понимает, что улыбается, глядя на Семёна, зачем-то тронувшего за плечо, будто разучился говорить. Впрочем, придерживать поток слов научиться ему бы не помешало. Следует просьба, которую Волконский принимает и перестав глупо / радостно улыбаться, выходит из дома следом за Семёном. Письмо мгновенно приковывает внимание и вызывает определённые догадки. Из столицы. Таки хватились. Смотрит сосредоточенно на конверт, а внутри снова что-то обрывается, снова растревожили только угомонившуюся душу. Сам ведь говорил, службу никто не отменял.
— Стоит ли мне вас благодарить за это? — вероятно, в приличном обществе писем чужих не читают. Кирилл не дожидается более удобного момента, решает вскрыть конверт не самым приемлемым образом. Плевать. Мимоходом продолжает слушать Семёна, изучая взглядом чуть неровные, корявые строчки. Дмитрий Яковлевич не отличался изящным, дамским почерком, что вполне естественно для человека военного. Поднимает взгляд исподлобья, когда Семён добавляет то, что вероятно не хотел добавлять. Более правдоподобной осталась бы фраза в первоначальном виде, ведь как выяснилось, Кирилл не способен подарить ей счастье. А впрочем, радуется Семён Иванович за Лизу, чему здесь удивляться? Влюблённая душа. Пусть радуется. — Увы, мой любезный друг, перед вами давать обещаний я не обязан, оставлю их для Бога, — складывает письмо, поднимая голову и улыбаясь вдруг. Сам Александр Петрович желал, чтобы защита его сестры оказалась ответственностью другого, одного человека. Кирилл не сомневается в том, что Саша их заведомо благословил. Знать об этом маленьким мальчикам совсем необязательно. — Не надоело вам угрозами сыпать, Семён Иванович? На чай не останетесь? Жаль. У чая удивительное свойство. Успокаивает. Но раз так, — пожимает плечами, не желая подыгрывать в серьёзности момента. По всему видно, какое значение сей момент имеет для н е г о, уверенного, что способен сделать больше, чем сделал Волконский. — Хорошей вам дороги, — голос чуть громче, он разворачивается в сторону дома, не желая наблюдать за тем, как гордо этот малец уносится прочь. Кириллу вовсе не доставляет удовольствия чувство победы. Он и не чувствует себя победившим. Он просто любит, а его любят в ответ. Довольно с него войн, и высокопарных слов да обещаний, свойственных пылко влюбленным юношам.
[indent]
***
н а и в н о › › п о - д е т с к и — и п у с т ь в э т о м н е т с м ы с л а
н о т ы вдохновляешь д а ж е н а с м е р т ь // т ы т а к п р е к р а с н а
больно смотреть
В комнате небольшой, обставленной небогато, царит умиротворяющий уют. Зажжённые свечи дарят тёплый, янтарный свет, плывущий по голубым стенам, занавескам в крохотный цветок, по скрипучему деревянному полу и застеленной кровати. Потрескивают еловые поленья в очаге, ведь тепла и света не бывает много в его родном доме. Он останавливается в проходе, нежданно зачарованный картиной, приносящей мир и покой в душу. Опирается плечом о косяк двери невольно, скорее падает, теряет равновесие, уставший от борьбы, занявшей целый долгий день. А теперь до того трогательно видеть её, сидящую перед зеркалом, что хочется заплакать. Вероятно, каждый женатый мужчина может наблюдать по вечерам, как его жена расчесывает у зеркала волосы, — этакий неотъемлемый ритуал, свидетельствующий о каком-то постоянстве, о том, что жизнь становится похожей на тысячи других жизней. До чего же хочется пусть ненадолго, но потеряться среди этих судеб похожих, среди привычек, традиций, обыденности, не выделяясь. Оказывается, растрогать вас т а к просто, — глумится внутренний голос, пока он шмыгает носом и переступает порог, закрывая дверь. Не хочется её отвлекать, но остаться не замеченным не получается, отражение появится в зеркале. На письменном столе лежит развернутое письмо. Смотрит на него и тяжёлый вздох вырывается из груди. Лиза буквально облегчает его участь, оказываясь рядом.
— По крайней мере, мне нужно объясниться. Моё назначение в Ревель вдруг сменяется на просьбу об отставке по «домашним обстоятельствам»? — горько усмехается, бережно обнимая Лизу за талию, чувствуя тепло кожи сквозь ткань сорочки. — Попробуй, может быть… — взгляд опускается на её вечно соблазнительные губы, — у тебя получится.
И разумеется, у неё получается превосходно. Лиза знает его с л а б ы е места. Знает, каким взглядом нужно смотреть, чтобы завладеть всем вниманием и через секунду свести с ума. Кирилл бессилен и обезоружен. Бессилен перед тонкими линиями / изгибами / сиянием бархатной кожи, которой хочется касаться. Если она думала иначе, — глупость. Ему хочется всегда. Он часами ею любоваться может, потому и медлит, растягивая момент после которого точно в омут с головой и на целую ночь. Подходит ближе, совсем близко со спины, осторожно касаясь обнажённых плеч и проводя ладонями. Наклоняется, замирает губами на шраме, рисунок которого порой чудится распущенным цветком, — то ли розой, то ли лилией. Он бы бесконечно извинялся за эту отметину и беспрекословно обязался бы принимать все пули вместо неё. Лиза решила иначе. И когда эдакий ритуал исполнен, подхватывает на руки, чтобы переместиться к постели и доказать, насколько он скучал, насколько без неё не сможет.
Ему больше ничего не нужно. Не нужно. Он готов отпустить всё, что тяготило душу и довериться этому манящему счастью. Ему легко, хорошо, хорошо проваливаться в мягкую подушку, чувствовать касания её кожи, нежность и мягкость; касания губ — и больше не болит, ничего не болит, исцелен чудесным образом. Когда она в его объятьях, — не остаётся места для сомнений. Веки чуть опущены, уголки губ подернуты, однако лицо сохраняет какое-то задумчивое, серьёзное, тем не менее, блаженное выражение. Плеч щекотно касаются её волосы, в свете свечей моментами вспыхивающие алым огнём. Он любит, безмерно любит; любит её волосы, мягкие, которых приятно касаться, в которых приятно запутывать пальцы; любит губы, которые излечивают получше всякой микстуры, которые улыбаются чаще чем его собственные, и неустанно дарят свет; любит её руки, настойчивые, нежные, которые бесконечно хочется целовать. И, несомненно, любит глаза, переливающиеся гранями изумруда, которые порой отражают голубизну, затаившуюся в кольце на её пальце. Ведь начиналось всё с глаз… Кирилл смеётся поднимая глаза к потолку (или к Господу, они ведь, почти не грешат теперь), а собственный смех звучит чужеродно, дико, совсем разучился, отвык смеяться.
— А что так? — заводит руку за голову, смотря на неё с любопытством и весельем, возникшим в глазах. — Впрочем, я заметил. Ты будто изменилась. Мне так нравится намного больше, — улыбается плутовски, оказывается ещё способный дурачиться, хотя бы в постели. Словно этого достойна одна Лиза и никто более.
— Не думаю, знаю. Отчего же нам быть другими? Ты будешь хорошей матерью. Моя матушка ругается слишком много, не будь такой, — поморщится будто ребёнок недовольный. — Хорошо что я пошёл в отца. Для мальчика?... — переспрашивает чуть севшим голосом, снова глядя куда-то ввысь, в потолок, по которому скачут озорные отблески огоньков. — Мне и здесь думать не пришлось. Назовём его Сашей. Ему бы понравилось, столько чести, — отшучивается, а волна светлой грусти накрывает. Вовсе не хочется вдаваться в подробности, при каких обстоятельствах понял, что назовёт сына в честь друга. Слишком мрачны обстоятельства для момента. Дальше он прислушивается к ней, не перебивает, осмысливая услышанную просьбу. — Это тоже формальности. Для меня ты будешь женой с любой фамилией… но будет ли безопасно? Ехать в Петербург, — смотрит в её глаза, заведомо зная что бессилен, проиграет. Ты и сам расставаться не желаешь, опасность отступила. Боишься, что сбежит Лиза во дворец? Наверняка с поддержкой Семёна Ивановича. Вздор!. — Ты всегда будешь им угрозой, потому что нет красивее тебя в мире женщины, — улыбается с тенью озорства и влюблённости, какая неизменно сияет в его глазах, стоит только остаться с Лизой наедине. Смотрит на неё молча ещё некоторое время, размышляя скорее не о том, стоит ли соглашаться, а каким образом об этом оповестить. — Хорошо, — была ли это твоя главная ошибка? — Как же я без тебя. Заберу с собой. Дмитрий Яковлевич пишет: теперь всё по-другому будет. Сделаем всё, чтобы нас оставили в покое. А потом… — чуть приподнимается, нависая над ней с угрозами увлечь в очередной долгий поцелуй, — займёмся нашим счастьем. Знаешь, я бы хотел иметь парочку детей, — словно уже познал прелести отцовства; но познавать их не требуется, чтобы хотеть от Лизы детей.
ч е м о т в е т и т м и р
н а н а ш д е р з к и й вызов?
[indent]
***
На шахматной доске ровно выстроены мастерски отточенные из дерева, фигуры: армия, символ абсолютной власти, какую можно ощутить буквально в руках. Повелеваешь фигуре, переставляешь по собственному желанию, распоряжаясь судьбой и целой баталией, развернувшейся на квадратной доске. Сосредоточенность на просчетах многих ходов наперёд занимает сознание. Призраки прячутся за зеркалами, комодами, ширмами, трусливо. Отражения в стёклах расплываются, остаётся лишь намекающий след, лишь отблеск чего-то белого, — ведь неизменно в белом он является по твою душу. Не слышно гомона из голосов в голове, то громких, вопящих, то тихих, умоляющих будто бы о спасении. Разве кто-то умолял тебя? Умолял? Ты не помнишь. Ты не слышал. Не слышал собственного сына в последние его минуты. Он ничего не ощущает, кроме удовлетворения от верного, безошибочного хода, обещающего победу. Тепло красного вина расслабляет тело, но сознания остаётся ясным, ежели конечно, можно назвать его сознание ясным в постоянстве. Ради чего, Борис Фёдорович? Ради чего? Комната увешана трофеями, его любимая, его личная обитель, где находит покой, давно отвернувшись от Господа. Взгляд взметнется к волчьей голове: разверзнутая пасть, обнаженные острые клыки, — не страшно, волка усмирил, значит и страну усмирит. Фамилия Апраксиных звучит / зазвучит громче Романовых. На губах уничижительная усмешка с бордовым оттенком, — хорошее вино.
— Прошу простить моё лишнее любопытство, — сочетание «тс» даются ему особенно нелегко, переливаясь в шипящую «ц», а «р» проглатывает вовсе, да и акцент выдаёт тотчас же происхождение, стоит только заговорить. — Каков же ваш план? Я не имею понятия, не понимать. Мы не хотим продолжать род Романовых на троне. Много работы уже сделано. Чего вы хотите теперь?
Апраксин усмехается по-доброму, снисходительно. Герман — немец. Немцы — надёжны, сдержаны, не болтливы, неприхотливы, послушны и руководствуются холодными расчётами. Немцам чужды чувства, предательство рассматривают когда действительно выгодно, а не когда дворянская честь или честь Родины в опасности. Апраксин знает, что пока отсыпает достаточно монет в чёрный кошелёк, человек напротив будет ему беспрекословно верен. Немцы не ведутся на пламенные речи об отчестве, долге и прочей чепухе, которую втолковывают с младенчества русскому человеку. Пусть он говорит отвратительно на русском языке, зато в его иных, самых разных способностях, не приходится сомневаться. Более того, Герман — превосходный партнёр по шахматной игре.
— Мой дорогой друг, знаете ли вы как опасна ненависть? А жажда мщения? Нет, мы не хотим, чтобы народ вконец взбунтовался. Мы всё ещё зависимы. Подумай сейчас не про фамилию, а про то, как Софья Михайловна ненавидит своего дядюшку. Она сделает всё, чтобы люди забыли то время, когда правил он, и его сын.
— Вы имеете уверенность в том, что она будет слушать вас?
— С ней легко договариваться. Мы беседовали несколько раз и прекрасно поняли друг друга. Да, грядут перемены, нам придётся позволить ей почувствовать власть. Но эту власть мы будем контролировать.
Герман о чём-то задумывается, рассматривая положение дел на своей стороне доски. Создаётся упорное впечатление, будто канцлер недоговаривает. Откуда столь непоколебимая уверенность? Спокойствие? Борис Фёдорович невозмутимо выжидает, когда будет сделан следующий ход, даже взглядом не торопя, как обычно бывало.
— Ходит слух, что народ недоволен. Много вопросов. Почему не дети дочерей императора Петра? Более того, настроения указывают на Елизавету Петровну. Её хотят видеть, как единственную правильную наследницу.
— Этому не бывать! — спокойствие смывает волной, однако же в отличие от Апраксина, Герман спокоен, потому что неприглядная правда не выводит его из равновесия. Немцы чертовски практичны и бесчувственны. — Ты же помнишь роль короля? Пустая роль. Бессмысленная. Король — слабак. Королём нужно управлять. Елизавета Петровна никому не позволит управлять собой. Я был бы рад избавиться от этой спесивой девчонки, но сейчас у меня более важные дела, — выпаливает он на одном дыхании, крепко сжимая подлокотник кресла. — Тем не менее, если появится возможность, я выскажу свою поддержку. Она помнит своего батюшку и брата, а следовательно, будет продолжать их политику. А я сыт по горло Романовской надменностью!
— Я тревожусь лишь за то, чтобы ваша протеже не оказалась точно такой же. Вы сделали ставку на сильный характер. Вы должны быть уверены, что она на вашей стороне.
— Она на моей стороне. Я её позвал на свою сторону. Здесь ведётся игра по моим правилам.
Борис Фёдорович делает свой ход.
Тем временем Сенат готовится признать Софью Михайловну Романову законной императрицей, разве что с каждым разом всё более совестливо добавлять «по воле Божьей», словно всегда был тот, кому корона принадлежит по праву. И те, особенно совестливые люди, непременно задумывались, где стоит поискать. Некоторые знали определённо точно, но не успели сделать своего хода, так как Борис Фёдорович позаботился о престоле ещё до того, как была объявлена новость, то ли удручающая, то ли радостная. Его ходы пешками были продуманы заблаговременно, и лишь потому не добрались до Елизаветы Петровны люди, желающие видеть на её рыженькой головке корону весом в два килограмма. Больно тяжела. Но дочь Петра Великого могла бы и осилить.
Поделиться102024-04-13 22:49:37
в куски разлетелась корона
[ нет державы ♰ нет и трона ]
Она освоилась при дворе за крайний срок, словно была рождена для того, чтобы однажды оказаться здесь, на своём законном месте. Верно, окажись её отец сильнее, хитрее, чем ненавистный дядюшка, занимала она бы данное положение совершенно справедливо. Тогда бы оды слагали в её честь. Нынче слагают в честь сестрицы, Бог весть куда запропастившейся. Найдём, сыщем, присматривать будем. За отпрысками дядюшки следует присматривать, особенно если расползаются тревожные слухи, мол г в а р д и я оказывает ей милость и поддержку. Бог с ней, у неё, равно как у канцлера Империи, ныне дела поважнее. Она совершенно не та особа, которую ждали. Она не из той ветви Романовых, какая снискала народную любовь и обожание. «Потому что ты слабак, батюшка», — бранит она картину, написанную каким-то итальянским художником, едва выдерживая контакта с нарисованными глазами, выражающими явную слабость. Отсутствие блеска. Становится ясно, отчего же не смог, отчего же весь его род ныне страдает. Слабый человек. Она — сильная. Она докажет, что на другой стороне одной реки тоже властные личности обретаются. Бедность наконец-то отступила. Первым делом потребовала Софья Михайловна варенья к чаю, довольная тем, что не пришлось выслушивать жалкое «так это всё, что осталось в погребе, барыня». Вторым делом она почувствовала тесноту, словно стены дворца давят, не позволяют полной грудью вдохнуть. Нет, определённо её свободу кто-то в тисках удерживает. На первое заседание Сената не пропустили, — теперь гадай, отчего же, новоявленную императрицу не пущают туда, где ей самое место. Коронацию отодвинули на лето, будто при дворе нужно само существование безжизненной фигуры, а принимать решения будет игрок. Софья Михайловна, женщина не глупая, смекнула быстро, что играет всеми не кто иной, как Борис Фёдорович. Сперва прильнула волна злобы, от чего она раскраснелась и горничная, дурёха, спросила не надо ли позвать лекаря. Горничные все дурехи, однако же куда более дурные фрейлины, с которыми предстоит познакомиться, — целый штат, солдаты в юбках, не иначе. Только хорошенькие и глупые. А после она призадумалась, что вспыхивать опасно, пока не разведаешь обстановку при дворе. Каждому ясно: Россией правит канцлер. Впрочем, наступит то время, когда Россией станет править императрица. Покамест следует заняться сторонниками, а самые выгодные сторонники те, кто много знают.
Она расхаживает сгорбившись, по комнате, якобы по рабочему кабинету, который совсем не выполняет должных обязанностей. Потирает извечно холодные руки, иногда отвлекаясь на покусывание большого пальца, — совсем не императорская привычка, ногти-то грызть. Дёгтем пальцы смазывать всё одно что Васька слушает, да ест. Попусту. Когда лакей в затасканном парике (а её вдруг непомерно раздражает всё с т а р о е) сообщает имя пришедшего человека, мигом неуклюже падает в кресло, пытаясь придать себе хотя бы какой-то царский вид. Выпрямляет спину, вскидывает подбородок, да только всё одно угадывается в ней деревенская баба, привыкшая гусей считать по головам да крепостных гонять по грязным дворам.
— Ну здравствуй, Яков Федотович. Спасибо что явился, не заставил ждать, — протягивает руку, обрамленную пеной дорогих кружев. На царские наряды не поскупилась, да и кто станет запрещать императрице наряжаться? Говорят, цесаревна наряжаться тоже любила, пока не нарядилась в чёрное. А что же теперь? Теперь очередь дочери Михаила Романова наряжаться. На пальцах перстни сверкают дорогими камнями. Впрочем, одно с изумрудом досталось от батюшки, единственное что удалось сберечь из драгоценностей. Теперь напоминает о цели её предназначения. Быть может, спалить к чёрту дворец? Не таким уж безумцем был Васька, когда подобные идеи выдвигал. Гори, гори, гори! За все страдания!
— Ваше величество, — звучит сладко, точно ложка душистого мёда, а руки едва касаются сухие губы. «Точно! Величество! Так и должно быть!» — восклицает внутренний голос. Яков Федотович отходит, опираясь обеими руками на трость и ждёт, ждёт, глядя на неё невозмутимо.
— Слышала, наш почивший император, упаси Господь его душу, хотел от тебя избавиться. Да не позволили, и не зря, — она впрочем, очень ловко подхватывает широкую фарфоровую чашку с блюдца, собираясь всем видом и действом доказать, что занимает место на троне по праву, что не робеет, вовсе не одичавшая, деревенская баба, какой некоторые успели прозвать. Она во дворце не более месяца, а за спиной уже шепчутся. Змеиное гнездо таковым и останется. Пока его не разогнать, не спалить, или змей выдрессировать стоит? Не об этом сейчас!
— Так и есть. Я ведь, не удел был, пока наш император здравствовал, — ответствует он спокойно, впрочем тоже не робея, не испытывая благоговения или страха пред царской особой. Поди разбери, где теперь особы царские. Царские ли?
— Так вот почему мою сестрицу воротить никак не могли. Плохо без тебя работают. Что же, мой дорогой, пора возвращаться, — стреляет тёмными глазами загадочно, пряча улыбку за ободком чашки. — Ты же понимаешь, я здесь недавно, знать всего не могу. А вдруг за спиной заговор какой зреет? Недовольные всегда найдутся. Заговор против императрицы, поставленной самим Господом править, — бесстыдно произносит эти слова, ощущая лживость на вкус, и чай сладкий делается терпким, горьким. Ложь. Господь отвернулся от этой страны вовсе, и данную истину понимают в с е. — Я хочу, чтобы дела моего великого дядюшки продолжались, — ещё одна л о ж ь, — это ведь, его детище. Иными словами, прими мой первый императорский указ. Всех найти. Все опасности устранить. Даю тебе полную власть действовать от моего имени. Уж в тебе я не сомневаюсь, и на тебя полагаюсь, — свой первый приказ венчает улыбкой, а в глазах появляется блеск, озорство, нетерпение. Хочется почувствовать запах крови железистый, какой чувствовала тогда, перед изгнанием. Они разумеется, понимают друг друга. Он понимает. Он умеет работать, однако же данное умение не исключает рассудительности и здравости. Здравый рассудок подсказывает, что крови невинной прольётся много. Царственные особы склонны видеть заговор там, где его нет. Цель Тайной Канцелярии не раскрыть заговор, а предотвратить, чтобы об этом помышлять боялись. Он склоняется перед ней, достаточно влиятельный и бесстрашный для того, чтобы остаться безмолвным. Такова работа: меньше говорить, больше слушать.
Яков Федотович Шаховский, глава Тайной Канцелярии, человек таинственный, как предписывает должность. Вокруг него вьются загадки, слухи, домыслы, выдумки. Словом, общество потрудилось над образом, а он не стал отрицать. Надо сказать, возраст не позволяет кланяться достаточно глубоко, да того и не требуется. Все царственные особы относились к нему снисходительно, отмахивались руками и отправляли работать. Правда, последние два государя едва ли прибегали к его услугам и всерьёз стремились к тому, чтобы данное учреждение упразднить. Страх, кровь, смерть, — это не оплот хорошего будущего. Быть может, так размышлял первый, а второй попросту боялся этого места, после того как провёл ночь в холодных застенках. Батюшка воспитывал. Колени болят, хрустят, будто все косточки перемолоты. Хромает безбожно. Здоровье убито, сломлено, но дух вечен. Он не любит бессмысленных жертв, подвешенных на дыбе, однако же часто наблюдал таковых. Он всегда хорошо выполнял работу, да только не питал той кровожадности, которая наблюдалась у предшественников. Ему хотелось изобрести систему, которая станет следить за порядком и приносить пользу, а не искалеченные тела, чаще всего бездыханные. Много, много невинных. Судьба распорядилась иначе. А впрочем, он не верит в судьбу. Потеряв всё, что имел, Яков Федотович потерял и живое сияние в глазах, запальчивость, жажду справедливости, веру в то, что систему возможно усовершенствовать. Не пришло время для просвещения умов. Не пришло. Однажды придёт, только с такими проблемами едва ли он доживёт. Дух стальной, непробиваемый, иначе не вынести такой службы, а оболочка ей богу, слабая. Какова ирония! Просидев немало лет в своей конуре, изучив немало дел и документов, ковыляет он теперь прочь из императорского дворца, готовый взяться за дело. Императрица не желает отковырять какой-нибудь заговор, вовсе нет. Она желает избавиться от каждого, кто помнит прошлое, кто состоял в близких отношениях с царственными особами. Не приведи Господь, они скажут что раньше было лучше и тогда дурные настроения как болезнь, мигом расползутся по всей столице, а дальше и по всей стране. Он должен помочь императрице создать новое окружение, из людей, которым не было позволено возвыситься. Он, разумеется, выполнит свою работу. Соберёт долги, наведёт порядок и уйдёт на покой.
[indent]
***
Кирилл осторожно закрывает за собой дверь, будто боится потревожить покой в этом доме. Приваливается всем телом к косяку, давая себе пару минут чтобы отдышаться и согреть чертовски раскрасневшийся нос. Вслушивается в тоскливые завывания ветра. Где-то несчастная ставня бьётся, брякает, грозясь рано или поздно отвалиться, — даже дворцы разваливаются. Даже дворцы. Удивительно скоро дом начал пахнуть домом: дубовыми поленьями, травяным чаем, мёдом и какими-то душистыми кремами, образовавшимися на Лизином трюмо из позолоченного дерева. Впрочем, он теперь знает точно: дом — это такое место (совершенно любое), где она расчесывает волосы перед сном, беспардонно врывается на территорию кухни и пачкается в муке, засыпает на кушетке с книгой, укатанная в ворсистую шаль, расхаживает в одних сорочках и обязательно встречает его, падая в объятья. Настоящий дом. От мыслей согревающих в уголках губ затаивается улыбка и он берётся снимать плащ, впитавший растаявший снег, прежде чем подняться по лестнице.
Матушка возмущалась долго и неугомонно, безутешно, то и дело отбрасывая отцовскую руку, несмело ложащуюся на плечо. Безутешно возмущаться, — это когда в глазах чуть ли не слёзы, голос грозный, и никакие здравые доводы не способствуют переубеждению. Кирилл затеял беседу без присутствия Лизы, предугадывая попытки отговорить, от которых могло стать только неловко. Они решили, решились, в ближайшее время ехать в Петербург и оставаться в оном, пока не отпустят со службы. Менее всего хотелось снова подвергаться сомнениям. «А если что-то случится? Да как же вы без меня… без нас! А если ей нужен будет совет? Первый ребёнок, думаете это в игрушки играть?» — и прочее в духе весьма убедительном. Она волновалась безмерно, пока не заметила непроницаемое выражение и решимость в глазах. Надо сказать, такой решимости, присущей взрослым мужчинам, она ранее не видела. Сыновья однажды взрослеют и они вовсе не дочери, которым можешь раздавать советы до своего смертного часа. Нет-нет, Кирилл определённо точно решил, что заберёт Лизу. «Мы будем писать», — постарался он успокоить Аглаю Владимировну, прежде чем та опустилась в кресло и зачем-то разрыдалась. Находиться меж двумя женщинами куда более невыносимо, чем меж двумя огнями, — с таким выводом он выходил из родительской спальни, оставляя батюшке утешать и обнимать. Единственное, перед чем не смог устоять, — матушка настаивала взять с собой Веру Дмитриевну, так как «неизвестно кто будет о вас заботиться в этом жестоком месте!». Вере Дмитриевне предстояло поладить с людьми, отведенными во служение цесаревне, ведь негоже её совсем без внимания оставлять. Знакомство особым успехом не увенчалось, даже прислуга (хотя Веру Дмитриевну и прислугой считать грех) в столице и провинции разнится. Столичные, они гордые, задирают носы, особенно те, кто служил при царских дворах. Что же, хозяйство теперь целиком и полностью было отдано в руки Елизаветы Петровны, каким бы скромным оно ни было, в сравнении с былыми временами. Да и едва ли в прошлом ей приходилось о хозяйстве хлопотать. По меньшей мере, каши на завтрак не были подгоревшими, а в комнатах и коридорах всегда был порядок, паркет блестел от чистоты.
— Елизавета Петровна уж поднялась почивать, — на лестнице возникает полноватая фигура Веры Дмитриевны. Звать цесаревну обычным именем она не решается в стенах этого дома, словно петербургский воздух не позволяет. Здесь она взаправду «Её Высочество», трудно простому человеку переучиться. — Поздно ты, Кирюшенька, — зато Кирилла звать можно как угодно, потому что иного он и не потерпит. Пропускает слабую улыбку и вежливо поблагодарив, спешно поднимается дальше. Громоздкие часы доказывают что и впрямь, уже поздно. Хороший муж, ничего не скажешь, — ругает самого себя, доходя наконец до двери спальни, которая никак не утвердится в статусе «супружеской».
— Не спишь? Поздно же, — оказываясь в тепле натопленной комнаты, чувствует запах улицы и холода, которые принёс вместе с разнообразными новостями, хорошими и не очень. Волосы взъерошенные едва вьются от растаявшего снега; руки постепенно согреваются от влаги и сырости столицы. Но сперва, стянув влажные перчатки, опускается возле неё на колени, обнимая за талию, — уже привычное, неотъемлемое действо каждого дня, или скорее вечера. Петербург нещадно крадёт счастливые часы, которые могли бы они проводить вместе в тишине и покое. Прижимается ухом и щекой к животу, замирает в тщетных попытках что-нибудь услышать / почувствовать. И вот очередной раз, когда желанного / долгожданного не получает, делая игриво-недовольную гримасу с нахмуренными бровями.
— И сегодня ничего? Совсем ничего? — поднимает взгляд полный надежды, оставаясь в прежнем положении. Матушка смеялась и просила оставить Лизу в покое, ведь рановато ещё, а ему упорно кажется, что их ребёнок особенный и должен себя особенным образом проявить. Иначе быть не может, ведь они, его родители, тоже особенные. Похожей судьбы точно не сыскать во всей стране. — Наверное ко мне ещё не привык, — пожимает плечами, находя удовлетворительное отчасти, оправдание. Прижимается губами к животу крепко-крепко, зажмуриваясь, — быть может, так быстрее зашевелится. И только после самого главного поднимается с колен, снова глядя на часы. Лиза его ждала? Лиза умеет ждать. Слава Господу, никто не знает, сколько ещё ждать придётся.
— Говорил сегодня с Дмитрием Яковлевичем, — теперь в мундире становится жарко и тесно; говоря откровенно, от мундира он успел несколько отвыкнуть, мундир обязывает, навязывает неизменное офицерское чувство долга. Этого Кирилл втайне боялся, однако же и письмо оставить без внимания не мог; стало быть, ничего не оставалось кроме как вернуться. А дальше… дальше он решил, что ничего не станет утаивать от Лизы, — малое возмещение тех тайн, которые до сих пор под десятком замков хранит. Сперва стягивает кафтан, пропахший зимней улицей и соломой, — верный признак того, что в казармах побывал. — Он конечно, обрадовался, как положено любому отцу. Расстроился когда я отказался назвать имя невесты. Долго ли нам удастся прятаться? — снова это слово звучит между ними, на сей раз не сотрясает воздух, вылетает и растворяется, незначительно. От пряток теперь не больно, не страшно. Не прятаться нельзя. Князь Вяземский, с которым Кирилл имел честь снова беседовать, предостерег, будто чувствовал неладное, дышащую в спину опасность. И думать не хотелось о том, что они снова в какой-то опасности.
Петербург встретил обыкновенно, не радушно и радостно, не угрюмо и злостно, — обыкновенно. Он продолжал плыть в зимней серости, утопать в темноте от накрывающих плотных туч. Блестящие мостовые от вечной влаги, холодный сырой ветер, словно чернила развели в каналах и Неве, — чёрная вода, взволнованная ветром. Снова столица замерла в ожидании, ведь нашептывают перемены, говорят, засияет былой славой. А впрочем, не столько радостное ожидание, сколько боязливое, недоверчивое. В подобное время все предпочитают оставаться дома, в натопленных гостиных, дабы лишний раз не попадаться на глаза рыщущим «крысам», — ритуал при смене власти, что общество наконец уяснило. Посему, приезд их не ознаменовался чем-то особенным и остался незамеченным. Говорят, новоявленная императрица только готовится к грандиозному переселению. Планы несколько отягощает недобрая погода, то ветра, то дожди, то заметённые или размытые дороги.
— А впрочем, оно и к лучшему, — слетает платок, крепко опутывающий шею и он наконец свободно дышит (а может, свободно потому что рядом с ней). — Ежели в гвардии узнают, от меня живого места не останется, — усмехается весело. Братцы цесаревну любят. Быть может потому на дух не переносили Василия Борисовича, — ревность дурманит и отравляет умы. Кирилл разумеется, шутит. Они оба знают, знают на каком-то уровне безмолвного понимания друг друга, что должны проявлять осторожность. Дело встало всего лишь за формальностями, едва ли им нужно громкое, роскошное празднество при всех традициях.
— Порадовался, благословил на словах, а потом лицо вдруг сделалось хмурым, задумчивым. Мол, выбрал же ты время чтобы личное счастье устраивать, — осторожно сложив на стуле половину снятой одежды, отвлекается от раздевания и подходит к маленькому круглому столику, где поднос со стеклянным графином. Иногда кто-то из невидимой прислуги или сама Вера Дмитриевна оставляют графин с тёплым вином. Не лучший ли способ согреться зимними вечерами? Они здесь недолго, а уже походят на семью с устоявшимися правилами, привычками. — А когда будет время? Как по мне, никогда, — делает глоток из бокала, а вкус совсем не терпко-дымчатый, заставляет недовольно поморщиться и чуть ли не плюнуть обратно в бокал. Сок то ли смородиновый, то ли сливовый, непомерно сладкий. Недовольство сменяется глубоким огорчением. Отставляет бокал, сохраняя тактичное молчание. Но лучше бы поставили вишнёвый и пожалели сахару, не самый легкодоступный продукт.
— Отпустить меня не может, никак. Говорит, если тебе нужно письмо с разрешением для батюшки, придётся пообещать, что останешься. Может стоило о ребёнке сказать? Я не сказал, иначе чёрт знает, — пережив недолгое разочарование, берётся неторопливо расстёгивать пуговицы камзола, — что ещё придумают. Ну, пришлось кое-как согласиться, иначе с чем же мне идти к батюшке?
Таково условие из многих, что офицер обязан получить разрешение руководства. Кирилл решил следовать уставу, делая долгожданное событие чуть менее секретным. Иначе, скорее всего грызущая совесть не позволила бы спокойно спать. Дмитрий Яковлевич, ожидавший отъезда в Ревель, но никак не в счастливую семейную жизнь, глядел так, будто прощается с умирающим. Оставалось благодарить Бога за то, что Волконский отходит (в мир иной) в приличном возрасте, дослужившись до более-менее приличного звания. Бывало ведь и хуже, бывало. Бывало, отправляли в обыкновенные солдаты, на самое дно молодых офицеров, нарушивших устав — женились, детей рожали раньше положенного времени. Никаких причин для того, чтобы не составить рекомендательное письмо не было, невзирая на грядущие перемены в государстве. Братцы поздравляли шумно, дружно, радовались, произносили тосты, распивая запылившуюся бутылку вина, а стало быть лучшего, выдержанного. Но самое главное: получить бумагу и отправиться дальше устраивать собственное венчание.
— Полки переводят обратно в Петербург. Наш полк… за время царствования Василия Борисовича развалился, — наконец оставшись в просторной рубашке, опускается в кресло, посматривая на графин так, будто тот его жесточайше предал. Не самое подходящее время для бесед, быть может. С иной стороны, ему не кажется, что Лизе слушать о положении дел в городе, а особенно в войсках скучно. Она ведь, дочь своего отца, чего не отнять. Более того, поселяется в душе недоброе копошащееся чувство. Императрица только взошла, а уже собирает в одной точке всю военную мощь. — Вот и генерал-адъютант наш, дескать, нужны вы мне, ребятушки в это непростое время полк поднимать. Стыдно перед императрицей. И что мне делать? — находит Лизу своим виноватым взглядом, словно совершил нечто непростительное. Женись, но служи, иначе нельзя. А ему ведь так хотелось совершить нечто значимое, самоотверженное во имя любви и семейного долга. «Мужчина должен служить», — твердил Андрей Григорьевич несмотря на упущения и сожаления касательно семьи.
— А наш батюшка Митрофан тот ещё чёртушка, — улыбается одной из особенных улыбок — плутовски и ехидно, едва веря в реальность происходящего. Оказывается, обвенчаться — предприятие сложное, когда не улаживают дела родители вместо тебя. — Любая тайна чего-то стоит и понимай как хочешь. Я бы на него доложил, но бережёного Бог бережёт, может быть, — Бог берёг их плохенько, а теперь будто пересмотрел своё отношение. — Подумать только, через что мы прошли, а теперь какой-то незначительный человек отказывается нас обвенчать. И пусть, — добавляет бодро, перемещаясь из кресла к Лизе. Ловит её руки, оставляя поцелуи на ладонях. — Нашёлся другой человек и я обо всём договорился. Поэтому пришлось задержаться. Он нашёлся в самый последний момент, — говорит будто украдкой, будто кто-то подслушивает, а всего лишь захотелось добавить какой-то таинственности и особенности моменту. — Лиза, — сжимает её руку в своей, глядя в глаза, — служба уже никогда не будет моей жизнью. Ты — моя жизнь, — произносит почти умоляя себе поверить, ведь такова п р а в д а. Она, только она — всё, чему он готов отдаться без остатка. — Через неделю мы обвенчаемся. Наконец-то, — улыбается счастливо, но шустро прячет лицо и заодно улыбку, утыкаясь в её колени.
[indent]
***
я и д у в н о в ы й д е н ь у т е ш а я с ь т о л ь к о л и ш ь т е м
ч т о о с т а л о с ь м н е е щ е чуть-чуть
дарья виардо ° бог в меня верит
В темноте вечерней, морозной, неподвижны костлявые дубы. Над верхушками оголённых ветвей и вечнозеленых елей, пахнущих колюче, россыпь замерших в тревожном ожидании звёзд. Недостаточно вознестись до небес, охватить взором всю землю, чтобы отвратить беду. Такова участь каждой звезды, — беспомощно наблюдать. Быть может, потому они срываются, стремясь к обитаемой планете, месту жестокому, беспощадному и вместе с тем, прекрасному. Она любит звёзды и будучи маленькой, глупенькой девочкой, была уверена в том, что однажды засияет. Однажды превратится в звезду. Тихими в полной мере вечера не бывают: лает без умолку собака, стучат копыта лошадей о мостовые, переливающиеся сиянием фонарей после дождя (зимы отвратительны в Петербурге), громыхают изредка проезжающие экипажи да повозки, заливается в песне малиновка, нашедшая приют на голой ветке, в сиянии желтого света. Она сидит подле раскрытого окна, вдыхая стылый, колючий воздух, остужающий комнату пуще прежнего. Простудиться не страшно? Отчего-то ей не желалось переодеваться после ужина, который прошёл в одиночестве. Разумеется, в одиночестве, ведь последнее, что осталось от семейства, — братья, праздно проводящие время в известнейших питейных заведениях столицы. Сперва они хоронили своего императора, чьё расположение предписывало безбедное и славное будущее, затем заливали винищем якобы горе и тоску по безвременно ушедшему товарищу, и наконец, они почуяли дыхание скалящейся опасности. Те, кому не чужда история (а таковые едва ли найдутся в кругах высших), осведомлены о последствиях близкой дружбы с венценосными особами. А что дальше? Одна особа уходит, ложится в гроб, облачённая в мундир и незаслуженные ордена, другая — приходит с намерением вырастить собственных птенцов, преданных и не запятнанных, не помнящих времён, которые посмели бы назвать хорошими. Фавориты — всё одно что волны, которые ветер выбрасывает на берег и отбрасывает обратно, топит в море. Они не вечны. Не потому ли ей не захотелось одеваться в домашнее? Не потому ли, что томится целыми днями подле окна, ожидая неизвестно чего? Ожидая смерти? Давно перестала считать бессонные ночи. Давно перестала выходить дальше небольшого парка, которым обнесено столичное имение Голицыных. Появление в обществе равнозначно унижению по собственной воле. То и дело слышатся тихие голоса позади. При дворе многое переменилось: многих больше нет, словно надели новые маски, поменяли кукол / пешки, — новые, незнакомые лица, моментами и старые, забытые несправедливо. От многих придворных избавился покойный Василий Борисович. Теперь они оправданы, восстановлены в званиях и чинах, щедро одарены за ненависть к правлению, канувшему в лету. Они не станут бунт учинять, не станут откусывать руку кормящего. Они безопасны. Однако, почувствовала она истинный страх, когда заметила отсутствие многих хорошеньких лиц фрейлин, многих подруг, что значило — пощады никому не видать. Не посмотрят, что девушка. Девушка с неправильной фамилией. Многие ведь девушки принадлежали к знатным семьям — дочери, внучки, сестры, племянницы. Семьи служили ещё при батюшке Петре Великом, при Александре Петровиче, — их наследие неизбежно рушится, и дело вовсе не в том, что удаляют от двора отпрысков фамилий. Рушится всё, что было создано трудом. От былой славы остаются лишь крупицы. Единственное, в чём они похожи, последние самозванцы на троне, — оба варвары. Каждый вечер гнездятся в её голове тяжёлые думы, совершенно не подходящие молодому, румяному, некогда живому лицу. Она ведь могла плясать на балах, веселиться, пользоваться вниманием кавалеров ещё долго, пока не приглянулся бы тот самый, полюбивший не за приданое, а за бойкий нрав и любовь к чтению книг. Ей бы жить, жить, жить! А она, сгорбившись в кресле, вышивает тусклый рисунок на светло-сером полотне тёмно-серыми шелковыми нитями. Прерывается только для того, чтобы перекреститься, помолиться, прислушаться к звукам безветренного вечера. Покойно сегодня да недолго.
Возвращение братцев сопровождается шумом, от которого хочется сбежать, будто бы они навлекают ещё большую беду своими пьяными возгласами. Ксюша откладывает пяльца на широкий подоконник. Ушёл свет. Пальцы исколоты до крови — она и не заметила. Корсет не позволяет вдохнуть. Прикладывает ладонь к животу, ощущая дурноту, поднимающуюся от живота к горлу. Невмоготу более сидеть, ждать, прислушиваться к жизни за стенами дома. Любая мимо проезжающая карета чудится арестантской. Любой голос мужской, — голос офицера. Поднимается с кресла, а голова незамедлительно идёт кругом. Кружится расписной потолок, кружатся ангелы с пальмовыми золотыми ветвями. Ей бы улететь к ним. На кремовых кружевах едва заметны красные капельки. Крепко держится за спинку стула, пока не отступит головокружение и тошнота, а после начинает, едва ноги переставляя, ходить по комнате, глубоко дыша. Лучше бы она не знала, не знала что однажды за ними явятся люди в чёрном и офицеры в мундирах. Лучше бы случилось это неожиданно, тогда последние часы, минуты провела бы как полагает молодой девице, — в праздности. Верно говорят, беда в знании, а тот кто знает меньше и спит крепче. Ксюша знает и расплачивается каждую минуту. Впрочем, минут остаётся не много. Снова слышится стук копыт и значительно ближе, нежели обычно. Останавливается посреди комнаты, продолжая держаться за живот, схваченный приступом тупой боли. Выпрямляет спину, походя теперь на ровную доску, — неизменное чувство, когда корсет затянут не в меру. Кто-то спешивается, раздаётся топот сапог, звенят уздечки. Гостей они давно не ждут и не принимают. Их дом десятыми дорогами обходят люди знающие, желающие ещё жить или уважающие своё положение в обществе. Разве что беднякам всё одно. Вздымается грудь от тяжёлого дыхания. Глаза делаются тёмными камнями — непроницаемыми. Почуяла. Как знала, что сегодня случится. Закончатся страдания.
«Именем Ёе Величества, самодержицы Всероссийской, за участие в сговоре немедленному аресту подлежат: князья Голицыны Григорий, Николай, а также княжна Голицына Ксения». |
Ксюша слышит твёрдый голос солдата, зачитывающего высочайший указ с листа бумаги. Щиплет глаза, она вся мелко дрожит то ли от холода, то ли от страха. Её комната в самом дальнем углу, а следовательно, за ней придут в последнюю очередь. Братья не упираются, знают ведь, что виновны и будто бы радуются тому, что наконец-то явились по их души. Арест как доказательство того, что близки были с усопшим императором. Пусть об этом всякий знает. Их же развязанные языки погубили фамилию. Погубили её жизнь. Болтали о том, что новая императрица — баба базарная, которой в столице нет места. Никто не станет разбираться в том, что Ксюша братьев не поддерживала. Она — Голицына. Проклятая. Слышит как раскатываются под высоким потолком их пьяные, весёлые голоса, как причитает старик Прохор, прослуживший всю жизнь верой и правдой дому Голицыных. Последнее, что она слышит в родном доме. Несправедливо. Несправедливо! Не станет плакать. Не увидеть им слёз, не получить такого удовольствия. Вскидывает подбородок, закусывает губу нижнюю до железистого привкуса на языке, лишь бы сместить собственное внимание. Она первой выйдет к ним и покажет, что ничего не боится. Делает несколько шагов и они кажутся многими верстами. Распахивает дверь, представая пред господами офицерами не дрогнувшей, не сломавшейся. Осматривает их холодным, высокомерным взглядом. Офицеры нашлись не глупые, не хватают под руки, не подгоняют в спину, напротив позволяют идти позади. Впереди длинный коридор и мимо проносятся воспоминания. Когда-то здесь звучал смех. Когда-то была жива мать. Они любили мать, неизменно нежную и добрую, слишком рано покинувшую этот мир. Когда-то был жив батюшка, да только сгорела его душа в тот день, когда сгорело тело матушки. Не стало батюшки — не стало семейства Голицыных. Остались двое братьев в руки которых отошло небывалое наследство. Надо ли теперь учиться уму-разуму? Надо ли печься о чём либо, когда имеешь всё и даже больше? Их мечты, амбиции естественным образом сводились к жажде того, что невозможно приобрести мигом за деньги. Добиваться видного положения при дворе пришлось дольше, чем они хотели бы. И вот, к чему приводит то, чего они хотели. К смерти. Из Тайной Канцелярии только сильные выходят живыми, или же их выносят, бросают умирать в сырых камерах крепостей. Смолкает за спиной детский хохот, нежный голос матушки, поющий колыбельную, счастье, давно забытое брошенными на произвол детьми. Ксюша позволяет себе остановиться на пороге, не решается обернуться, зная что определённо расплачется. По щеке сбегает всего одна холодная слеза. Арестантская карета перед входом ожидает, когда поглотит в свою неприветливую темноту. «Проходить любой путь нужно с достоинством», — говорил батюшка. Ксюша точно не знает, быть может и на смерть верную идёт с гордо поднятой головой. Её встречает зимний холод, запах улицы и редкие капли дождя.
[indent]
***
т в о я л ю б о в ь п о д а в а л а р у к и ч т о б ы з а л е ч и в а т ь и м и р а н ы





твоя любовь в о з в р а щ а л а в д е т с т в о
т в о я л ю б о в ь лишь мое светило
А через неделю разбушевалась метель. Снегом замело Петербург. Образовались снежные горы, безбожно замело дороги, комья снега катились с крыш и представляли самую настоящую опасность для людей. Ночами завывала неустанная вьюга, то и дело хлопали где-то ставни, переворачивались какие-то предметы во дворе, кружились неистово в воздухе крупные снежные хлопья. Поселилась в сердце тревога: быть может, не стоит выходить Лизе из дома в столь дурную погоду? По дорогам продвигаться едва ли возможно, разве что на санях. Быть может, вовсе не судьба окончательно скрепить их узы и перестать вконец грешить. Но намерения оставались неизменными. Вряд ли испортившаяся погода могла теперь остановить. Было выбрано ночное время близкое к рассвету. Если уж тайно, то светлый день, ещё более светлый после выпавшего снега, совершенно не подходит. Кирилл отправился раньше, оставляя Лизу в заботливых руках Варвары Григорьевны (и кучера, который клялся доставить барыней целыми и невредимыми), — так и должно быть. Жених вовсе невесту видеть не должен, но в данном случае он видел больше, чем всего лишь свадебный наряд. Должно быть стыдно, да только никакого стыда Кирилл не испытывает; и раскаяться за свой грех искренне не сможет. Перед церквушкой предстояло расчистить заметенную подъездную дорогу, и нет сомнений, доверять он мог только своим друзьям, готовым как помочь, так и тайну схоронить.
В качестве поручителя (или свидетеля) остался Володя. Кирилл стоит на коленях перед алтарем, не чувствуя ни холода, ни сырости. Сбивается с молитвы в очередной раз, а сердце так и стучит гулко. Стоит полутьма, полыхают редкие свечи, едва освещая лики святых, где-то в стороне бродит священник. Воистину только Бог знает, о чём думает этот добросердечный, совершенно бескорыстный человек. Время то ли неумолимо бежит, то ли тянется мучительно. Слышится вой ветра: словно бы воет под ноты, то высоко, то низко. Эта ночь должна быть самой счастливой в твоей жизни, не так ли?
— Может, мы поторопились?! — подрывается он, оказываясь на ногах и начиная искать лихорадочно взглядом за что бы зацепиться. — Они уже должны быть здесь. Что-то стряслось? — выговаривает взволнованно, наконец обращая взгляд к притихшему, пригревшемуся около свечей Володе. — Нет, что-то здесь не так. Может, она передумала?
— Плохо дело, Кирилл Андреевич. Если она передумала, то я вообще мертвец. Но вы же не думаете, что говорите с мертвецом? — он будто издевается, а будто и прав, ведь столь сумасбродная мысль могла прийти только в нетрезвое, воспалённое сознание. Кирилл опускает глаза, щёки розовеют, спешно отворачивается, не желая быть уличенным в смущении. — При таковых условиях погоды хорошо, если они доберутся к рассвету.
— Давай вернёмся, а? Ну не могу я… она же… — хотел было проболтаться, вовремя запинается, кидая взгляд на батюшку, чей силуэт едва выделяется в темноте. — Она же женщина, и Варвара Григорьевна тоже.
— Не серчайте, Кирилл Андреевич, но чувство у меня такое, нужно подождать. Тогда вы убедитесь, что не совершаете ошибку. На всё воля Божья.
Кирилл хочет расхохотаться или по меньшей мере, мерзко ухмыльнуться. Если бы они полагались на Божью волю, то едва ли остались бы вместе или вовсе, в живых. Полагаться на кого-то, — звучит дико и возмущает до дрожи. Но призадумавшись, он решает отвести Богу ещё немного времени, ссылаясь разумеется, на метель. Расхаживает то из угла в угол, то кругами, подавляя порыв сорваться и мчать за ней, за Лизой. Плевать на венчание! Что за глупая затея, точно как в любовных романах. У него словно начинается жар, щёки краснеют, голова кругом, а перед глазами пуще прежнего темнеет. А если перевернулись где-то по пути и прямиком в сугроб? А если в реку? Если кучер не настолько надёжный человек, каким казался при свете дня? Не стоило разделяться, не следовало оставлять её одну. Совершенно не имеет значения, что она вовсе не одна. Дорога не столь длинная, но заплутать возможно, когда снег метёт непроходимой стеной, застилает глаза. Когда становится совсем невмоготу совладать ни с чувствами, ни с воображением, он замирает на месте и через мгновение бросается в сторону грузных дверей. Ясно то, что Кирилла не остановить, потому Володя не пытается, всё ещё полагаясь на волю Божью. А воля такова: он распахивает двери изо всех сил и перед глазами вдруг возникает её румяное, схваченное морозцем лицо. Перед его глазами стоит Лиза, заботливо поддерживаемая Варварой Григорьевной. Лиза. Его Лиза. Она не могла передумать, — это определённо бред сумасшедшего, горячка, что угодно только не правда. Стоит продуваемый ветром в дверях, смотрит на неё зачарованно, словно впервые видит. Впрочем, когда увидел впервые, смотрел подобным же образом.
— Лиза… — срывается с губ выдох облегчения. — Благодарю, Варвара Григорьевна, дальше я сам, — он выпрямляется и улыбается подставляя Лизе руку. Они проходят путь к алтарю вместе, как и весь тот путь, предшествующий сегодняшней ночи.
Кирилл замирает перед алтарем, поднимаясь на солею, словно впервые переживающий волнительную любовь мальчишка. После никто не посмеет заявить, что они друг другу н и к т о. Никто не разорвёт связанные пред Господом узы, — в чём он столь твёрдо убеждён, что судьба где-то заливается истерическим хохотом. Кивает вышедшему из темноты священнику, нехотя отпуская руку Лизы: начинайте, начинайте же скорее, батюшка. Их лица тускло освещает согревающий свет свечей. Он чувствует покой, проникается, как положено в святом месте. Ни страхов, ни сомнений, ни призраков, — свободны, наконец-то и окончательно свободны. Позади становятся Володя и Варя с белоснежными рушниками и обрамленными позолоченными рамами иконами. Продолговатые золотистые венчальные свечи в руках, как символ любви (хочется думать что не сгорающей) и оберег (быть может, не те свечи выбрали).
«Я, Кирилл Андреевич Волконский, готов жертвовать всем, что имею моей супруге Елизавете. Клянусь её любить, беречь, быть рядом и хранить верность в радости и печали, в богатстве и бедности, в болезни и здравии, до скончания веков». |
Они стоят рядом, настолько близко что плечом касается её плеча. Произнеся слова клятвы не дрогнувшим голосом, Кирилл переводит взгляд на её красивый профиль, очерчённый тонкой золотистой линией света. Любящие и счастливые, разве могли подумать в этот миг о том, сколь трудно бывает клятвы держать. Он стоит рядом с ней непоколебимо уверенный в том, что ни одного слова никогда не нарушит, ведь такое даже вообразить нельзя. Он любит всей душой, переполненной чувствами, любит всецело и пожалуй, безумно. Единственное, в чём может поклясться и чего никогда не нарушит, — признание в этой любви. Бог бессилен только когда любовь уходит, тогда что же случилось, господи? Разумеется, его душа наполнена тихим, но счастьем. Отводит взгляд едва улыбаясь отчего-то плутовской улыбкой.
«Венчается раб Божий Кирилл. Венчается раба Божия Елизавета. Господи Боже наш, славою и честью венчай я. Венчается раб Божий Кирилл рабе Божией Елизавета, во имя Отца, и Сына, и святаго Духа, аминь». |
Кирилл перекрещивается, делаясь вновь серьёзным с непроницаемым выражением лица. А ведь совсем недавно не верилось, что они ещё свидятся. Совсем недавно на его месте должен был стоять другой человек и венчание было бы вовсе не под покровом ночным. Нет, ты не станешь об этом думать! Перекрещивается дважды, негромко вторя священнику: аминь. Да будет так. После того, как на головы были возложены венцы, они трижды обходят аналой, что окончательно должно засвидетельствовать начало нескончаемого шествия рука об руку, вместе, рядом. По меньшей мере однажды они признают, что шествие впрямь бесконечное, и ежели вынудили сойти с этого пути, то не навсегда. Они окажутся сильнее, чем те, кто живут долгой, тихой и спокойной жизнью, пусть того и не хотели. А пока их ожидает такая же тихая жизнь. Более Кирилл уже не слушает речь священника, смотрит на неё в белом платье, — взаправду, предел самых смелых мечтаний.
— Я должно быть, сошёл с ума от волнения. Решил, что ты передумала, — шепчет чуть склоняясь к ней, а в глазах сияют отблески огоньков, плутоватые и живые. Находит свободной рукой её руку, бережно и нежно сжимая теперь. — Таким же образом я был уверен, что ты не появишься в моей жизни. Но ты пришла, — улыбается глядя на неё совершенно влюблённо, сияющими глазами, точно как в первые секунды их первой встречи. Делает глубокий вдох, вскоре возвращаясь вниманием и взглядом к священнику, дабы выстоять до конца и не растрогаться невзначай. Руку не отпускает.
Имена теперь записаны в книге. Навсегда. До скончания веков.
Они выходят из церкви в удивительную тишину и покой. Кирилл останавливается на крыльце, замирает на несколько тихих мгновений. Ни завываний ветра, ни буйной метели, ни хлопающих дверей и ставен. Кругом лежит белоснежный снег, схватившийся морозной коркой. В воздухе покалывающем легонько витают редкие снежинки. Ветви деревьев застыли покойно, чуть склонились под тяжестью сверкающей пороши. А ведь и впрямь, где-то за густым парком восходит солнце золотистое, лучами рассеивающее холодную синеву ночи. Ночь отступает, уводя за собой и неугомонную вьюгу. Взлетает с ветки рябины красногрудый снегирь — рассыпающийся снег звенит.
— Надо же, метель прекратилась, — улыбается таинственно, опуская взгляд на её лицо. — Сегодня будет наш первый свободный рассвет. Наш, — повторяет нарочито, чтобы решительно увериться: всё правда, всё происходит наяву. Боязно потревожить покой, в котором даже шаг будет слишком громким. — А мы ведь и встретились впервые в такой же день. Помнишь? Что же, после дождичка в четверг я тебя поймал, — улыбка делается совершенно довольной, ведь правда в том, что самая значительная, самая большая для него победа — её поймать, иными словами получить её любовь и остаться рядом до конца жизни. Вспоминаются невольно лесные погони, стучащее сердце, опьяненное каким-то азартом, упрямое и неотступное. Тогда он ей проиграл и проигрывает до сих пор. Лиза — его слабость и сила одновременно. А сердце пускается в пляс, вспоминая столь далёкий день. В глазах отражается сияние первых солнечных лучей, озорное, предвещающее нечто. Кирилл стреляет этим взглядом чёртушки в её сторону, прежде чем взять крепко за руку и потянуть за собой. Ей богу, наконец-то и вы впали в детство, Кирилл Андреевич!
Они оказываются в море снега, где столь легко утонуть, провалится. Снег хрустит, шелестит, звенит, — целая какофония волшебных, каких-то сказочных звуков. Снежков не слепишь, зато можно «брызгаться» и хохотать под этот сказочный звон, вконец растревожить низко склонившиеся ветви и птиц, чей покой нарушен громким смехом. Слышится хлопанье крыльев, чириканье, шлёпнувшиеся комья снега, разбивающиеся о наледь. При всём положении, да и неудобно бегать в зимних шубках и плащах, они всё же умудряются недолго поиграть в догонялки там, где снега навалило не столь много, что проваливаешься. Суть игры одна и неизменна — поймать. Володя и Варя тактично предпочитают остаться в стороне, и образуется между ними ожидаемая неловкость при которой молча улыбаются, словно подглядывают за тем, что не предназначается для чужих глаз. Кириллу и Лизе кто-нибудь и позавидует, — идиллия, какую ещё поискать надо. Так не бывает, так не должно быть, — решил кто-то.
Кирилл Лизу ловит и сразу же отрывает от земли, совершенно счастливый, кружит в одном вальсе со снежинками. Кружит долго — голова всё одно кружится от счастья. В воздухе звенит смех, — они впрямь как дети, разве что счастливые, любящие. Душа ликует, лицо светится этим счастьем, словно дней до и после не существовало / не существует. Ему хотелось бы, безумно хотелось остаться в сегодняшнем дне н а в с е г д а. Пусть этот день обещает и множество других счастливых, сердцу хочется ликовать и радоваться вечно, как сегодня. Он точно нарочно позволяет им свалиться в сугроб, недолго звучат остатки звенящего смеха, постепенно стихают и вновь наступает точно нетронутая, девственная тишина раннего утра. Дышит тяжело, чувствуя на груди самую приятную тяжесть. Разумеется, позволить ей упасть первой он не мог. Если бы, если бы в его силах было предотвратить все падения. Смотрит на её порозовевшее лицо влюблённо, стягивая перчатки с рук и прикладывая удивительно тёплые ладони к пунцовым щекам. Не успевая отдышаться, Кирилл нетерпеливо тянется за поцелуем, таким долгим и горячим, согревающим, пусть после беготни и падения в детство уже т е п л о. Стоило только коснуться её губ и они вовсе не дети, сходит с лица выражение беззаботно-озорное; находит серьёзное, взрослое, меж бровями пролегает складка — со всей серьёзностью и страстью он её целует, пока не начинает задыхаться от нехватки воздуха.
— Жена, — шепчет в губы, пропуская сквозь всё существо это осознание, казалось бы не новое, но приобретающее более глубинную суть. Теперь перед Богом — жена. — С этого дня и до гробовой доски, жена, — улыбается блаженно, окончательно расслабляясь и разваливаясь на снегу, который начинает подтаивать да мерзко проникать под меховой воротник плаща. Он ничего не чувствует кроме счастья и любви. — Моя, — произносит сбивчиво и упрямо тянется за вторым поцелуем, — теперь-то имеет полное законное право м у ж а.
[indent]
***
Сыро. Холодно. Страшно. Бесконечные тёмные пещеры, а не коридоры, с обшарпанными каменными стенами, по которым стекает неизвестного происхождения жидкость. Мелькают горящие факела. Хватают чьи-то костлявые руки, сжимают крепко, больно. Подол бежевого платья испачкался, — грязно-серое обрамление и прилипшая солома. Украшения сняли в первый же день: маменьки серёжки, ожерелье, подаренное отцом и шпильки, украшенные драгоценными камнями нежно-розового цвета. Волосы тяжёлые, чёрно-смолистые непослушно продолжают выбиваться из причёски, падая на лицо. Ксения Дмитриевна более не похожа на княжну Голицыну. Она вовсе обезличена. Никто. Быть может, ей присвоили номер или кличку, ведь надо как-то отличать арестованных. Она ничего не чувствует, когда проталкивают через дверь, бросают на деревянную, влажную отчего-то скамейку, как неживую, бездушную куклу. Схватившись за кусок бревна, дабы не упасть на пол, чувствует липкую влагу, поднимает руку и обнаруживает кровь на пальцах. Кровь вовсе не из-за заноз, вонзившихся под нежную кожу, кровь чужая. Усмехается безумно, потирая пальцы. Пришёл её черёд. За квадратным столом сидит человек в чёрной одежде. Видно, что не молод. Глаза спрятаны в тени чёрной треуголки. На кой чёрт ему здесь треуголка? Продувает старика? Ксюша умудряется веселится, несмотря на отвратительный запах. Запах пыток. Несколько дней в камере её подготовили. Как и доносящиеся вопли тех, кого пытали. Быть может, вопли её братьев.
— Что же, Ксения Дмитриевна. Наконец-то мы с вами встретились. Теперь зависит только от вас, как дальше пойдёт наше дело, — обращается к ней невозмутимо человек, такой же безликий, как она сама. У него не будет имени. Назовём его, скажем Горбун. Носить имена здесь никто права не имеет, как и зваться людьми, впрочем.
— Вы хотите услышать, как я подписываю смертный приговор для своих братьев? Этого не будет, — произносит она с улыбкой. Спесивая девчонка. — Я ничего не знаю и ничего не слышала. Вы должны были арестовать трактирщика, и то больше было бы пользы.
— Учить станете, как работать? Смелая девочка. Не каждый осмелится. Ну, смертный приговор ваши братья сами себе подписали, — он снимает треуголку, открывая глаза безжизненные, тёмные, впалые, страшные. Ксюша незаметно вздрагивает, от улыбки нахальной и следа не осталось. Можно ли ему верить? Провокация, точно провокация. А впрочем, на дыбе многие признают вину. Насколько сильны её братья? Всегда слабаками были. — Признаться честно, я бы хотел поговорить с вами о другом. Вы — очень ценный свидетель по многим делам.
— Что? — она снова улыбается, отвлекаясь от тягостных мыслей. Бдительности терять нельзя. Запутает её, заговорит, сама не заметит как подтвердит их виновность. При сестре они впрямь никогда не болтали, однако же она знает, какие разговоры велись во время попоек. — Так вы меня обвиняете не в одном деле?
— Вы состояли при дворе, многое знаете. Не станете же отрицать? Например, что связывало вас и капитана Преображенского полка, Кирилла Андреевича Волконского? — зачитывает с листа, будто запомнить имя и должность слишком сложно. Совсем старый Горбун. Ксюша замирает и на сей раз страх отпечатывается на лице. Впервые его имя прозвучало в застенках Ада. Быть может, неведомые силы оттягивали всего лишь неизбежное. Неизбежный арест. Внутри холодеет, пальцы белеют, ногти впиваются в кожу рук, оставляя следы-полумесяцы. Забывается, смотрит на Горбуна стеклянными глазами. Кирилл. Кирилл Андреевич. Его имя не должно звучать здесь. Самый безвинный человек, которого она могла з н а т ь. Она его знала. Горбун знает, что знала. Ксения Дмитриевна заходится в безумном хохоте, отмахиваясь руками. Хохочет то ли делаясь хорошей актрисой, то ли всерьёз сходя с ума. Горбун же наблюдает невозмутимо, слегка качает головой когда замечает порыв человека, находящегося за спиной княжны. Вероятно, тот самый человек, добивающийся нужных ответов.
— Вы что, право слово! Вы его видели? С в я з ь? Какая тут может быть связь? Он же… как дерево! Ну пробегал пару раз мимо. Мы не знакомы, — утирает слёзы, выступившие от истеричного смеха. — Я знаю его имя, потому что все дамы при дворе его обсуждали. Знаете, что самое занятое? Они спорили, была ли у него связь с женщиной или нет. Хотите послушать подробности? Фрейлина Атласова утверждала, что такое бревно не способно соблазнять и никто с ним спать не захотел бы… ах, вам что, скучно? Нет, послушайте, я тоже уверена в том, что никаких связей с женщинами там не было. Я всегда предпочитала галантных, опытных кавалеров.
Тем не менее, у капитана была иная страсть, о которой Ксюша чуть не проболталась. «Его волновала исключительно служба отечеству», — слова, способные погубить ещё одну жизнь. Зачем он понадобился Канцелярии? Её мозг пыхтит как хорошенько растопленная печь. И вдруг она понимает, что вина Волконского лишь в его стремлениях служить отечеству. Никому бы он не сдался, будь как офицеры, шныряющие на ночные свидания во фрейлинский флигель. Таки подставила. Подвела. «Отрубить тебе язык надобно, Ксюшенька», — произносит мысленно, а на лице ни следа недавнего припадка. Он был близок к Александру Петровичу — самая опасная нынче связь.
— Дружбу с покойным императором Александром Петровичем тоже станете отрицать? Близость к цесаревне Елизавете Петровне тоже?
— Извольте, я всего лишь княжна! — выкрикивает она обиженно. — Я не летаю так высоко. О связях этого человека не ведаю.
— А что так, братья с собой не взяли?
— Мой выход в свет состоялся позже, чем предполагалось. Я ничего не знаю.
Ксюша поджимает губы, играя девицу, чьи чувства оскорбили. Горбун же ёрзает на неудобной табуретке, пристально вглядываясь в её лицо. Толку от девицы не будет, а куда приткнуть? Братьев то ли в ссылку, то ли на казнь. Девицу видеть в столице не захотят, только настроение императрице подгаживать будет. Братьев, пожалуй, на казнь, — решает вдруг Яков Федотович. Девицу в ссылку. Друзей своих не выдаст и чёрт с ней. Волконский мелькает на листах, мелькает. Служил при императорских дворах, служил не отдалённо, а самим ординарцем, — должность, требующая доверия. Служил при Василии Борисовиче, что сбивает с прямого пути и вынуждает задуматься. Дурак, либо умный, а быть может, очередная пешка. Волконский нынче не мешает, вовсе исчез, да и за ним множество хороших дел числится. Герой войны, награждён, звание имеет достойное, безупречная репутация, которую портит всего одно обстоятельство. Не хотелось бы избавляться от хорошего человека, который также наивно верит в то, что перемены возможны. Яков верил, и вера его извела, вынудила людей калечить. Чувствует, что придётся. Чувствует, что стремления благородные, во имя Родины и долга, этого человека и погубят. Позже. Тогда хохотать и рассказывать развратные истории, от которых уши краснеют, никто не станет. Ксюша очень внимательно следит за бегающими глазами, приподнимается, пытаясь заглянуть в раскрытую чёрную папку. Ей бы убедиться в том, что Кирилла теперь не тронут. Иначе, сперва голову отсечь ей и только.
— Мы с вами побеседуем позже. Увести, — взмахнет рукой Горбун, сосредоточившись над чем-то своим.
[indent]
***
н о е с л и з а в т р а я п р о с н у с ь
значит Бог в меня верит
Первая ночь и первое утро в качестве законных супругов весьма особенны. Солнце светит второй день, снег покойно лежит на земле, на крышах, на ветвях деревьев, остро сияют в лучах золотисто-серебряные крупицы, иногда вовсе делающиеся радужными. Спальня ярко освещена солнечном светом. О течении времени Кирилл вовсе позабыл с того мига, как вышли они на крыльцо церкви. Тепло в постели и будить её вовсе не хочется, особенно после ночи (и разумеется, ты за это ответственен) проведённой как единое целое, теперь без стыда и греха. Стрелка часов должно быть, перевалила за десять часов. За окном замечает краем глаза нечто красным мелькнувшее. Присматривается, снова снегирь, — птицы, столь легко принимающие жизнь в неволе. Он слабо улыбается этому утру, этой птичке, стремящейся к тёплым людским домам. Прямо за окном ухает ком снега с ветки. А он лежит неподвижно, осторожно припав к животу Лизы. Неизвестно сколько проходит времени, быть может час или два, не заметил как проснулся и затаился в волнующем сердце ожидании. Вообразить невозможно то, что она могла остаться где-то в стенах монастыря и не просыпались бы они вместе; он бы не наблюдал за тем, как подрастает истинное чудо под её сердцем. Чудо, впрочем, упрямое и будто бы тихое. Кирилл снова и снова не соглашается, пророча ребёнку буйный характер. Потому что если девочка, то иначе быть не может. Она должна быть хулиганкой, бандиткой, чтобы вырвать у суровой, несправедливой жизни своё счастье. Кирилл слушает, боясь пошуршать даже одеялом. Т и ш и н а. Солнце заливает светом несколько коробок, сложенные подле окон. Некоторые друзья, которым они доверяют, отправили свадебные подарки, быть может в поддержку, чтобы эта свадьба хотя бы малость походила на остальные, обычные. Замечает проснувшуюся Лизу, поднимая голову и улыбаясь блаженно, точно объевшийся довольный кот.
— Экая тихоня у нас растёт, — даже не замечает, что определяет тем самым пол ребёнка, — полнейшая загадка, никакой уверенности быть не может. А он отчего-то уверен. — Я вот так лежу два часа и ничего, — прикладывает ухо к животу, убеждаясь в правдивости слов. Смотрит на Лизу несколько минут, разглядывает словно первое их утро, а на самом деле первое в качестве законных супругов. В конце концов, упрямый Кирилл не желает сдаваться, будто своим нежеланием можно поторопить естественные природные процессы. Столь упорно начинает покрывать быстрыми щекотными поцелуями её живот, то ли пытаясь вызвать её смех, то ли защекотать ребёнка, — ведь все боятся щекотки, даже не родившиеся дети. Сам глухо хохочет, крепко удерживая Лизу руками, чтобы не смогла вырваться. И вдруг случается ч у д о. Едва ощутимая волна, толчок, словно кто-то брыкается от недовольства. Кирилл замирает глядя на Лизу так, словно произошло какое-то немыслимое волшебство.
— Ты чувствуешь? Чувствуешь? — вопрошает с искренним, даже детским восторгом, вновь ухом прижимаясь к животу. Слышится какое-то тихое бурление и сопротивление, мол его маленькая дочь вознамерилась возмутиться. Папочка её уморил. — Я её слышу! Слышу! Получилось! — восклицает радостно, ощущая себя ещё более счастливым, чем прежде. Улыбаясь широко, тянется к Лизе и целует на радостях в губы. — А я не говорил? Правда не говорил? — чуть нахмуривает брови, заглядывая в её лицо, удерживаемое в ладонях. — Мне кажется, будет девочка. Но если быть девочке, то она не может быть тихоней. И вовсе не кажется, я уверен, я убеждён, как её законный отец, — разваливается на подушках рядом, мостится под её руками, поднимая вверх мечтательный взгляд.
Стояло солнечное счастливое утро. А потом они совершили ошибку.
Следовало остаться дома.
Единогласно сошлись на том, что прогулка на свежем воздухе в столь ясную погоду не повредит. Местами начинает подтаивать снег, что свидетельствует о некотором потеплении. Кирилл не стал долго спорить: Вере Дмитриевне и самой Лизе понадобилось что-то на рынке, а у него недавно заточенный острый палаш. Боятся будто бы и нечего, пока столица сосредоточена на громком въезде императрицы. Был взят самый неприглядный экипаж, — впрочем, иными они не располагали. Кирилл настороженно глядел в окно всю дорогу, иногда чуть задирая шторку, и теперь пристально осматривает улицу. В каждом прохожем видится необъяснимая опасность. Наконец он выбирается из кареты, оглядываясь столь грозным взглядом из-под опущенных бровей, что страшно должно быть окружающим. Ему бы в Тайную канцелярию на службу. Скопление людей поодаль настораживает. Очередная пьянка? Для Сытного рынка пьяные сборища да мордобои вполне естественны в тех местах, где скопление харчевен и питейных заведений. Однако, не успевает передумать лезть в карету обратно, или слишком поздно обращает внимание на едкое внутри чувство, успев помочь Лизе очутиться на свежем воздухе. Впрочем, не такой уж свежий воздух; здесь пахнет рынком, а следовательно, смесь тяжелая: разнообразие трав, рубленное мясо, только испеченный хлеб, соленья, тёплая еда и люди, которые пахнут далеко не всегда приятно. Вскоре добавится ещё один запах. Суета привлекает внимание и непонятным образом затягивает. Могли быть и уличные артисты, отчего же сразу драка? Слышатся голоса ребятни, детей, вроде бы смешливые. Представления артистов на рыночных площадях — зрелище весёлое. Тем не менее, чем ближе они подходят (какая-то непреодолимая сила дурного любопытства), тем меньше происходящее напоминает доброе веселье, скорее злое. Слышатся злобные выкрики, плевки летящие на землю, издевательский смех. Никто не обращает на них внимание. Все собравшиеся в плотный, большой круг, весьма увлечены. Здесь т а к о е происходит впервые. Нисколько не связанное с аппетитом и едой мероприятие.


×××
— Лиза, может не стоит… — хотел было повернуть назад, прочь от теснящей толпы, да только дар речи теряет когда перед глазами предстаёт полная картина, целая сцена и на ней действо. Сердце вдруг набирает обороты, колотится бешено, настолько громко что он перестаёт слышать крики толпы. Эшафот, самый настоящий эшафот посреди рыночной площади, залитой солнцем. Следовало Лизу увести тотчас же, но Кирилл проявляет непростительную слабость. Прошлым днём они обвенчались и были счастливы, а сегодня казнь? Холодный ветер напоминает о том, что солнце зимнее обманчиво и вовсе не греет. Солнце заканчивалось на пороге их дома.
Очень стремительно приближается конвой под грозный бой барабанов, посреди которого шествует преступник в нижней одежде да ободранном тулупе на плечах. Руки закованы в тяжёлые кандалы. Окружает его восьмёрка солдат и начальник-офицер самого конвоя, будто бы цепей недостаточно. Голова понурена, ноги едва переставляет. Его и не торопят, чтобы все наблюдатели рассмотрели лицо с отметинами пыток. Кирилл видел разное и людей живых убивал, говоря откровенно; тогда отчего же трудно смотреть на это действо, вырванное из контекста событий? Глубоко в душе, ещё издалека усмотрев измученное лицо, зародилось чувство или чутьё, — это не обыкновенная казнь после справедливого суда.
— Лиза, давай уйдём, — снова он обращается к ней, придерживая за плечи, и видимо недостаточно твердо и настойчиво; видимо в этот момент они рассматривают лицо якобы преступника, — становится совсем уж дурно. Черты лица знакомы до боли. Преступник покорно поднимается на деревянный помост, установленный этим утром, точно принял смерть до того, как палач занёс топор. Быть может и принял за пару дней, какие даются на раскаяние да беседы со священником. Вовсе не глупость для русского человека, верящего в Бога. Верил ли этот человек?
«За государево преступление, злоумышленных врагов империи по указу Её Императорского Величества предать казни бывшего дворянина Голицына Николая отсечением головы! Чинить смерть прилюдно в назидание всем чинам и сословиям!» — звучит громогласно офицер-экзекутор, читающий царский указ с бумаги. Народ ликует, дети задорно подсвистывают, только редкие женщины в платках глядят задумчиво, вероятно задумываясь над тем, сколь молод этот человек. А знающие люди могли бы погоревать над тем, что сей молодой человек не оставил ни потомства, ни поводов для доброй памяти. Впрочем, фамилия Голицыных звучала столь громко и часто в столице, да ещё рядом с фамилией императорской, что народу сие постоянство осточертело. Народ ревнив. Даже когда император — болван, упрямо ревнив. Отчего же должно быть хорошо кому-то, когда другие страдают? Кирилл пытается высмотреть второго брата. Неужто казнили раньше? Позже выяснится, что второй будет сослан Бог весть куда. Новая императрица дело своё знает. Только взошла на трон и вот летит первая голова к её ногам. Через мгновенье вспоминается и сестра Голицыных, Ксения Дмитриевна. Её поблизости также не наблюдается. Ты ведь знал этих людей, знал. Известные кутилы Петербурга ещё в бытность Петра Великого. Николай Голицын падает коленями на помост, а у Кирилла перед глазами сцена в дворцовом саду, когда этот же человек падал на колени перед ней. Перед Лизой. Ты, разумеется, ещё не знаешь, что таков конец всех, кто падает перед ними на колени. Кирилл стоит твёрдо, завороженный, не осознавая что дело движется к самому отвратительному акту. Пора уходить.
«Может пощадят? Сменят казнь на порку? Такой молодой», — слышится отдалённо женский голос. Не каждому доставляет удовольствие чужая смерть. Императрица проявлять милость и не помышляла. Выходит палач. Топор торчит из окровавленного пня. Кровь то ли животных, то ли человеческая, — всё одно мясо. Ловким движением палач топор подхватывает, крепко держит рукоять. Николай целует крест и вдруг поднимает взгляд, замечая знакомые, более чем знакомые лица прямо перед собой. Он знал Лизу лучше, чем Кирилла, но жизнь подпортить знатно успел обоим, неизменно занимая сторону своего императора и раздавая оному советы. Теперь расплачивается. Однако смотрит в душу, смотрит дико, словно обвиняя во всех смертных грехах, словно пророча такое же мрачное будущее или вовсе смерть. Плывут ведь, на одном корабле, а корабль-то стремится ко дну. Кирилл понимает, что взгляд устремлён на Лизу и крепче сжимает её плечо. Тогда самому хочется хорошенько врезать по исцарапанной морде, но позади палач и так готовится. Как знать, не будешь ли ты следующим? Никто не собирается сменять отсечение на порку. В солнечных лучах блестит лезвие топора и через секунду сей грузный инструмент в руках мастера, исполняет своё предназначение. Одно дело, безликие враги на поле боя и служба во имя Отечестве, другое — отрубленная голова человека, какого знал лично.
Кирилл будто просыпается, разве что кошмарный сон продолжается наяву. Как он только посмел держать Лизу здесь в её-то положении? Волна злости накатывает. Дурак, дурак, дурак!
— Какой же я дурак! Уходим отсюда! — прорывается твёрдый голос в людском гомоне. Уйти следовало раньше. Кирилл весьма решительно уводит теперь Лизу, держа руками столь крепко, будто решился никогда в жизни не отпускать. — Хороша сестрица, быстро догадалась кого убрать следует, — внутри злость закипает и на императрицу, сестру, с которой Лиза надеялась или надеется до сих пор п о л а д и т ь. Василий Борисович и тот не торопился рубить головы, когда взошел на трон, пусть и несладко было всем придворным Александра Петровича. А что же теперь? Теперь пахнет к р о в ь ю. — Не надо было сюда приезжать. Никаких более прогулок, Лиза, — он, конечно пересмотрит своё поспешное решение, но сейчас настроен как никогда решительно.
Это было предостережение, которому они, вероятно, не вняли.
playlist: |
Поделиться112024-04-13 22:49:56
B e t h o u m y vision
I searched the world
to find you
она всматривается в жемчужно-серую мглу петербургской ночи, задумчиво разглядывая сизые силуэты парковых деревьев, припорошенных пушистой снежной шубой. за спиной горит приветливо яркими огнями дворец, слышатся неутихающие переливы ригодона, менуэта, и всеми столь любимого контрданса [а ей понравился вальс, но он все еще остается для придирчивой столичной публики непривычным и через чур вызывающим явлением]; звенят хрустально бокалы, в которых шипучее и такое новомодное шампанское [ей не нравится – через чур бьет в нос и голову] льется рекой; молодые голоса: мужские и женские, смеются звучно и весело [на то они, пожалуй, и молоды], оставшись, наконец предоставлены самим себе без излишнего внимания старших и уж конечно без давления в присутствии царственных особ [то есть тебя].о, эти счастливые молодые люди, которые даст бог вырастут в стране, не помня и не зная ни смертных казней на площадях, ни извечной подозрительности, с которой приходится оглядываться, чтобы ненароком не наткнуться на очередного агента тайной канцелярии, да и в конце концов возможно вырастет целое непоротое поколение. хватит – набоялись. а впрочем, как замечают ей, монархи приходящие к власти, всегда мечтают о высоком, а потом, нет-нет, но и подпишут указ о-де отсечении чьей-нибудь буйной головушки. нет таких монархов, кто бы себя в крови не запятнал. если такие и были, то ушли в монастыри, чтобы потом с другими святыми в месте горнем вкушать райские яблоки. но только к чему ей эти пространные предупреждения, если на ее руках и без того достаточно крови, которая нет-нет, но и снится по ночам?
снег тем временем разыгрывается не на шутку – падает тяжелыми и крупными хлопьями, такой густой, что к утру, пожалуй, никто и не найдет дороги назад. кажется, стоит отойти от натопленного, разгоряченного очередным балом дворца [иные стали жаловаться, что-де императрица уж больно много развлечений устраивает, ничем не лучше своей предшественницы, а она только усмехается, справедливо полагая, что стране, погрязшей в этой угольно-черной темноте, не помешает немного смеха и беззаботной радости] и потеряешься – за густой снежной пеленой ничего не разглядеть.
послышится шорох где-то совсем рядом, заставляющий оторвать взгляд от порхающих в воздухе снежинок, с некоторым неудовольствием отвлекаясь на совершенно забывшуюся в порыве страсти парочку, скрывшуюся из бальной залы, очевидно, чтобы побыть наедине. парочке целующейся под сенью еще таких новых дворцовых стен кажется было всё равно – отличительная черта молодости, когда ты можешь себе позволить гордо заявлять: «ну и что» или: «мне глубоко безразлично». черта, которую мы не ценим. и ей бы отвернуться или по крайней мере дать о себе знать, но она невольно засматривается на них и щемящее чувство рождается в груди.они были так счастливы, что любая непогода бы не смогла помешать им. она улыбалась, а он целовал её улыбчивое лицо, на которое то и дело ложились хрупкие снежинки и таяли. девушка же в ответ не прятала своего лица, а с удовольствием подставляла его для поцелуев. их крепкие объятия иногда прерывались только для того чтобы осыпать поцелуями руки друг друга, но потом вновь они сливались в объятиях, словно древние ветки деревьев что со временем врастают друг в друга и их уже ничто не сможет разлучить, никогда.
никогда – страшное и прекрасное слово одновременно. и почти такое же лживое как «навсегда». «я никогда не расстанусь с тобой», «мы навсегда вместе». в возрасте этих молодых людей, которые только познают это чудное и жестокое чувство, в эти слова непременно веришь, как веришь иной раз в бога. и она тоже верила и она была такой же счастливой девушкой в розовом платье, счастливо подставляющей лицо под поцелуи и ничего не боящейся. будущее с любимым представляется тебе сверкающей дорогой, устланной розами, а после оказывается, что устлана она исключительно шипами от них и если так уж хочется по ней пройтись, то будь готов расцарапать ступни в кровь. а впрочем, может у этих беспечных счастливцев все будет иначе? в конце концов время теперь другое, верно? т в о е время. ты обещала. но почему, почему тебе становится так тоскливо каждый раз, когда ты смотришь на влюбленных и счастливых людей? словно тебе не достает этого в то время как за тобой увиваются, грозясь сделать [как они обещают] ее «самой счастливой из женщин на белом свете» множество мужчин. кажется, что их стало даже больше, чем в твоей счастливой юности. наверное, бриллиантовая корона все же имеет значение, не важно на чьей она в итоге голове. но не все из воздыхателей и ухажеров стремятся к власти, к которой она все равно никогда их не допустит [хватит – она уже насмотрелась на фаворитов, которые добравшись до вожделенного трона ввергали окружающих в ужас]. есть и ты к своему стыду знаешь, что есть, которые остались бы с тобой вопреки всему и наверняка постарались бы сделать тебя счастливой, как и обещают. они провожают тебя грустными глазами, а тебе больно каждый раз за них, ты выращиваешь в своей душе стойкое отвращение к своей персоне. ведь составить чье бы то ни было счастье ты уже никогда не сможешь, вот в чем дело. может поэтому так невыносимо глядеть на влюбленных теперь, понимая, что твое сердце такое не испытает. испытает лишь подобие. но подделка никогда не станет настоящей картиной, самозванцу никогда не занять трона надолго, а вожделению никогда не заменить любви.
— а ну-ка, господа, ступайте-ка отсюда вон, не стыдно вам, право, — послышится издалека веселый чей-то голос, заставляя совершенно потерявших голову юнцов, отпрянуть друг от друга и еще больше напугаться, натыкаясь на ее насмешливый зеленый взгляд. — брысь-брысь, а то неровен час, осип яковлевич расскажу вашему батюшке, чем вы тут занимаетесь.
— ты испортил мне все веселье, — елизавета петровна, императрица всероссийская, царица казанская и так далее и так далее [ах, эти длинные титулы] провожает упорхнувшую парочку равнодушным взглядом, не скрывая, впрочем улыбки, когда девушка, ускользая столь стремительно, все же остановится, чтобы присесть в неловком реверансе с пунцовыми от смущения щеками и быстро, почти вприпрыжку удаляясь в распахнутые двери за спинами. — это была дочка графа эльстона? никогда бы не подумала…
— собирались смущать молодых людей дальше? — нарушитель спокойствия тем временем подходит ближе, останавливаясь рядом с ней. — неужели не собирались дать о себе знать?
— да, хотела узнать, замерзнут они обнимаясь у мраморных колонн, а если бы зашли дальше, то забава была бы куда веселее, матвей михайлович, — беззлобно усмехается лиза, пожимая плечами. они оба хорошо знают, что она бы не стала долго потешаться над несчастными влюбленными, а он вряд ли побежал бы жаловаться отцу вышеназванного недоросля. матвей приглаживает кудрявые волосы ладонью, с наслаждением вдыхая чистый, холодный воздух. теперь он почитается первым щеголем при дворе и кто бы мог подумать на сына простого ростовского воеводы с душами, которых не более 200, что займет он такое положение. что же – все в это мире меняется, а за преданность платить нужно особенно много. а за дружбу платить не стоит – она бесценна и облекать ее в денежный эквивалент почти что кощунственно. она расслабляет плечи, радуясь, что обнаружил ее здесь, вдалеке от шума праздника, охватившего дворец, не какой-нибудь очередной вельможа, который отчаянно хочет представить ей свою дочь [«я был бы рад, если бы ваше величество взяло мою анастасию в свои фрейлины»], очередной чиновник, улучив момент, попытается в очередной раз напомнить о проблемах [«на соляных шахтах самоуправство происходит»], в конце концов не еще один посол другого иностранного государства, который среди прочих заверений в дружбе захочет поговорить об очередном предложении замужества. это всего лишь матвей, с которым, как и с некоторыми другими людьми при дворе, можно позволить себе не надевать одну из сотен масок, заготовленных за пазухой.
они помолчат немного, вглядываясь в таинственную темноту, укрываемую пеленой густого снегопада, грозящего на утро заносами да и всяческими иными неурядицами. хорошо хотя бы, что погода на удивление теплая стоит, наверное от того, что падает снег. обыкновенно в день ее рождения вечно примораживало, а теперь едва ли не оттепель.
— так от чего вы сами здесь? вас все потеряли – а в очередной раз слушать речи подвыпившего австрийского посла нет никаких сил! — матвей усмехается, а она живо представляет себе раскрасневшееся лицо австрийца, который от любых напитков крепче шампанского становился неожиданно разговорчивым [а ведь обычно молчал как рыба]. пить его конечно не заставляли, но когда видел достопочтеннейший посол, как она сама может пригубить рюмку водки и даже не поморщится, то уж никак отказаться не мог, а двор знай потешайся над ним, ведущим скучнейшие разговоры о своем замке в тироле [и все уже успели выучить сколько у него там каминов, сколько зеркал и из какой породы дерева сделан стол в обеденной зале]. знал бы австриец, где научилась она так лихо употреблять сей продукт, да и при каких обстоятельствах, может быть не следовал бы ее примеру столь резво. пила она со своими гвардейцами, будучи будто одной из них, никогда не гнушаясь и никогда не отказываясь [после непременно что-нибудь исполняя на клавишах или под гитару] от одной рюмки или простой закуски. а иногда пила и иногда, потому что иначе нельзя. и раньше морщилась, кашляла, задыхалась от жгучего этого вкуса, да так, что слезы выступали в уголках глаз. а после – ничего, свыклась с этой горечью, которая все равно не могла перебить горечь, скопившуюся внутри. не утопить воспоминаний, не заглушить ночных кошмаров. лекари и медикусы узнав, сколько носит она в себе [«такие вредные гуморы надобно изгонять»] ужаснулись бы.
— в конце концов праздник в вашу честь, ваше величество, — продолжает строгонов тем временем, напоминая ей о том, что она и так не смогла бы забыть. кто в своем уме забывает о празднике столь значимом – годовщина собственная, да еще и годовщина очередная собственного правления. такие пышные празднества охватили обе столицы, да и до губерний нет-нет, но отголоски этого обязаны были дойти – то вся страна праздновать была обязана. фейерверки, маскарады у влиятельных вельмож, забавы для детей непременно в виде снежных битв, снежных гор, ярмарок со сластями, да катания на санях. ей бы жизнь свою превратить в вечный праздник, в котором как в вине пытаешься забыться и утопиться – уж лучше топиться в чем-то прекрасном, не правда ли?
лиза не отвечает, вместо этого протягивает руку вперед, позволяя снегу, что кружится в воздухе опуститься прямо на раскрытую ладонь и растаять так стремительно, что не успеешь толком усмотреть причудливый узор самих снежинок. холодная влага растекается по коже, а она задирая голову к небу несколько секунд стоит неподвижно, прикрыв глаза.
— иногда я чувствую себя чужестранкой, матвей михайлович, — произносит она не открывая глаз спустя кажется такое долгое молчание.
— чужестранкой, вы? здесь? – он переспрашивает почти с недоверием. — во дворце, что сами выстроили, который лучше самого версаля? едва ли людовик не позеленел.и правда – построила, построила в такие рекордные сроки, что пошел слух, не обладают ли царицыны зодчие какими сверхъестественными силами. построила – дворец как из сна и теперь думает о другом, желая построить такое чудо, что станет похоже на дом существа сверхъестественного, а вовсе не человека. и пусть все думают, что тешет свое самолюбие, а ей просто хочется поскорее вытравить любое воспоминание, даже малейшее о времени, которое провела в нем, вычистить начисто, разрушить, чтобы на его месте построить нечто новое и прекрасное. но вот получится ли и достаточно ли просто достроить новые галереи, облицевать комнаты мрамором и янтарем, чтобы забыть? ох, лиза, как же ты жаждешь забытья, но никак не можешь его достичь. иной раз покажется, что стало лучше, что проходит, что не б о л и т. но стоит только заиграть знакомой мелодии на клавишах, процитировать кому шекспира, стоит только услышать смех чужого ребенка, как все возвращается снова.
ты никогда не забудешься – не помогут здесь ни вино, ни праздники, ни грандиозные стройки.
не забудешься пока встречаешь очередную зиму без него.— странно, а? — откроет глаза, глянет на него искоса, обхватывая себя руками. — словно смотрю на всё со стороны. никак не могу понять люблю ли зиму, али ненавижу, — где-то вдалеке захрустит снег под чьими-то ногами. опоздавший ли это гость, посланник ли с важным донесением, а может быть случится чудо и возьмет неожиданно появится из мглы, из темноты вместе с этим снегом…кирилл? — с одной стороны зимой происходили самые лучшие мгновения моей жизни, а с другой – самые страшные. да и счастливые воспоминания зимние теперь…скорее приносят боль, — она не улыбается, оборачиваясь к нему, губы дрогнут лишь в подобие горькой усмешки, но даже ее сложно назвать улыбкой или усмешкой. — вот тебе и ответ, матвей михайлович. при всех разумеется буду радостной и веселой, но одной, уволь, радоваться не стану.
и правда, парадокс – зимы стоит бояться в конце концов. смерть брата, с которой все треснула и сломалось. а с другой – повезло ей родиться в эту пору, в которую россию все опасаются из-за морозов и непролазных сугробов; в эту же пору она вышла замуж и стоит только закрыть глаза, как увидит маленькую неприметную в общем церковь, услышит потрескивание свечей, почувствует прикосновение родных губ к собственным губам – теплое, обещающее вечность, смех его и свой и белое, как снег, как метель, успокоившаяся неожиданно после венчания, платье. в эту же пору, но позже, много позже, на чужих руках и на чужих шпагах, она забрала то, что всегда ей и принадлежало. и вправду чудное время. страшное время.
«ни одна сильная женщина не стала такой просто счастливо проживая в браке. ни одна счастливая женщина не становилась императрицей», — звучит в голове наставления, сказанные тетей перед коронацией.и правда. но неужели не стоит ей именно поэтому стать первой, кому удастся?
— не буду, пока… — они смотрят на друг друга и отлично друг друга понимают. так могут понимать ее только те, кто был рядом все эти страшные годы, кто видел вовсе не парадную маску, которую необходимо всем показывать. понимать ее могут те, кто той ночью рискуя всем, чем только можно ворвались во дворец с нею. — матвей, — на этот раз зовет по имени, на одно мгновение позволяя себе забыть все те регалии и титулы, которыми их одарила сама, позволяя забыть о том, что сделала его поручиком новоучреждённой лейб-компании, владельцем богатых поместий, а не так давно дала и графский титул и герб с говорящим девизом semper immota fides («верность никогда непоколебимая»). а впрочем, если она хорошо знала своих мальчиков, то только им и могла бы все это доверять, точно зная, что это не изменит их в худшую сторону. если такое случится – вряд ли она переживет. зовет по имени, как звала всегда, а он сразу понимает о чем пойдет речь. — я не смогу радоваться, не смогу успокоиться, пока не узнаю. от семена все еще нет вестей?он покачает головой, покачает печально. да, ей известно, что в успехе данного предприятия все сомневаются. если в первое время поисков испытывали веру, подобную ее собственной, заражаясь, очевидно этим безумием, то спустя время начали высказывать опасения. россия – огромна, а если сгинешь – то даже и следа твоего не найти. да и потом, ей конечно известно, что друзья закадычные с детства, друзья верные, также все еще задаются молчаливыми вопросами от чего именно бестужев должен был сию миссию выполнять, разрываясь между преданностью ей и любовью к семену. а она отворачивалась, а она отгоняла от себя свои собственные грехи, коими полна.
если кто и выполнит то, о чем она просит каким бы безумством это не являлось, то, конечно же семен.
— нет… с тех пор, как пришло последнее письмо про его отъезд на камчатку более вестей не получали, — за то, что ни хороших, ни плохих, ни вообще каких-либо вестей от семена получить не удалось, он словно извиняется. — позволите спросить?— о том, почему я так уверена, что поиски принесут результаты и в том, что он жив? потому что в противном случае, я бы была мертва, — коротко отвечает она на так и не заданный вопрос, предвосхищая его. — никогда не поверю тому, что кирилл мог умереть и оставить меня одну. и не могу поверить, что со всеми своими возможностями я все равно не могу найти его и собственного ребенка. она хорошо об этом позаботилась. а мы должны в таком случае искать лучше – я не успокоюсь, не остановлюсь, пока не найду их! – зеленые глаза упрямо и грозно сверкнут в зимней ночи.
вестей не было не только с дальних концов страны, где разыскивали кирилла в тщетных попытках обнаружить хотя бы намеки на следы. не было их и из-за моря, куда отправился корабль, куда отправила своих, надежных людей, в первую очередь пашу, чтобы найти второе дорогое свое существо, так жестоко забранное из рук и которое, что самое страшное, быть может и не вспомнит своей матери. а если думать о детских болезнях, о том, что кроху могли и не довезти до места назначения из-за бури или еще какой оказии, то становилось невыносимо.— как бы там ни было, как я могу радоваться? — тоскливо спросит она, с чем не согласиться он уже не может. возьмет себя в руки, бодрым голосом, продолжит: — придется тебе еще немного повеселить гостей и послушать посла, только в случае, если увидишь, что совсем лишнего перебрал, отними рюмку поделикатнее, ты умеешь. не хватало только скандалов.
и она снова останется одна, стоять под защитой дворцовых стен, но на самом краю ступеней, всматриваться в небо, не чувствуя холода [потому что давно промерзла, промерзла до костей, так?] и задаваясь одними и теми же вопросами:
«видишь ли ты тоже самое небо, что вижу я теперь?».
«идет ли у тебя снег или ты там, где его никогда не видали?».
«помнишь ли ты обо мне? о нас? о том, какой сегодня день? знаешь ли, что пишу тебе письма, которые никогда, впрочем, не отправлю, ведь не знаю адреса? и пишешь ли ты их мне?».
«снюсь ли я тебе также часто, как снишься мне ты? думаешь ли ты обо мне также часто, как я о тебе? что делаешь ты теперь, так далеко от меня?...».— когда же я тебя найду, кирюша?… — шепчет в эту темноту, словно надеясь быть услышанной.
но в ответ лишь предательская тишина.
а в этот день метель точно такая же как и тогда.
Лиза сидит с «Робинзоном Крузо» уже который час, грозясь такими темпами прочесть всю книгу, которую столь любезно по их отъезду одолжили ей из своей библиотеке родители Кирилла, заметив ее особенную любовь к разного рода литературе [пока она находилась в Березово не было ни дня, чтобы не застали ее с какой-нибудь книгой]. За окнами квартиры свистит ветер – верный спутник родного города. Этот ветер иногда даже снился, а теперь казалось, что напевает он какую-то загадочную петербургскую колыбельную, слова в которой известны только местным старожилам. Ветер то и дело забрасывал в стекла крупные хлопья снега, бушевавшего с вечера, но в самой комнатке [ее любимой здесь] было тепло натоплено и даже относительно уютно. Тем более, что за то небольшое время, что довелось ей провести здесь они проделали кое-какую работу, чтобы жилье это напоминало семейное гнездо, а не место постоя офицеров, которые здесь квартировались до них [и даром, что первая табуретка на которую уселась Лиза развалилась под ней, а она осталась с хохотом сидеть на полу в груде трухлявых щепок, заявляя, что теперь-то Кириллу непременно придется задержаться дома, ведь куда это годится – жизнь без табуретки]. Да, предстояло обжиться еще, но большая часть вещей Лизы все еще находилась во дворце, да и не было у нее уверенности в том, что не сменят они эти апартаменты на что-то другое.
И все же, спустя несколько дней начали по дому появляться какие-то безделушки, найденные на местном рынке – миленькие статуэтки ангелочков на полке, щетка для волос на стареньком столике, приставленном к окну в спальне, подушки с веселыми кисточками, выторгованные у одного из весьма несговорчивых купцов. Задумывалась Лиза и о детской и о приданом для будущего ребенка: кто бы изготовил колыбель – из тех мастеров, которых знала она лично все брали очень дорого, да и самое главное, что обратиться к ним был пока нельзя, по крайней мере пока их статус с Кириллом не будет как-то закреплен, какую одежду следует заказать у белошвеек, сколько всего вышивать теперь нужно [а учитывая, что пальцы ее совершенно к этому были не приспособлены, то выходило так, что основная часть работы ложилась на Веру Дмитриевну]. Кирилл отчего-то все еще был упрямо убежден, что непременно родиться девочка, Лиза не спорила, пусть и считала, что для ребенка самого было бы лучшим родиться мужчиною – к ним этот мир благосклонен. Но, заражаясь такой уверенностью то и дело, когда выбирались они в последний раз в город, разглядывала крохотные детские платья в швейных мастерских французов, открывших свои магазины по всему городу. В этих мастерских и модных лавках, где выставляли обрезы шелка, тафты, броката, атласа, вельвета, бархата, дамаста, муслина, льна и хлопка с набивным рисунком, а также тюля, где то и дело можно было встретить знатных особ, заказывающих себе ткани на очередное платье, а кроме того услышать те разговоры, которые велись хозяевами. И если посетителей Лиза старалась избегать по возможности [пусть и игра эта в прятки теперь казалась ей утомительной и бессмысленной, ведь приехали они сюда не за тем, чтобы преступниками скрываться], то с хозяевами лавок не первой величины иногда переговаривалась или подслушивала их французские разговоры между собой. Как и многие – все они были взбудоражены новой властью, справедливо опасаясь за сохранность своего дела. Кто его знает – какая теперь новая императрица будет, кому станет благоволить, а кому поднимать пошлины и вовсе погонит из этой холодной страны? Говорят к тому же, что после смерти последнего императора [к смертям императоров вовсе стали привыкать – никто дольше года-де не задерживается и такие слова болью в груди отдаются] станет отдавать императрица предпочтение вовсе не французам и Франции, а немцам, потому что их-де полное было у нее поместье, где она жила после смерти своего мужа.
Да, столица бурлила слухами, а Лиза, терпеливо тем временем ждет времени, чтобы попасть во дворец и лично с сестрой, которую никогда не видела, переговорить и узнать наверняка – правдивы слухи или нет. Ей ли не знать, как любит народ посплетничать о том, что за стенами дворца происходит особенно, когда за эти стены все одно не попасть. Не про нее ли саму говорили, что так как родилась она на-де на корабле, то русалки ее поцеловали и от того, кто ее пение услышит – наверняка пропадет. А иные за рыжий цвет волос прозывали ведьмой. Люди более образованные конечно же шептались о многочисленных романах путая правду с вымыслом. Так или иначе слухам она верить не собиралась, но к ним прислушивалась, чтобы по крайней мере быть готовой ко всякой правде.
Но, так как во дворец никто звать не торопился по причинам отсутствия в нем непосредственно сестрицы, она оставалась в этой квартирке с несколькими комнатами, с книгой в руках и мурлыкающим котом на коленях в вечном ожидании того счастливого момента, когда Кирилл вернется. Кот – за несколько дней отъевшийся и согревшийся, появился здесь внезапнее некуда. Просто в один прекрасный день оказался на пороге истошно вопя и требуя впустить свое величество внутрь. Уходить после того, как получил порцию сметаны кот уж тем более отказался, а для доказательства того, что он здесь просто необходим, шмыгнув за печь, притащил через некоторое время мышь, беспомощно барахтающуюся у него в пасти. Ничего поделать с наглым вторженцем уже было нельзя, оставалось только позволить остаться [словно он какой-то иной выбор им оставил]. Да и потом с беременностью у Лизы проснулась некоторая сентиментальность и представить, что бедное животное придется выставить за дверь в такую погоду, она уже не могла, несмотря на все предупреждения о том, что у кота наверняка блохи, да и характер у негодного скверный. «Негодного» решено было как минимум отмыть, за что тот мокрой крысой выбежав из лохани, расцарапал руки и долго потом демонстративно вылизывался под столом обеденным, сверкая оттуда зелеными глазищами. Лиза на эти глаза смеясь заявляла, что «этот кот просто очень похож на меня – точно царской крови». Пожалован был этому господину титул Маркиза, да так и стали звать, потому что на «негодного», их квартирант отзываться отказывался. А на Маркиза-ишь ты сразу мявкал, да и трусил к побеспокоившему его величество смерду неторопливым, грациозным шагом. Маркиз кроме зеленых глаз обладал настоящим, как положено фраком – белоснежной манишкой и такими же белыми «перчатками» на лапах. В общем – хоть сейчас на важный государственный прием. Обладал он совершенно пренепреятнейшим голосом, как только требовалось ему что-то вопил также, как и в первый свой день появления у двери, а если кто-то неосторожно наступал ему на хвост, то непременно считал после своим долгом отомстить, выпрыгнув из какого-нибудь укромного места, где поджидал обидчика, что нанес ему подобного рода непоправимое оскорбление, оставлял на лодыжке его отметину и был таков, пока его не настигло наказание в виде веника или мокрой тряпки. С утра и до вечера он, как и положено отлеживался где-нибудь [в особенности любил лежать у Лизы на руках, поближе к животу, то ли чувствуя беременность, то ли решив, что она здесь самая главная], а по ночам разгуливал где-то, чтобы с утра у хозяйской подушки нет-нет, но обнаружились мыши, которых он наловил. От мышей быстро и со всяческими предосторожностями избавлялись [перекрещиваясь и сдерживая испуганные вопли], гордого собой кота хвалили, он получал рыбы и снова заваливался спать. А Лиза не знала чего боится больше – того, что каждый раз мышь окажется близ ее лица, или того, сколько мышей в принципе здесь водилось. Во дворце мыши тоже имелись, но она никогда их не видала – везде ловушки, да и крысоловов было полно во избежание заразы.
За несколько дней пребывания своего на их квартире он отъелся, черно-белая шерсть его стала пушистее, да и в общем производил он впечатление куда более приятное, нежели в первый свой день. Лиза свою странную привязанность к этому наглецу объясняла разве что тем, кто заботиться о живом существе ей совершенно необходимо – Карай умер, Плутон стоял при гвардейских теперь конюшнях, а так было с кем скоротать время. К тому же мурчал Маркиз так громко и так успокаивающе, что никак не могла она его не полюбить. Никаких блох он не принес, мышей отлавливал исправно, да и вообще как она подозревала когда-то был вполне котом домашним, хотя некоторых особенностей его характера это не оправдывало.
Вот и теперь черно-белый лежал на ее коленях пузом кверху, прижимаясь к ее животу, превращаясь в урчащую грелку. Мужчин он не очень жаловал исходя из каких-то своих заключений шипел на них и прятался, впрочем, как казалось весь род людской кроме парочки исключений, но с домашними оказывался достаточно ласковым. Лиза переворачивает очередную страницу, бросая быстрый взгляд на часы, окно, а потом обратно на текст, где страница за страницей описывается необитаемый остров, а также Робинзон и его верный помощник Пятница.
— И пора бы ему, пожалуй, вернуться. Жаркое уже наверное совершенно остыло… — говорит будто сама с собой, а с другой стороны будто обращается и к коту и к ребенку.
Так забавно, что жизнь теперь снова превращается в ожидание – неужели у всех жен офицеров такая жизнь? Что же, привыкать, пожалуй нужно. По крайней мере ожидание это скрашивал тот простой факт, что в итоге оно непременно заканчивалось его приходом – он приходил, сбрасывал одежду – пахнущий морозом, казармами, родной. Каждый раз замирало радостно сердце, как только слышалось, как открывается дверь, как застучат родные шаги. Вот прямо как теперь, когда она живо встрепенется от своего занятия, услышав знакомый голос. Недовольно поднимет морду кот, очевидно раздосадованный тем, что придется теперь спрыгивать с нагретого места – издаст протестующее короткое «мяу», а Лиза протягивает обе руки к Кириллу, которого видит перед собой. Как и всегда теперь – снег подтаивает на плечах, от него веет столичным холодом, улицами, что с ее теплой кожей составляет удивительный контраст. Пробегут мурашки по спине, Лиза улыбается, целуя его в кучерявую от воды макушку, чувствуя, прикосновение к животу. Теперь уже ритуал ежедневный, словно он правда таким образом надеялся расшевелить упрямца или упрямицу внутри. Вот ради таких моментов и хочется ей жить т а к, вот в такие моменты теперь она и находит свое счастье безусловное и единственное.
Лиза продолжает гладить и взъерошивать и без нее взъерошенные безбожно волосы, качая головой.
— Холодный вы какой, Кирилл Андреевич, — шутливо прикладывая свои теплые ладони к его щекам, словно стараясь согреть. — Кирюша, сам посуди как могу спать, когда на улице ночь кромешная, а тебя нет, — с таким же шутливым укором разглядывает его лицо. — со своей службой позабыли меня, а, Кирилл Андреевич?
Она, конечно же шутит. Лиза отлично понимала, что с самого начала служба значила так для него много, что разрушать ее теперь не хотела ни коим образом. Даже Саша всегда говорил, что «у Кирилла всегда две жены будет – Россия и еще кто-нибудь». Эгоистично было бы лишать его теперь возможности служить и служить хорошо, да и вообще кто решил, что если ребенок появляется, то непременно жизни следует кончиться? Уехать в какое-нибудь имение, да разводить кур и коров [а заодно живот себе отрастить, как у многих теперешних генералов]. Лиза не хуже других знает о талантах своего будущего мужа [муж – боже, как же необычно звучит теперь это слово, а если подумать, то и сердце замирает] от того ограничивать его и не собирается, надеясь, впрочем, что и ей когда-нибудь можно свободно будет по крайней мере гулять по паркам и посещать салоны. А для этого по крайней мере нужно было прекратить прятаться.
А он смотрит на нее – смотрит своими серыми, просветлевшими глазами, с такой почти детской надеждой на то, что вот прямо сейчас все же почувствует \\ услышит хотя бы какое-то движение, что сразу же хочется расцеловать его. До того мил он в этом своем упрямстве. Лиза и сама может ждет-не дождется чего-то, хотя бы малейшего изменения, наслушавшись от его матери рассказов о том, когда шевелиться дети начинают. Так ждет, что кажется уже придумывала их сама себе, но никто кроме нее ничего такого не чувствовал, когда она требовала положить руку на свой живот, поэтому пока уверилась она в том, что придумала их и теперь с сожалением покачает головой, разрушая в очередной раз все его надежды. Еще немного и сама переживать начнет по этому поводу.
— Нет, и сегодня тоже ничего. Совсем ничего, — повторяет за ним с сожалением, а потом добавляет со смехом. — как и вчера, позавчера и вообще каждый день, в который ты спрашиваешь меня об этом! Имейте терпение, сударь! Предположу, что ребенок наш не любит, когда его торопят! — Лиза обнимает Кирилла, который все еще стоит на коленях, прижавшись губами к ее животу, за плечи, замирая так на какое-то время и позволяя им обоим насладиться этой теплой, уютной тишиной, которую нарушает разве что треск поленьев в камине, да ветер, продолжающий завывать за окном. Последний им, впрочем, не страшен.
В такие мгновения кажется, что ничего не страшно.
Что все преодолеете.
Может в этом молодость их и заключается.
Она садится в свое кресло, откуда совсем недавно пришлось согнать Маркиза, который наверняка теперь сидел где-нибудь под кроватью или столиком и сверкал недовольно прозрачными зелеными глазами, продумывая, наверняка план мести. Лиза наблюдает за Кириллом, наблюдает как снимает с себя одежду, прислушиваясь к звукам родного голоса и ощущая приятный покой. Кажется, еще немного задремлет, пока слуха не касается одна-единственная вещь, в которой, кажется, заключалось их главное противоречие. Ей бы, может и промолчать в такой хороший вечер – они видятся теперь в основном по вечерам, да утрам, когда она не желает его отпускать, так может на споры время и не тратить вовсе. Но с тем, что он говорит согласиться она уж точно никак не могла, не хотела, все существо постоянно против того бунтовало.
Лиза уткнется взглядом книгу, чтобы он не видел ее помрачневшего выражения лица или же просто из вредности, чтобы не прожечь взглядом на его довольном лице дыру.
— И я вот думаю – долго ли мне еще прятаться снова, как преступнице какой? — не отрывая взгляд от книги, которую так неудачно взяла кверху-ногами вопрошает Лиза. — Может тогда и уезжать от твоих родителей не стоило – по крайней мере там, мы в прятки не играли! — книгу захлопывает, смеривая Кирилла недовольным взглядом со своего места. — Не знаю почему играем в них теперь. Как по мне – то теперь бояться нечего, а значит и скрываться не надобно. Если только не бояться глупых сплетен, но и черт с ними – у людей всегда повод поговорить будет, поговорят и забудут!
Тут она конечно лукавит, обманывая саму себя, не желая признавать ту простую истину, что в их случае говорить будут долго. Шутка ли – этакий морганистический брак. Батюшка бы, пожалуй, бушевал не на шутку, а может и понял бы, Кирилла узнав получше. О Саше злые языки злословили долго – женился не на особе королевских кровей, поставив это в виде ультиматума перед всем двором и честным светом. Но Саша надо сказать такой фокус и вправду мог провернуть, стукнув кулаком по столу и заявив: «Нет, я женюсь, а вы смиритесь!», одним предложением руки и сердца заткнув многих. Он был императором и к тому же мужчиной. А то, что позволено мужчине – женщине не позволено уж точно. С другой стороны она не была императором, да и настолько важной теперь [судя по тому, как быстро о ней позабыли] персоной, а значит не так важно было кому отдано ее сердце и обязана ли она выходить замуж за очередного принца или хотя бы князя не является чьей-нибудь заботой.
Так или иначе Лиза отчаянно не хотела мириться с тем, что надобно им постоянно скрываться, словно Кирилл чего-то боится или кто-то научил его чего-то боятся. С Лизой никто подобных разговоров не вел, а она все больше начинала изнывать от знакомого ощущения притаившийся опасности, которое не хотела чувствовать, вернувшись в конце концов за ним в Петербург.
— И потом, милый, — сменяет гнев на милость будто, обращаясь к нему таким образом. — сколько по твоему мы сможем скрывать мою беременность? Тем более здесь. Скоро мое положение будет заметным – никакие корсеты не спасут, а затягиваться в них и вовсе вредно, — добавляет она, складывая руки на животе, который только теперь, когда дело идет уже к пятому месяцу, начал выпирать. — потому вряд ли удастся мне списывать это на собственное обжорство пирожными! Что же, когда живот мой вырастет вовсе запрешь меня в четырех стенах, потому что это сложно будет объяснить? — Лиза снова недовольно хмурится, обиженно надуваясь, от чего выглядит скорее не грозно, а забавно. — Я вот о том, что тебя люблю и собираюсь выйти за тебя замуж рассказать не боюсь, более того – я бы всему свету об этом рассказала – пусть знают, пусть завидуют! А если ты стыдишься, то так бы и сказал! Может, даже жениться не следует в таком случае! — распаляясь окончательно и не собираясь внимать голосу здравого смысла и уж тем более голосу Кирилла, то, что скажет который она и без того знает наизусть.
Они неисправимы оба – упрямые, влюбленные до безумия друг в друга, только Кирилл все равно неуловимо старше, особенно в такие моменты, когда она надумывает сердиться на него, а он и ухом не ведет. Да и она грозится и сердится словно не серьезно, впрочем все еще забавно хмурясь со своего места на него и демонстративно в беседе не участвуя.
— К лучшему значит. Ребятки мои, может быть, как раз и поняли бы все. А если все дело в том, что вы их боитесь, капитан, то я и вовсе разговаривать с вами не желаю… — пробурчит со своего места, буравя взглядом неказистый потолок их возможно временного жилища. Маркиз, почувствовав, что место вновь освободилось, вновь запрыгивает на кресло, оказываясь на ее коленях и смеривая Кирилла взглядом зеленых глаз, в которых обязано было читаться кошачье презрение или, по крайней мере превосходство. — Капитан называется…
Лиза почти что с радостью [или скорее злорадством] наблюдает за тем, как вместо ожидаемого вина Кирилл едва ли не давится смородиновой наливкой. И даже теперь не верится, что когда-то считала его умершим, или по крайней мере другие считали. Не верится, что могла проводить свои вечера в келье за молитвами, вместо того, чтобы спорить о том, как им надобно жить. Могла не видеть его в расстегнутом камзоле, сидящем напротив нее как ни в чем ни бывало, пить вино \\ лишь пародию на него. И, положа руку на сердце, Лизе нравится то, что они спорят или ссорятся из-за чего-то такого. А вовсе не из-за очередного выбора между жизнью и смерть. Уж лучше так.
А что касается вина – это ее невинная, как ей кажется по крайней мере шутка, но вместе с шуткой забота о его здоровье. Марфа, которая вернулась вслед за Лизой, как только та дала о себе знать сразу же, в вине все одно плохо разбиралась, поэтому немудрено, если немного запуталась. Лиза на самом деле была благодарна за то, что ее горничная снова была с ней – уж слишком давно знала она эту румяную, чисто русскую девушку, которая даже спустя долгое время службы во дворце не избавилась от чисто деревенских присказок, привычек и различного рода суеверий. Лиза предупредила, правда, ее, что жизнь ее самой теперь несколько иная, но та предпочла остаться все равно: «Работа, Ваше Высочество, не грязная, да и Вы, Господь вас храни, добры всегда были ко мне, от чего ж теперь за вами не пойти, если пригожусь?». Теперь Марфа помогала Вере Дмитриевне, а заодно и Лизе – обязанностей у нее стало побольше и как кажется и определенной власти, потому что теперь она не была лишь одной из многих крепостных, что служили во дворце, а была почти единственной и ей это нравилось.
Лиза наблюдает за меняющимся выражением лица Кирилла, не выдерживая его обиженных взглядов на бутылку фыркая весело, отпуская так в общем-то и не начавшуюся ссору прочь и ехидно интересуясь:
— А известно ли вам сколько вино доброе стоит? Я вот тоже не знала никогда, а теперь знаю. Да и вообще – вредно столько вина пить, — Лиза усмехается, прислушиваясь к его голосу, успокаиваясь, а после серьезнеет, обдумывая его слова.
Не то чтобы хотелось ей уехать из Петербурга при первой же возможности – в конце концов к чему тогда ей было ехать с ним? Да, с Кириллом она отправилась и потому, что боялась расстаться хотя бы на один день – они достаточно для того расставались. А в Петербурге было все знакомо, здесь она выросла, здесь могилы ее предков, да и жизнь здесь совсем иная. И все же...все же что-то заставило помрачнеть ее лицо. Была ли это новость о том, что им придется так или иначе оставаться в Петербурге, ожидающем приезда императрицы и неизвестно теперь насколько? Остаться в городе, окутанном тревожным ожиданием монарха от которого черт знает что можно ожидать возможно надолго и воспитывать именно здесь ребенка ей не хотелось даже из всей своей иррациональной любви к этому месту, которую она унаследовала от отца. Нет, не в круговерти петербургской жизни ей хотелось воспитывать это дитя. Нет – уж лучше где-то на воле, чем под бдительным оком двора, под которым он наверняка окажется. И все же, очевидно, что выбора у них пока нет.
— Что же… — с расстановкой заметит она. — Если нужно и того требует твоя служба, значит следует нам здесь остаться. В конце концов это мой родной город. А полки и правда поднимать следует, такое запустение за такое короткое время подумать страшно… — она встречается с его виноватым взглядом, улыбнется успокаивающе, мол, все понимаю, твоей вины здесь не вижу.
Маркиз не успеет спрыгнуть вовремя с ее колен, когда Кирилл снова оказывается рядом, поворчит тихонько, пошипит, но будет таков, шмыгнув прочь из комнаты – видно снова отправляясь на свои ночные похождения. Бог его знает как он умудрялся ускользать из квартиры и возвращаться – через какие такие дыры, да щели.
«Лиза» - сердце замирает, замирает каждый раз когда он обращается к ней так, просто, зовет по имени. И уже право и не вспомнит она, когда звал ее исключительно по отчеству так вежливо, словно и боялся. И никогда не забыть того самого мига, когда назвал по имени. Ему, впрочем, самому наверняка того дня не забыть никогда. И она, словно завороженная собственным именем, загипнотизированная его глазами, смотрит на него не отрываясь совершенно, прислушиваясь к каждому слову.
«Служба уже никогда не будет моей жизнью. Ты — моя жизнь».
Сердце несется теперь вскачь, а она улыбнется шире, в уголках глаз появятся слезы – уж больно это трогательно. Уж больно трогателен он в эту секунду. А может она действительно стала более эмоциональна.
Ладонь касается его щеки, прижимает ее крепче, словно говоря этим жестом: «Верю. Знаю», а глаза продолжают бегать по его лицу, по родному и такому красивому лицу, всматриваются в эти искренне-серые глаза с этими неподобающе длинными для мужчины ресницами. Глаза, которые она запомнила сразу же, как впервые увидала, глаза в которые сразу же и влюбилась. И которые так хотелось бы видеть в собственных детях.
«Обвенчаемся».
Уж не ослышалась ли ты, совершенно затерявшись его глазах, словах, касаниях? Неужели правда выйдет, неужто ли наконец, перед Богом, по закону, вы станете мужем и женой о чем мечтали кажется так долго?
Лиза встрепенется, улыбка заиграет на губах, на щеках заиграют ямочки. Лиза обхватывает его руки рассыплется в хрустально-звонком смехе, в каком только она и могла рассыпаться радостно вскрикивая:
— Уже через неделю? Ты же не станешь так шутить надо мной? Так скоро? Ты представляешь себе как это скоро? — и хочется закружиться, затанцевать по этой небольшой комнате, закружиться от счастья, охватившего все ее существо. — А сколько тогда мне надо успеть сделать… А платье, боже, платье! Как успеть за неделю… Мы обвенчаемся наконец-то! Какое счастье, Кирюша! Я даже не верю, не верю, что это с нами происходит. Неужели я правда заслужила это? Мы это заслужили! — Лиза радостно смеется, вскакивает с кресла на котором сидела, увлекая его за собой в танец, музыка в котором слышна только им двоим.
Поделиться122024-04-13 22:50:12
***
Он появился из-за спины Вари так неожиданно, что Лиза в начале даже опешила, едва не упав с импровизированного помоста, который был сооружён специально для нее и на котором мучали ее уже несколько часов, пытаясь определить какое платье для ее пока ещё не раздавшейся во все мыслимые и не мыслимые стороны фигуры подойдёт лучше всего – какой вырез делать у платья [по модным теперь французским образцам или же что-нибудь оригинальное], насколько пышной следует делать юбку, а так же из какой ткани и какими камнями стоит украсить это платье. И если сначала всей этой сумасшедшей и такой радостной кутерьмы, в которую никак нельзя было приглашать Кирилла [«Нет, ты не должен видеть меня в платье это дурная примета!»] от чего все работы велись исключительно в дневное время, то теперь ее природная подвижность давала о себе знать и Лиза вертелась и крутилась как могла, вызывая очевидно недовольство всех участников процесса. Варя обещала привезти кое-что из украшений их коллекции [украшения Лизы все ещё томились где-то там, куда ход пока был закрыт]. Что же, видимо кроме украшений с ней приехал и ее отец, то ли просто охранявший дочь [вряд ли Варе когда-нибудь нужен был охранник], то ли имевший разговор к Лизе.
Князь весьма вовремя успел подставить руку от чего Лиза только оступилась, но, опираясь на нее смогла вырваться.
Время не щадит никого и даже вечно казалось молодого Григория Сергеевича Вяземского, который за то время, которое не видела она его кажется постарел ещё немного. Между бровей его пролегла лёгкая складка, волосы кажется стали ещё белее и только глаза проницательно-умные остались прежними, которыми она их знала и помнила всегда.
— Князь, — она чуть кивает головой по привычке, обращаясь к нему как к человеку чуть ниже себя по статусу запоздало думая о том, что теперь это возможно вовсе и не так. Но если он и могу подумать также, то никак этого не показал, лишь почтительно поклонился в ответ, пропуская, наконец, вперёд Варю, деловито разложившую принесенные драгоценности на все ещё таком скромном столике, на котором они смотрелись почти дико.
Лиза сомневалась какое-то время стоит ли вообще так сильно переживать о свадьбе, которая была лишь формальностью закрепления отношений в которых она и без того не сомневалась. Но потом приходила к решению, что слишком долго мечтала и грезила этим событием, тем самым ради которого они столько всего выстрадали. Да, свадьба оставалась формальностью, но слишком важной, чтобы отправиться туда в платье, взятом на прокат. И если драгоценности придется одолжить, то хотя бы платье будет таким, каким она сама себе его представляла. Это событие, значило, что они добились своего, это должно было быть пусть даже маленькое, но торжество – торжество над всеми преградами, символ окончания бесконечной, казалось, черной полосы, в которой они увязли, событием из снов и грез, поэтому они с Варей условились на том, что спустя рукава даже за неделю [узнав о сроках она сделала весьма красноречивое выражение лица которое едва ли не означало, что участники действа сошли с ума] заниматься этим нельзя. К тому же, коллекция драгоценностей Вяземских уступала разве что кладовым императорского дворца и быть может Юсуповым.
В свое время бабка Вари была знатной любительницей всего, что сверкает. Видимо именно благодаря ей и появились в их коллекции такие драгоценности как диадема, напоминающая маленькую корону из горного хрусталя и бриллиантов, за счет необычной огранки хрусталя она приобрела мерцающий эффект; изумрудно-бриллиантовая брошь, крупный изумруд в которой был привезен из далёких странствий князя по теплым странам, браслеты, ожерелья и прочие и прочие изящные вещицы, каждая из которых стоила куда дороже, чем вся эта квартира. А впрочем, к определенному своему стыду, Лиза и понятия не имеет сколько украшения стоили. Им их дарили, они их заказывали, а рассчитывался казначей, но никогда и не задумывались о цене – говорить о цене преподносимых украшений императорской семье попросту немыслимо. Будь у нее возможность она бы шла под венец в своих украшениях – украшениях, подаренных отцом и братом, материнских рубинах и бриллиантах, доставшимся в наследство.
Впрочем, будь у вас возможность все вообще было бы не так.
— Я благодарю вас, князь, что позволите надеть украшения из вашей коллекции, — наконец находит она необходимым сказать. — а также за то, что поддерживаете нас.
— Я посчитаю за честь, если в такой важный день вы их наденете. Хотя я и не считаю, что они способны перекрыть вашу красоту. Ваше Высочество, — князь как всегда мягко, но по-деловому переходит к делу с которым пришел и вряд ли это был обмен любезностями по поводу изумрудов или бриллиантов, сверкающей горой лежащих на скромном деревянном столике и таинственно отражаясь в зеркале. — могу ли я на правах вашего старого друга поговорить с Вами?
И этот вопрос так или иначе означал невысказанное «наедине». Лиза эту недосказанность понимает, жестом отсылая корпевшую над подолом платья Марфу вон. В комнате остаются только они втроём – вряд ли отец скажет что-то, чего не сказал собственной дочери.
— Ваше Высочество, если я дам вам совет, вы послушаете меня? Даже если он вам не понравится?
Вопрос звучит слишком загадочно, но она каким-то предательским образом понимает к чему он клонит. И все же ничего не остаётся как кивнуть, почти что нехотя. Среди влиятельных дворян у них все равно как ей кажется никого нет, а Григорий Сергеевич ко всему прочему буквально спас им обоим жизнь. И в своей неприятной правде зачастую бывал сурово прав.
— Вы же знаете, князь, я безмерно уважаю вас и всегда слушаю ваши советы, — помедлив немного отвечает она, накидывая на плечи платок.
— Я говорил об этом с Кириллом Андреевичем, но теперь думаю, что следовало поговорить с вами, пусть он и согласился с этим. Ваше Высочество, я считаю, что венчание ваше обязано быть тайным и оставаться таковым до лучшего момента.
Ее зелёные глаза опасно загораются, грозя перещеголять по цвету изумруды, лежащие рядом. Они вспыхивают знакомым непримиримым огнем, духом несогласия, который сразу же завладевает всем ее существом. Слишком трудно примириться с тем, с чем не можешь согласиться. И все же она владеет собой до последнего, упрямо вздергивая подбородок.
— Что же, про прятки я уже слышала от своего жениха, Григорий Сергеевич. А я то все гадала с кем имелся у него разговор.
— Ваше Высочество, Кирилл Андреевич, как и с вашего позволения ваш старый слуга, просто понимаем, что иначе в нынешних обстоятельствах нельзя. Пышная свадьба навлечет на вас скорее беду.
— А что, было бы можно в каких-то иных? — с вызовом спрашивает Лиза, плотнее обхватывая себя руками, с тоской переводя взгляд на петербургские улицы за окном, заваленные снегом. Сейчас день и по ним то и дело шныряют то лавочники с подносами полными горячих пирожков или затейливых украшений, экипажи проносятся богатые и не очень, мальчишки играют в снежки, проскальзывая по дорогам и изваливая свои шубы в снегу. — Григорий Сергеевич дело совсем не в пышном празднестве. Если бы могла я бы вышла за него замуж прямо в этой комнате, пускай и так. Спросите меня мечтала ли я о такой свадьбе, поспешной, тайной, в чужих драгоценностях, под чужой крышей? Я скажу нет, но кто из девушек мечтает таким образом выйти замуж? Беременной и едва ли не потеряв того, кого любила. Я не мечтала, но мне теперь это совсем не важно. Я смирилась с тем, как перевернулась моя жизнь после смерти Саши. Но я никак не могу смириться с тем, что собственную свадьбу я вынуждена скрывать даже теперь, словно это преступление! Никакая пышность мне не нужна, но по крайней мере это могло бы быть… — дух перехватывает от собственной долгой тирады и она ухватывается за живот, чтобы отдышаться и немного успокоиться. Самое раздражающее во всем этом, что князь смотрит на нее как на малое дитя, да и она с каждым своим словом чувствует себя этим самым эгоистичным ребенком. Лиза глядит почти сердито и пробурчит заканчивая. — … несколько публичнее, чтобы люди знали, что все произошло по закону, чтобы друзья могли порадоваться вместе со мной.
— Но ваши друзья уже об этом знают или нет? — мягко возражает князь, снимая дорогие перчатки с рук. — Ваше Высочество в вашем случае любое празднество станет пышным. Вам от сей участи не уйти. Люди вас любят, иные боготворят – народ непременно соберётся, чтобы на это посмотреть, как цесаревна, дочь Петра Великого, выходит замуж за простого и скромного офицера. Придет и гвардия. Вы станете получать письма от иностранных домов или станете хотите вы того или нет получать знаки внимания от послов и приглашения на вечера, от которых сложно будет отказаться. Предположу также, как бывший дипломат что при иностранных дворах все весьма активно станут обсуждать такого рода прецедент. Так или иначе по пышности своей, даже если венчаться станете вы в самом маленьком храме и венчаться приедете на хромой кобыле, венчание ваше поспорит с коронацией Ее Величества. А обиженная императрица это единственное, что вам не достаёт, а?
Лиза в этот момент почти что ненавидела его. Ненавидела потому, что со всей своей холодной рассудительностью был совершенно прав, а у нее даже не остаётся верных аргументов, чтобы что-то ему противопоставить. Ровно как и Кириллу. Он шел сюда точно зная, что прав, что убедит ее, чувствовал, что она всю эту тайну с венчанием может нарушить, не соглашаясь с тем простым фактом, что требуется все это скрывать. Скрывать. Боже, как ненавидела она это слово.
— А значит, если вы не хотите оскорбить императрицу, вам как минимум пришлось бы подождать до коронации, которую Тайный Совет перенес на лето. А в вашем положении я не думаю, что это хорошая идея. И именно тогда ваш будущий ребенок родится вне церковного брака.
— Я просто напишу сестре о том, что хочу сделать. Возможно, она поймет меня.
Его лицо изменяется, спокойствие сменяется совершенно искренней обеспокоенностью. Тень наползает на его, а черты лица становятся словно чётче – станет сильнее выпирать челюсть, морщины станут заметнее. Он неожиданно сделает шаг к ней, и его глаза темнеют. Голос – твердый и серьезный, стремящийся достучаться до нее и убедить. И самое грустное в том, что где-то в глубине души Лиза уже отлично понимает, что ему это удастся. Князь всегда был дипломатом потрясающим, даром что отошёл от двора.
— Вы не должны рассказывать об этом императрице. Ей – точно ни в коем случае. Вы можете рассказать ей о ваших отношениях, да она все равно узнает. Сейчас в Петербруге и Москве так много фигляров из Тайной Канцелярии, что кажется известно им даже о том, когда кто чихает и справляет нужду, — князь презрительно морщится. — Ваше Высочество, вы не помните по причине той, что были весьма молоды, а вот я помню хорошо. У императрицы есть все основания недолюбливать линию вашего отца. Ее отец был слаб умом, отрекаясь от престола он вряд ли осознавал, что вообще им правил. Иные дворяне могут думать, что новая императрица может быть к ним расположена, но боюсь это фикция. И на месте некоторых из них, вроде нашего канцлера, я бы не позволял себе забыть о том, что они сами помогали вашему батюшке когда-то. К тому же, Ваше Высочество – что если императрица не позволит такому браку случиться? Если она аннулирует его? И в конце концов главное, — его рука сильнее сжимает ее запястье, от чего наверняка останется на коже какое-то время белый след. — вы ведь знаете, что по указу батюшки вашего если лицо императорской фамилии женится или выходит замуж на особе не королевских кровей, то лишается прав на престол в какой бы очереди не стоял?
Лиза горько усмехнется, мотнет головой так, что рыжие локоны разметаются по плечам. О, если бы было ей теперь до этого, последнего дело! Трон и великие дела влекли ее к себе столь слабо, что она теперь уж и не слышала этого зова. Корона – это теперь не для нее, она не нужна ей. Все, чего она хотела, к чему она стремилась – быть с ним, с человеком, которого полюбила. Он – все, что у нее осталось и вряд ли готова она была его заменить на призрачное блистание бриллиантов и рубинов на императорской короне. Ей хочется засыпать и просыпаться с ним, танцевать с ним, скакать вместе верхом, шутить над ним, заставляя улыбнуться [потому что у него самая потрясающая улыбка из всех], читать вслух Шекспира и растить детей [да-да, непременно нескольких]. И нигде в этих планах и мечтах не мелькала корона.
— Саша женился по любви! При всех! — в отчаянии заявит она тем временем, цепляясь за какие-то призрачные надежды.
— Александр Петрович был императором. Он не являлся претендентом на престол и кроме того ему сложно было возразить – тогда никто не хотел видеть иных кандидатов и такую прихоть ему могли простить.
— Тогда и я тоже не стану – черт с ней с этой фамилией, с этим титулом и прочим! Я, может, мечтаю быть вовсе не Елизаветой Романовой, а Елизаветой Волконской! От чего мне не позволить? От чего мне не могут позволить такую малость? — в ее голосе предательски зазвенят слезы, как у ребенка и она вдруг понимает насколько молода и не опытна она и насколько до сих пор ничего в этом не смыслит. И отчаянно вдруг захочется увидеть Кирилла, броситься в объятия и попросить как минимум защитить о такого рода правды, с которой приходится сражаться. Боже, беременность и правда сделала тебя Лиза, размазней. — Для всех наш ребенок будет незаконным, а я так и не смогу заявить, что это не так, я не смогу его защитить, как вы не понимаете!
— Но вы ведь будете знать, что это не так, — его глаза смотрят мягче, он отлично понимает, что стал невольным палачом в такие счастливые для них дни. — и будут знать все, кто вам предан. В том числе и я. Слово князя ещё чего-то стоит. А злые языки всегда найдутся. На вашем венчанием будут свидетели, которые поставят свои подписи, будет моя дочь, — кивнет на Варю и проложит. — будет наша печать. Вашему ребенку даст свое имя Кирилл Андреевич, а даст Бог при хорошей службе и передаст нажитое состояние. У ваших детей будет имя, но не отказывайтесь от своего. Царевна без короны не опасна и беззащитна, зато ей опасны совершенно все. Ваше имя может больше, чем вы думаете. И никогда не знаешь, как сложится будущее… — последнее прозвучит так загадочно, что захочется спросить, что он имеет ввиду, но он словно не даёт на этом остановиться и задержаться и продолжает. — Если же убедитесь, что ваша сестра благосклонна к вам и опасности нет, то вы расскажите об этом всем, откажитесь от прав на наследование престола после ее смерти, ведь у императрицы нет детей и будете счастливы. Просто не торопитесь с этим теперь.
Лиза шмыгнет носом раз-другой, а после слезы как-то сами польются из глаз. То ли из-за его слов, то ли из-за того как мягко он их произнес, то ли из-за внезапного осознания собственной сиротливости. Григорий Сергеевич был отличным отцом и говорил с ней почти по-отечески. Она живо вспомнила собственного отца, который бы теперь от ее решений бушевал ни на шутку, вспомнила Сашу, который бы одобрил, в конце концов Аглаю Владимировну, которая теперь была так далеко. А может стоило остаться? Боже, она ничегошеньки не знаете совсем ничегошеньки, а ещё ведь и ребенок родится, а как защищать его?
Лиза сама того не осознавая потянется к нему – надёжному, знающему человеку, которому и вправду можно доверять. И он не растеряется, по отечески обнимая ее предательски дрожащее тело. Позже она, пожалуй, себя возненавидит за подобного рода проявления эмоций, которым благодаря беременности своей стала подвержена особливо.
— Ну, Ваше Высочество, полно, полно, — похлопает по спине успокаивающе. — В конце концов я теперь чувствую себя совершенным негодяем. Вытрите слезы, прошу, — он протягивает ей платок в который она совершенно неэлегантно высморкается. Платок разумеется теперь придет в негодность.
— Отчего вы так заботитесь обо мне? О нас? — шмыгая носом и вытирая слезы в уголках глаз спрашивает она. — Полагаю, это не слишком безопасно.
— От того, что не вижу причин почему я не должен этого делать, — просто отвечает он. — Помогать чему-то хорошему и светлому остаться в этой безумной стране и дать ей шанс… — он оборвет себя сам. — Да и к тому же я надеюсь, что моя дочь последует вашему примеру и тоже осчастливит старика замужеством и внуками.
— Нет, увольте, батюшка, от мужчин одни беды, — Варя наконец вступает в этот тяжёлый разговор и рассеивает последние тучи. — ступай уже, папа, ты итак ее расстроил, а нам предстоит ещё столько примерок.
— Да, но у меня есть чем загладить свою вину. Я собственно приехал, чтобы передать вам свадебный подарок, а не испортить будущую свадьбу, — он вытянет из-за пазухи увесистой шубы коробочку, обитую синим бархатом. И когда откроет ее на подушке из шелка окажется дивная, невероятной красоты и размеров жемчужина на тонкой алмазной подвеске. Красота ее действительно завораживает. И Лиза предательски ей зачарована, как была бы зачарована любая на ее месте. Зачаруется ее грушевидной формой, мерцающим молочным блеском, гладкой поверхностью
— Эта жемчужина по испански зовётся «La Peregrina», — проложит князь. — Блуждающая жемчужина. Говорят, была выловлена невольником ещё в XVI веке у берегов Панамы. За это он получил свободу. И я надеюсь, что она принесет эту свободу и вам. А теперь я оставлю вас. В конце концов я и так отнял у вас слишком много времени.
Возможно, князь знал уже тогда, что преподносит такой редкий дар будущей императрице – прекрасный шахматисты всегда играющий белыми фигурами. А возможно, просто хотел хоть как-то сгладить ту жестокую правду, которая она услышала сегодня.
Но на свое венчание Лиза наденет только ее, то ли не желая перекрывать ее другими украшениями, то ли вдруг осознавая окончательно, что они ей не нужны.
***
Иной, посмотрев на такую метель заметил бы, что это дурное предзнаменование – выходить замуж тогда, когда ветер задувает в спину с такой страшной силой, словно пытаясь отговорить от совершение сего действа. Человек менее суеверный заметил бы, что ехать попросту небезопасно – в такой буран не ровен часть заплутать, что заметил кучер.
«Наедем на кого, опасно это».
Но Лиза, кутающаяся в белоснежную, сливающуюся с окружающим их снежным покровом шубку, надежно прикрывающую разве что живот, не относилась ни к излишне суеверным людям, ни к людям, которых дурная погода могла бы остановить от задуманного, вот и наотрез отказалась откладывать выезд хотя бы на минуту. Вслух она того не сказала, но подумала: «Он меня ждет». И этого было достаточно, чтобы выехать с крыльца неприметного по своей сути дома близ Фонтанки, периодически встречаясь со взглядом Вари, сидящей напротив. Упрямство Лизы, желающей поскорее выйти замуж теперь, кажется немалым образом веселило ее.
Ехали они неторопливо, потому что иначе было конечно же нельзя – слишком замело дороги, которые никто не успел вовремя расчистить, от чего каждый раз вероятность навернуться на очередную яму, заехать колесом кареты в колею, оказывалось все больше. И, так как делать было все равно особенно нечего, а ее непонятное, радостное волнение, которого она от себя не ожидала, начинало изрядно досаждать [Лиза измучила собственные перчатки поминутно снимая их с рук и надевая обратно], они решили обсудить то, что Варя, находясь в переписке с некоторыми из фрейлин, оставшихся при дворе, знала куда лучше самой Лизы – императрицу.
Катенька Свиридова среди прочего жаловалась на то, что поговорить с новой императрицей совсем не о чем, а ведь сколько надежд было у юных и не очень особ, что с приходом правителя женского полу все станет попроще. Жаловалась она и на странные причуды императрицы и пристрастия, которые с придворной жизнью вязались откровенно плохо. «Любит наша императрица пострелять. У каждого окна во дворце по ружью. Как встанет с кровати – так за ружье берется и стреляет по воронам и голубям, которые над дворцом кружат. Теперь каждый день того и гляди на мертвую птицу наступишь…». Варя рассказывает о письмах Свиридовой неторопливо, пока проносятся мимо запотевших оконцев кареты зимние пейзажи. Рассказывает, да поглядывает на Лизу, что той в какой-то момент надоедает.
— Мой батюшка тоже любил забавы разные, которые многим странным казались и ничего. Все одно сестра моя лучше по крайней мере человека, который едва силком меня под венец не утянул.
— Катенька пишет, что она однажды случайно мимо птицы промахнулась, да попала в караульного. Бедняга на силу оклемался, но к службе теперь не пригоден. А какая ж ему пенсия, если нигде отличиться не успел, а ранение получил от императрицыных забав? — Варя качнет головой и они надолго замолчат, прислушиваясь к звукам завывающего ветра, который то и дело в карету ударялся и грозился и вовсе ее опрокинуть. Слышно, как беспокойно всхрапывает лошадь, как поругивается кучер на «силу бесовскую», словно своей руганью может напасть отогнать.
Окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу; небо слилось с землей. Лошадь ступала наудачу и поминутно то взъезжала на сугроб, то проваливалась в яму. Метель не утихала, небо не прояснялось. И, когда при очередном неудачном повороте лошадиные ноги окончательно увязли в снежной колее и кучер, заарканившись, отказался ехать дальше, Лиза не выдержала. Не выдержала, выпрыгивая прочь из теплой от их дыханий кареты, буквально сразу в своем же подвенечном платье цвета слоновой кости, увязая в этом снегу. Холодные льдинки сразу же коснулись нож и чулок.
— Лиза, право, что ты удумала – не ровен час ты простынешь! — Варя пытается увещевать ее или же воззвать к голосу разума, но он, кажется, Лизу оставил. В ее голове только и стучит одно и то же: «Он ждет, он меня ждет, или сегодня это произойдет теперь или никогда!». От этих мыслей только сильнее укреплялось желание и намерение ее поскорее оказаться в обозначенной церкви.
— Ты как хочешь, Варюшка, а я не намерена больше ждать и обратно поворачивать отказываюсь! Мне глубоко безразлична и эта метель и пусть хоть небеса обвалятся теперь! Если ехать невозможно теперь – пойду пешком! — и, словно собираясь исполнить свою угрозу, отправляется прочь, грозясь испортить платье, подол которого впитывает влагу с пушистых сугробов, которые намел жестокий ветер за это время.
— Стой! Стой, сумасшедшая тебе говорят! — Варя перекрикивает завывающий ветер и пожалуй только она и способна обращаться к Лизе подобным образом. — Ей богу, ты и ста метров в такую погоду не пройдешь в таком наряде, да еще и в положении! — Варя вылезает из кареты следом, набрасывая капюшон от плаща на голову, хватая не так уж далеко отошедшую от кареты Лизу под руку и настойчиво отводит обратно. — Никто твою свадьбу не отменит. Я попробую что-нибудь сделать, а ты, сиди внутри.
— И что ты сделать тут можешь? — в тихом отчаянье спрашивает Лиза, а та усмехается одной из тех заговорщических улыбок, которые, обычно говорили, что есть у нее план.
— С лошадкой поговорим. Даром что ли меня цыгане воспитывали? — и она скроется прочь, теряясь в этом мраке ночи, оставляя ее в тревожном одиночестве, в котором в любой момент грозилась Елизавета Петровна еще немного и снова сбежать куда глаза глядят.
Варя тут не лукавила – цыгане знатные были любители лошадей и общались с ними так словно говорили на лошадином языке иной раз не хуже языка человеческого. Не даром лучшими конокрадами считались именно цыгане, которые добрую лошадь непременно украдут, если захотят. А так как Варя никогда к сему народу предубеждений не испытывала, то и секретов их знала больше. Даже из тех, которые Лизе были совершенно неведомы.
Ожидание кажется вечным, а ей становится все тревожнее и самые отвратительные мысли лезут в голову. Ведь бывали, говорят случаи, что невеста или жених в самый последний час перед венчанием вздумывали передумать и оставляли второго человека ни с чем, в последний момент испугавшись. А что если решит Кирилл [а она его знает, наверняка ведь подумает таким образом!], что и она решила передумать в последний момент, решит, что она-де, подумав немного, решила, что жизнь вне дворца ей совершенно не подходит, да и сбежала куда-нибудь на бал, али вообще за границу. Да, пока Вари не было [не было ее на самом деле и не очень долго] приходили ей в голову самые невероятные мысли одна страшнее другой. И мерещилось его бледное лицо с поджатыми губами [каждый раз ведь делает он такое лицо, когда недоволен, расстроен или с чем-то не согласен] и серыми глазами. А если он, чего недоброго, с горя от такого ее предательства внезапного решит стреляться, или уйти куда глаза глядят – ведь мужчины так любят с плеча рубить! И как это будет право глупо, глупо, глупо! Она живо представила его – такого бледного, такого несчастного, так ее и не дождавшегося, что едва ли удержалась от очередного желания броситься прочь, так хотелось закричать в эту пустоту зимней ночи: «Я иду, жди меня!».
И, то ли поддаваясь ее собственному волнению, то ли просто устав от таких глупых материнских выдумок, шевельнется внутри кто-то и уже куда более ощутимее, нежели обычно, толкнется, ударится в живот и снова затихнет. Но теперь ей уж точно это не кажется и она сама замирает от охватившего ее секундного восторга.
— Ох, был бы здесь твой папа – обрадовался бы, он никак не мог этого дождаться…
Вдруг, откроется дверца кареты и Варя – слегка растрепанная, вся покрытая снегом, с вымокшим подолом платья и с раскрасневшимися щеками окажется внутри, а после и карета-таки двинется в сторону, словно у лошади новые силы появились, чтобы вытянуть незадачливых ездоков из снежного заноса, в который они умудрились попасть.
— Иногда мне кажется, что за век жизни с тобой не рассчитаюсь, Варя, — только и выдохнет Лиза, а та только весело качнет головой, мол: «Однажды сочтемся!».
***
— Кирилл!... — она выдыхает радостно, сама тянет к нему озябшие от неподвижности руки в перчатках, мгновенно забывая о всех тех неприятностях, которые пришлось пережить, пока добирались до церкви. Разом проходят вообще все ее волнения стоило только увидеть его, стоило только оказаться в его руках в таинственной полутьме храма, освещаемого только светом свечей. В храме пахнет медовым воском, пахнет ладаном и ни единой души кроме них и Володи с Варей. Обычно императорские свадьбы проходят совсем иначе и длятся много дней, да только она внезапно отчетливо осознает, что ей и не нужно ничего такого, как не нужны оказались излишние драгоценности.
Не нужны рукоплескания толпы и множество чинов и родов, ничего ей не нужно кроме этой уютной тишины и потрескивания свечей и лампад.
Не нужно ничего кроме его руки, до последнего сжимающей ее руку.
И теперь, здесь, прикасаясь к таинству такому древнему, прикасаясь к душам друг друга она осознает это счастье – полноценное, настоящее и абсолютное. Неподдельное. И оно охватывает все существо, заставляя внутренне трепетать, пока слышатся слова молитв, пока повторяешь за священником в праздничной ризе: «Господи помилуй!». Да, у них нет огромного хора где-то позади, не украшен храм всем, чем только можно, но ничего и не чувствуешь этого. Чувствуешь только, что будто вовсе и не здесь находишься, а паришь где-то под облаками, вместе ангелами, которые вас венчают. Проникаешься этим чувством чего-то святого, пока навсегда венчают ваши тела и души друг с другом. Во веки веков. Навечно.
Знать бы только, что у жизни очень разные понятия о вечности случаются.
Батюшка обращается к ним, говорит о браке, возможно и осуждая где-то глубоко в душе то, что делается это тайно. Ведь обычно приходят к нему заранее, приходят, чтобы исповедоваться до венчания и причаститься, да и не грех ли венчать кого-то тайно? Но может ли грехом быть любовь такая, какая у них? Она может приносить боль, быть жестокой, быть безумной, но никогда, как ей мыслится не может она являться греховной. А может и не осуждает священник с добрым мудрым взглядом их горемычных и молодых, может и вправду благословляет на долгую жизнь вместе. Лиза не знает, стоя лицо к алтарю с зажжённой свечей в руке, потому что и не думает об этом. Пора и вовсе, как и сказал князь, о мнении людском позабыть.
После того, как слова псалма закончены, обращается священник сначала к Кириллу, а потом и к ней:
— Имаши ли произволение благое и непринужденное, и твердую мысль, пояти себе в мужа сего Кирилла, егоже пред тобою зде видиши?
— Имею, честной отче, — спокойно и не громко отвечает она, хотя на этот вопрос хочется прокричать. Прокричать если нужно множество раз: «Да!». Точно так же, как отвечала самому Кириллу, заставляя делать предложение еще раз.
— Не обещалася ли еси иному мужу?
— Не обещалась, честной отче.
Многие разве что пытались пообещать это за нее, но сама она никогда этого не делала. Никто не смог заставить ее отдаться человеку, которого она не уважала и не любила. Многие пытались принудить, в том числе люди в этой стране самые влиятельные, но не вышло. «И не выйдет никогда!» - неожиданно громко промелькнет в голове ясная и очевидная мысль. Теперь то уж конечно никто не сможет их разделить, потому что они венчаются перед самим богом, а какой человек сможет такой союз разорвать? Эта мысль заставляет выше поднять подбородок, улыбнуться уголками губ, пока слышатся слова священника.
Ни у кого и никогда не выйдет разорвать те узы, которым их связывали теперь, накидывая на их соединенные теперь правые руки епитрахиль, а она чувствует мягкое тепло от его ладони.
По окончании молитв священник берет венец, на котором изображен Спаситель, обращается лицом к ним, стоящим так близко друг от друга:
— Венчается раб Божий Кирилл рабе Божией Елизавете во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь.
И, этим венцом благословляет, жениха, невесту, обоих , после чего надевает золотой венец на его голову. А после обращается уже к ней, держа в руках такой же позолоченный венец с изображением Божией Матери:
— Венчается раба Божия Елизавета рабу Божиему Кириллу во имя Отца и Сына и Святого духа. Аминь.
И теперь и на ее голову опускается этот венец и что-то странное в эту секунду касается ее души. Не особенно много весит венчальный венец, пусть и ощутимой тяжестью нависает над головой. Вспоминается зачем-то отец и все тот же случай с настоящей короной, что делалась ювелирами ко дню его венчания как императора России. Короной, которую умудрилась надеть на свою рыжую головку и которая оказалась такой тяжелой ношей, что она расплакалась.
Теперь ноша эта была приятной, она означала что наконец-то они вместе совершенно законно.
Знать бы только, что эта лишь первая корона, лишь первый венец, венчающий ее голову, тяжести которого она еще даже не почувствовала в полной мере. Но из всех венцов [а некоторых и терновых вовсе] этот самый счастливый.
Наконец, самый ответственный момент, подготовкой к которому все прошедшее ранее являлось, ради которого возносились все молитвы, для которого все и собрались, священник начинает венчать.
Обращаясь к Богу в сторону алтаря, священник воздевает руки и произносит неожиданно громко в этом пустом и уютном храме:
«Господи Боже Наш, Славою и Честию Венчай я».
И дальше последует чтение Евангелия, молитвы, но после этого они венчаны и ничего уже не может это изменить. Ничего и никто, даже если бы кто-нибудь и хотел.
Лиза улыбается уголками губ, перекрещиваясь, качая головой. Дыхание родное касается щеки. Дернется кружево фаты, над которой днем и ночью корпели Марфа с Верой Дмитриевной.
— Вы хулиган, Кирилл Андреевич – отвлекаться во время венчания, — мягко замечает она, но сама слегка повернет голову, чтобы посмотреть наконец на его лицо хотя бы пару мгновений. Словно не будет видеть его теперь каждый день. — Но я так и решила, что ты так подумаешь. Но я бы никогда не передумала. Я бы пришла к тебе пешком, если бы понадобилось, — мягко отвечает она, встречается с этими глазами, которые не могла забыть с тех самых пор, как увидела. Знала ли она, что позже без этих глаз жить не сможет? Не знала, но чувствовала. Она влюбилась в него заранее, еще не встретив. Так как может быть иначе?
Милый, я пришла бы к тебе сквозь эту метель, я пришла бы к тебе даже ползком, если бы не могла идти, я пришла бы к тебе даже если бы для этого понадобилось бы все потерять.
Выпьют вина из чаши, обойдут троекратно икону. Священник поочередно снимет с них венцы венчальные со словами:
— «Возвеличися, женише, якоже Аврмаам, и благословися, якоже Исаак, и умножися, якоже Иаков, ходяй в мире, и делай в правде заповеди Божия. И ты, невесто, возвеличися, якоже Сарра, и возвеселис,я якоже Ревекка, и умножися, якоже Рахиль, веселящиеся о своем муже, хранящи пределы закона зане тако Благоволи Бог».
И они ставят свои подписи в брачной книге вслед за священником, а за ними подписываются и свидетели определяя тем самым, что венчание совершено и законно.
И выходят из храма как муж и жена.
Небо черное с рассыпавшимися по его бархату бриллиантами-звездами. Лиза поднимает голову к верху с удивлением разглядывая это удивительно чистое небо, словно забывшее о своей безумной метели несколько часов назад. Теперь погода установилась такая тихая, словно сама природа решила сжалиться над ними и благословить этот брак также. Изо рта весело вырывается облачко пара – морозец прихватил к ночи от чего нападавший свежий снег искрится в свете зажженных фонарщиками фонарей около церкви пытаясь посоперничать с теми же самыми звездами на небе.
Лиза поворачивается к нему и затрепещет в груди, запоет, разорвется ослепительной вспышкой яркое осознание: «Женаты. Венчаны. Муж». Последнее и вовсе на разные голоса распевается в душе и ей хочется смеясь закричать всему белому свету: «Мой муж! Муж! Смотрите все – это мой муж!».
— Наш, — улыбаясь вторит ему, вглядываясь с любовью в его просветленное лицо. — Конечно помню, — улыбка делается лукавее, возвращая ей привычный вид той самой Лизы, которую когда-то умудрился встретить в лесу. — помню как ты отвратительно охотился! — глаза заискрятся веселыми искрами смеха. Ей становится теперь так легко, будто она соткана из сплошного воздуха – вот-вот и взлетит. Ей и хочется смеяться по весь голос, по-доброму дразниться, потому что наконец-то впервые за долгое это темное время они могут позволить себе быть счастливыми по-настоящему и полноценно. — Вовсе нет… — покачает головой, лицо сделается на миг серьезным, а потом просветлеет. —…это я тебя поймала! — и, рассыпавшись в звонком смехе, она чмокает его в нос, следуя за ним и смеясь еще громче.
Я бы последовала за тобой не только в самые сугробы в подвенечном платье, но и в самый ад, если бы ты держал меня за руку.
Стояла белая зима с тишиной безоблачных морозов, плотным, скрипучим снегом, розовым инеем на деревьях, иссиня-черным небом, шапками дыма над трубами, клубами пара из мгновенно раскрытых дверей, свежими, словно укушенными лицами людей и хлопотливым бегом продрогших лошадок; холод еще сильнее стискивал недвижимый воздух, а они будто его и не замечали молодые, влюбленные друг в друга, весело отфыркиваясь от снега, которым забрасывают друг друга превращаясь в малых детей.
— А не поймаете теперь! — крикнет ему, но убегает, если честно, так плохо, да и тем более по сугробам в таком виде, что поймать ее не составляет такого большого труда. Она засмеется пуще прежнего, крепко держась за его плечи, пока они кружатся в бесконечном вихре со снегом и кажется ей в это мгновение, что не было у нее дня счастливее этого. — Кирилл, Кирилл, устанешь, отпусти, хулиган! — но на самом деле она вовсе и не хочет, чтобы он ее отпускал, пока держится за его сильные плечи со смехом падая за ним в уютные объятия сугроба удобно, впрочем устраиваясь сверху него и заглядывая в его лицо. Бессовестно краснеют на морозе щеки, темнеет от влаги светлое платье, да и сама она растрепалась изрядно после этих снежных забав прическа, которую столь долго сооружали на ее голове. Но ей все равно, она внимательно смотрит на него, а потом чуть серьезнее говорит:
— Это я тебя поймала, — в глазах заплещется та самая любовь, которую воспевают поэты и которую непременно стараются поймать на картинах своих художники. Любовь, которая останавливает войны, примиряет врагов. Безусловная любовь. — и больше никому не отдам, — заканчивает на выдохе, прежде чем ответить на поцелуй. Их первый поцелуй мужа и жены.
И в этом поцелуе вся вселенная становится на место. В голове звучит музыка. Такая прекрасная музыка, что мне кажется, будто слышишь, как поют звёзды. И в таком поцелуе и задохнуться не страшно. Сразу согреваешься изнутри, но все целуешь и целуешь, не желая останавливаться, обмякая в его руках, которые наверняка удержат если что.
— Скажи это, — зеленые глаза темнеют, отливают темной бирюзой. — назови меня, — просит, выдыхая ему в губы, а он без дальнейший уточнений понимает о чем она. И сердце снова радостно встрепенется, сладко замирает, а Лизе только и остается, что вторить ему. — Муж. Мой, — и они снова сливаются в поцелуе, окончательно забывая о существовании чего-то за кончиками собственных губ и теплоты сплетающихся дыханий.
Лиза приоткрывает глаза, сонно хлопая ресницами, еще не полностью ощущая себя проснувшейся, но уже в полной мере ощущая себя вполне счастливой. И как оказывается прекрасно просыпаясь, вспоминать вовсе не ужасы прошедшего дня и представлять очередные тяготы сегодняшнего, а с удовольствием вспоминать маленький храм с иконами в золотых и серебряных ризницах и собственную свадьбу, а после горячие поцелуи первой брачной ночи, которые до сих пор горели на коже в некоторых местах. Она сладко потягивается, мурлыкая от удовольствия, пока не встречается взглядом с довольным лицом Кирилла, который снова по своему обыкновению ожидает от ребенка, притаившегося у нее в животе признаков существования. Тут Лиза уже вспоминает, что совершенно забыла рассказать о том, что признаки жизни упрямица или упрямец уже подавали – было не до того. И может быть стоило и сейчас рассказать, но на нее нападает лукавое настроение. Да и Кирилл в своем настойчивом ожидании уж больно мил.
— Какой же ты неисправимый! — воскликнет Лиза, взъерошивая его и без того взлохмаченные после сна волосы и влюбляясь в этого домашнего Кирилла еще, кажется сильнее. Никто ведь и не видит ее таким кроме нее, а ей это и нравится. Другим и не положено. Она шутливо пытается отмахнуться от него, вознамерившегося очевидно довести ее до приступа икоты от смеха, щекотно покрывая живот поцелуями, но не удается и остается ей только смеяться.
Напуганный таким неожиданным шумом с утра пораньше черно-белый Маркиз с возмущенным «мяу» дает деру прочь из комнаты, до этого грея шерсть под призрачными солнечными лучами.
По животу пройдется очередная щекотливая волна, когда шевельнется что-то внутри и наконец-то они оба это почувствует. Разница лишь в том, что для Кирилла это впервые. Лиза смеется ласково, разглядывая его восторженное лицо, качая головой. В груди разливается нежность: и к ребенку и к его отцу, который теперь смотрит на нее искрящимися серыми глазами.
— Чувствую-чувствую. Это уже продолжается какое-то время, но я не успела тебе сказать. Да и если бы сказала, то ты бы, наверное, не отходил от него! — со смехом замечает она. Смеха в их жизни теперь удивительно прибавилось. Она ласково удерживает его за плечи, отвечая на поцелуй. — Какой же ты все-таки…обычно все отцы ждут первыми мальчиков, а ты твердишь о девочке, — качает головой. — Но если ты прав и там вправду девочка, то кажется, дама только что явно дала вам понять, Кирилл Андреевич, что вы ее порядком утомили! Хотя не знаю такую даму, которой не понравилось бы, коли бы ее будили поцелуями! — заявляет Лиза, пододвигаясь к нему, опуская голову ему на плечо и слушая о тех временах, когда их предполагаемая д о ч ь все же родится. И времена эти кажутся такими чудесными, что отчего-то представляются почти что несбыточными.
Наверное, ты просто разучилась в подобное верить. Верить во что-то хорошее, а? Везде до недавних пор виделся подлог, отовсюду ожидалась погоня. А теперь так хорошо, что страшно.
Лиза разглядывает его лицо, пробегая пальцами по линии подбородка и вычерчивая скулы. Верит и не верит. Кольцо на пальце. Смех по утрам. И до чего же хорошо. И немыслимыми кажутся мгновения, которые могла провести не с ним - с каким-нибудь другим мужчиной или же вовсе за стенами монастыря. Все те беды, страхи теперь кажутся такими далекими и невероятными.
— Знаешь, иногда мне кажется, что ты мой сон… — тихо признается Лиза, теснее прижимаясь к нему. Внутри снова шевельнется рыбкой заветный малыш. — Такой прекрасный, что мне просто страшно, что так не бывает. И я боюсь проснуться и осознать, что все это время ты мне всего лишь снился. Проснуться, и не увидеть тебя рядом. Но, — она приподнимается на локте, склоняется к нему. Рыжие волосы, свисая, рассыпаются по его груди. — я просыпаюсь и это потрясающе – ты лежишь на моей подушке. Ты даже не представляешь как это замечательно, Кирюша! — она оставляет на губах долгий-долгий поцелуй, который бы грозил перерасти в нечто большее, ежели бы не Марфа, которая по привычке не учитывая теперь разницу в положении семейном, пришла разбудить их, а заодно принести воды для умывания. Теперь же, увидав видно совсем не то, что ей хотелось бы видеть, она, чертыхнувшись [словно дьявола увидела, не иначе] захлопывает дверь.
Лиза со смехом падает обратно на подушку, утыкаясь ему в плечо, не переставая глухо хохотать, как только ловит его недовольный взгляд.
— Вспомнила, как ты грозился в Яузу мою горничную сбросить! Придется нам сбежать из дома на некоторое время.
***
На фоне ослепительно белого покрова, лежавшего на кровлях, и даже не столь белоснежного – лежавшего на земле, стены домов казались сумрачными, а окна – и того еще сумрачнее и темнее. Тяжелые колеса экипажей и полозья саней оставляли в снегу глубокие колеи, а на перекрестках больших улиц эти колеи, скрещиваясь сотни раз, образовали в густом желтом крошеве талого снега сложную сеть каналов, наполненных ледяной водой. Вода образовалась из-за нежданного тепла, обрушившегося на столицу и теперь скорее усложнившего ее обитателям жизнь. Снег становился тяжелее, а ноги, которые то и дело проваливались в колеи, мокрее. То и дело какой-нибудь незадачливый господин становился жертвой коварной распутицы и ото всюду нет-нет, но и слышалась отборная брань. Дамы охали и смешно пищали, как только их подбитые башмачки оказывались в таких полыньях, дети весело угугукали.
Небо было солнечно, но улицы все равно тонули в пепельно-грязной мгле, похожей не то на изморозь, не то на пар и оседавшей на землю темной, как сажа, росой.
Лиза пташкой выпархивает их экипажа под руку с Верой Дмитриевной, оставляя Кирилла, которого не смогла уговорить отказаться от подозрительности по крайней мере сегодня. На рынке, как обычно воскресным днем прибывает огромное множество народа, все толкаются, торгуются и как это принято ругаются. Рынок этот считался вполне приличным, по сравнению с прочими по крайней мере не торговали здесь совсем уж дрянным алкоголем и не предлагали себя женщины первым встречным. С Верой Дмитриевной Лиза пришла сюда намеренно, решив во что бы то ни стало научиться выбирать продукты посвежее и быть может справляться потом с этим без ее помощи. Но вместо того, чтобы смотреть какая говядина здесь менее жилиста, а овощи свежее, Лизино внимание поглощают то лотки со сладостями, то с различными детскими забавными игрушками. Одни свистульки чего стоили: глиняные расписные птички, в которых стоило только подуть и они начинали имитировать соловьиные трели. К тому же усатый торговец так расхваливал свой товар, что Лиза окончательно этому соблазну поддается, тянет к себе Кирилла, уже успев съесть пару сластей с маком и медом – не удержалась.
— Ну ты посмотри, посмотри, какая прелесть! — перекрикивая шум рынка восклицает она, показывая свистульку. Вокруг такая сутолока, что и не поймешь, что происходит. — А вдруг понравится ей! Я и таких солдатиков здесь присмотрела – вдруг будет мальчик! — Лиза с надеждой вглядывается в его лицо, совершенно убежденная, что свистулька им просто теперь необходима. И отказать ей, когда она смотрит вот так очень сложно.
И уж лучше, чтобы они так и выбирали бессмысленные безделушки для будущих детей не замечая, как прячется за тучи солнце и сам воздух словно становится тяжелее. Не замечая, что народу на площади близ рынка много вовсе не потому, что в воскресенье все решили после службы пойти в люди.
Счастливых пташек напугать сложно, зато очень легко их, беспечных, заманить, в ловушку.
Лиза даже не сразу понимает от чего им следует «уйти», сжимая заветную свистульку в руках, оттесняемая толпой к центру площади и совершенно счастливая только теперь замечая помост, на котором явно должно было совершиться вовсе не театральное представление каких-нибудь уличных артистов. И она слишком поздно это понимает.
И Лиза бы рада уйти пока не поздно, но тут видит ведомого на эту казнь и замирает от ужаса, неосознанно цепляясь за Кирилла так крепко, что кажется если попробовать оторвать, то только с пуговицами от его же мундира. Нет, теперь уйти она бы положительно не могла.
— Коля… — сдавленно прошепчут губы, а в голове словно гасят солнце, которое так ненадолго зажглось в их жизнях. Когда солнце появлялось из-за облаков площадь веселела, золотились черепичные крыши, заметней становилась желтая штукатурка дворцов и домов коей покрывали здесь все, но через минуту, словно устыдившись, краски меркли, тушевались.
Конечно же она его узнала – как не узнать человека, с которым провели все детство, играли в салки и прятки по дворцовым паркам, пока родители отдыхали где-то в тени. И непременно в мальчишеских играх она тоже участие принимала. Голицыны помнится скакали впереди импровизированной процессии на деревянных лошадках, а Саша, как подобает старшему и будущему наследнику бежал следом за ними, размахивая палкой-скипетром. Она же изображала то принцессу, то злого дракона, когда принцессу изображать ей надоедало.
С ними вместе после обучались языкам, танцевали на балах и ассамблеях, убегая от скучных взрослых разговоров.
Они же так жестоко забыли об этом, как только умер Саша. И все же их помнила она также хорошо, как помнила себя. Помнила все эти невинные игры, помнила, что оба брата традиционно считались ее рыцарями и постоянно по очереди предлагали ей руку и сердце, а так же непременно голову. Моты, повесы, невыносимые зазнайки, но никак не те люди, которые могли совершить что-то, что могло стоить головы.
Становится дурно, все внутри кричало о том, что нужно уходить как можно скорее прочь, потому что чего же здесь дальше можно было ожидать? Но ноги прирастают к земле, а глаза болезненно впиваются в фигуру человека измененного до неузнаваемости допросами и пытками, но которого она все же узнала. Лиза потерянно оглядывается по сторонам и понимает как много людей пришли посмотреть на эту казнь, словно на какое-то представление и прибывали все новые. Разных сословий, чинов и званий – с балконов домов, с рыночной площади, с мостиков, перекинутых теперь через Неву смотрели они с жадным любопытством на такое отвратительное действие. Кто-то злорадствовал – не часто князь дворян, дом которых вызывал столько зависти, живших столь хорошо при прошлом императоре и знатно обогатившихся. Кто-то тихонько всхлипывал – наверное какая-нибудь особенно впечатлительная дама, которая черт знает почему как и Лиза все еще стояла здесь. Были даже дети, чумазыми лицами выглядывающими из-за широкой спины полной женщины, видимо матери, завершая картину этого жестокого и праздного любопытства. Прямо над ее ухом щебетал какой-то безусый юноша, очевидно только-только выпустившийся из навигацкой школы и теперь пытавшийся сохранить бравый вид. Он беседовал о чем-то со своим товарищем, но как только бросал взгляд в сторону арестанта и мрачно замершего за его спиной палача, обрывался и запинался.
«Откуда взяли этот пенек…Весь в крови. У торговца что ли какого забрали?...» — рассеянно пронесется откуда-то из-за спины.
Торговцы успевали бодро предлагать свой товар, поминутно толкая зевак то в плечи, то в спины, лениво извиняясь, но продолжая покрикивать: «А хлеба кому свежего?», «Рыба соленая», «Яблоки наливные таких не сыщите нигде более зимою!».
Казалось, мир сошел с ума.
Когда зачитывался приказ, императорский приказ, то рекламные выкрики их стихли, а ее глаза расширились от ужаса еще сильнее. Лиза и не заметила, как сильно дрожит, но словно желая причинить себе какую-то боль она вглядывается в лицо Николая, бывшего видно теперь, князя, очевидно уже себе мало осознающего, так как слишком много мучений перенес. Смерть в таких случаях является скорее логичным выходом из собственных страданий. Тогда, когда поведение и мысли уже не подчиняются собственной воле и все воспринимается как невозможный, отвратительный сон. Лиза сжимается под взглядом рыщущим по толпе, словно пытающимся в последний раз в ней отыскать кого-нибудь, кто по крайней мере стал бы ему сочувствовать, но таких найтись не может.
«За государево преступление…».
В голове становится совсем пусто, а язык присыхает к небу. Не верится теперь, что была она с утра такой счастливой, не верится, что и смеялась. Не верится ни во что, кроме происходящего в этот самый момент. За какое преступление? Когда успели Голицыны так насолить ее сестре? И самое главное, самое страшное, самое в этом невыносимое – не сделала ли она, Лиза, того же самого? Ах, как наивно и глупо было полагать, что все закончилось, что впереди только счастье, а страх – страх он остался позади. Нет, нет – страх теперь должен был навсегда поселиться в ней, каждый раз когда она будет вспоминать этот помост из сосны, этот кровавый пенек и этот взгляд, который то ли просил у нее прощения, то ли обвиняя во всех своих смертных грехах. Безумный взгляд. И грозно прозвучат предостережения князя Вяземского в голове.
Яблоки рассыпались по белому снегу – кто-то с силой толкнул торговца, тот неловко выругался.
Птицы вспуганные чем-то слетели с крыши собора черной стаей закружив над их головами.
Лиза не успела охнуть, не успела с ужасом крикнуть [и слава богу, пожалуй], что осуждаемый вероятнее всего ни в чем и не виноват, это ведь было очевидно, как топор молниеносно опустился вниз, а человеческая голова покатилась по помосту.
А она даже не успела отвернуться. Или не захотела.
Лиза не замечает и того, что все еще цепляется за Кирилла, что в другой руке все еще держит детскую свистульку – невинную игрушку для еще более невинного дитя. Лиза и себя в полной мере не ощущает, покорно-безмолвно позволяя увести себя прочь, все дальше от страшного места, где станет теперь палач вытирать свой топор, где будет помощник выкидывать окровавленные тряпки куда подальше. А толпа потихоньку рассосется – равнодушная, словно ничего и не было, но ведь было.
Было – все видели.
И она видела. И не сможет забыть.
Поделиться132024-04-13 22:52:27
***
На нее смотреть больно и страшно – лицо готово было посоперничать со снегом. Мгновенно оказываются под глазами глубокие тени, такие же как возродившиеся мгновенно тени за спиной. Лиза сидит в карете, которая должна была отвести их обратно, домой, не отвечая ни на один вопрос с плотно поджатыми губами и как будто бы и не уходила с этой проклятой площади. Она вздрагивает иногда, но это все – словно вынула эта отвратительная сцена душу и растоптала. В отличие от Кирилла она не видела смерть так близко и так жестоко. Не видела сам момент смерти отца – его видел только Саша. Не была она и на войне, чтобы наблюдать смерти товарищей. Не видела [к счастью] смерти Саши. До этого самого момента ее словно кто-то надежно от того охранял. Но не теперь. Не теперь. И не сказать ведь, что был Николай как и его брат [где то он теперь?...] безгрешны и не причиняли определенной боли ей самой. Но даже несмотря на это ей казалось все жутко неправильным.
Губы шевелятся безмолвно, словно бессвязно повторяют какую-то молитву, а взгляд опустел совершенно, остекленел.
Петербург снова стал черно-белым и пугающим.
Волна ужаса из глубины сознания проникает в самую ее суть, заставляя дыхание сбиваться. Если по указу императрицы, то значит ли это, что на смену одному дурному правителю придет другой? А ежели представить на этом эшафоте кого из друзей ее? Близких? Варю, Пашу, Матвея, Семена? А если…
Лиза переводит взгляд на Кирилла, который теперь сидит напротив и глаза расширяются от ужаса. А если бы там оказался он – то, чего так боялась снова вернулось. А воображение жило нарисовало эту картину, как по такому же деревянному помосту приведут его, ободранного и израненного, зачитают приговор, ухватятся за топор…
Дыхание учащается, в голове совершеннейший туман, а корсет платья неожиданно невыносимо сдавливает грудную клетку. Ей нечем дышать и ничего не остается как хватать ртом воздух, очевидно еще сильнее пугая Кирилла. Лиза хрипит, ударяет кулаком по стенке кареты, требуя на последнем издыхании:
— Останови!
Она даже не дождется пока карета полностью остановит свой ход, вываливаясь почти из нее на свежий воздух, который судорожно глотает, но задыхаться продолжает, удерживаясь за живот, пошатываясь направляясь к набережной. Руки без перчаток болезненно скребут по камню, пока она пытается вдохнуть, но не выходит. В голове продолжает тупо стучать: «Ошибка, ошибка, ошибкой было возвращаться!». Она передергивает плечами, прежде чем ее вывернет на все те же камнем отвратительной жижей из всего, что она сегодня проглотила. Но по крайней мере после этого ей удается сделать глоток спертого петербургского воздуха.
Ветер касается лица. Одинокие корабли на горизонте заходят в гавань. Вспоминается зачем-то свой собственный корабль, вспоминается и Саша. От свежего воздуха ей лучше, но она буквально шарахается от чужой руки на плече, шарахается как безумная от Кирилла, мотает головой, не желая ничего слышать, обхватывая голову руками.
— Кирилл, его казнили! Ему отрубили голову! — словно он сам свидетелем этого действа не был. Лиза кричит, словно он не стоит рядом, покачиваясь на зимнем ветру с Невы. — Кирилл, я его знала, я с ними росла! Я их знаю – они дураки, ловеласы, моты отцовского состояния, ленивцы ужасные, да и с нами поступали не лучшим образом. Они кто угодно, но не предатели! А если у нас теперь казнят за то, что кто-то дурак, то придется половину страны казнить! Я не понимаю, не понимаю, не понимаю за что?! — волосы треплет ветер. На набережной немноголюдно, поэтому свидетелями ее срыва являются весьма немногочисленные прохожие. Да и тем все равно. — Все просто стояли и смотрели на это…словно на театральное представление! Почему, почему, почему… — шепчет, не желая этого забывать.
Да, при ее отце тоже были казни, но она их не видела. Отец лихо подписывал подобные приказы, но никогда не видела их исполнение вживую. И никогда кто-то знакомый не оказывался на эшафоте даже в качестве просто наказания розгами.
Лиза бьется, бьется как птица пойманная в клетку в его руках, не осознавая до конца уже, что она в его руках, пытаясь то ли вырваться, то ли крепче прижаться и не желает слушать ничего успокаивающего. Так будет биться еще какое-то время, прежде чем хотя бы немного утихнуть, поднимая бледное лицо к его лицу.
— Кирилл, давай уедем! — она начинает говорить так быстро и поспешно, что возможно половины слов и не разобрать. И лепечет она это все ещё в испуганном безумии, потому что на самом деле никуда они не уедут. — Куда угодно, только уедем отсюда! «Отсюда, где летят головы…». Я знаю, что просила взять меня с собой, но давай уедем?... — она жалко всхлипывает мотает головой, прячет лицо на его груди. Лиза даже разрыдаться не может, но плечи ее продолжают мелко вздрагивать. — Мне страшно, страшно – а если бы там оказался т ы? Нет, я не могу, я не смогу этого снова перенести, слышишь?! — повторяет громче, безнадежнее, крепче пальцами сжимая его мундир. — О, если бы это зависело от меня, я бы запретила это. Я ненавижу это, я ненавижу эти публичные казни, ненавижу эту средневековую жестокость! Ненавижу, слышишь?...
Она понятия не имеет сколько так прошло времени они так простояли под этим ветром вне кареты, сколько успокаивающих фраз пришлось сказать Кириллу. Она и не заметила, пока ее тело продолжало передергивать при каждом вдохе и выдохе. И она не знает сколько времени понадобилось, чтобы хотя бы немного успокоиться. Мысли в голове прояснились хотя бы немного, а вместе с ними, как и вместе с дыханием гораздо более ровным, нежели прежде как никогда ясно ей представился единственный путь к их возможному спасению.
— Я пойду к ней. К императрице, — глядя в сторону дворца на противоположном берегу тихо выговаривает она. — даже если мне не пришлют приглашение, даже если без предупреждения я должна пойти к ней. Как только она приедет я тот час же пойду туда.
Дворец, бывший ее домом, так близко – всего лишь реку перейти по льду. Но так далеко, кажется что целая жизнь разделяет.
— Она моя сестра. Я пойду к ней, чтобы доказать, что мы для нее не угроза. Я должна. Я должна! — повторяет громче, снова оборачиваясь к нему, твердо глядя в глаза. И этот ее взгляд точно говорит о том, что ее не удастся переубедить. — Кирилл, я его знала. Я приехала сюда не для того чтобы бояться и оглядываться! Мне надоело прятаться! Я согласилась с нашей свадьбой, но это все с чем я согласна. Я буду жить без страха, я буду жить не боясь, что завтра придут за тобой и утащат в крепость! — твердость пошатнется, голос предательски дрогнет а подбородок затрясется. В голосе звенят слезы, которые так и не смогли пролиться. — Хватит с нас страха, слышишь, хватит! Довольно! Мне ничего не надо кроме тебя и нашего ребенка, а для этого мне нужно, чтобы мы чувствовали себя в безопасности! — она ухватывается за его руки, вглядывается умоляюще в лицо, отчаянно надеясь, что он поймет ее и по крайней мере не станет отговаривать. — Ты не представляешь как я люблю тебя, — прижимает его ладонь к своей щеке, целует ее. — у меня никого не осталось почти, все умерли. А я хочу прожить с тобой долгую жизнь, поэтому прошу, не отговаривай меня! — гнев блеснёт в зелёных глазах, упрямое неугосимое пламя.
И после этой пламенной речи она словно теряет остаток сил, ее плечи опускаются, она сама словно бы обмякает в его руках, окончательно измученная, позволяя отвести // отнести себя обратно в карету и вернуть под своды нового дома, где было так хорошо.
Но призраки ведь останутся навсегда.
***
Она разглядывает портрет, который только-только повесили на стену в галерее, рядом с портретами которые она знает кажется наизусть. Портреты, мимо которых она столько раз пробегала в детстве в развевающимся кружевном белом платьице. Иной раз пробегая мимо них она непременно делала шутливый реверанс или же изображала людей на них изображенных с умным видом. Этот же портрет появился среди парадных портретов недавно, потому что она не помнила ни его, ни человека, который был на нем изображён. Справа и слева находились портреты ее отца и брата [наконец-то портрет Саши вернули]. Отцовский прямой, величественный взор и великолепный парадный портрет Саши, который всегда надо признаться на портретах получался отлично, которые она разглядывала теперь со скромным портретом, пусть и помещенным в дорогую раму не сочетались. Этот портрет словно бы появился из какого-то другого времени и был проведен на стену по какой-то ошибке.
У человека на портрете были большие глаза слегка навыкат. В них не было ни искрящегося жизнелюбия, как в голубых глазах Саши, ни острого ума, который всегда был виден на отцовских портретах. Казалось, что человек на портрете и не совсем понимает, зачем его посадили перед художником – взгляд был добрым, но пустым. Мужчине с портрета словно было и не удобно в тех одеждах, в которые его нарядили – одежды старого Московского царства. Теперь такие можно увидеть разве что на маскарадах. И даже на этом масляном, слишком темном благодаря выбранным краскам портрете виднелась болезненная бледность изображаемого.
Лиза испытывала странное чувство, находясь в этом месте как гость, а не как законный его житель. Дворец, в отличие от многих событий, происходящих в империи, в отличие от собственных хозяев, сменявших один другого, по сути своей не менялся. Менялись только детали, в виде портретов, новых комнат или изменения назначения старых. Но в бешеной круговерти той жизни, в которую она погрузилась, оказаться здесь, было все одно что оказаться на островке, где все по старому. И нужно было признать, что стоя здесь [и порядком на самом деле устав стоять] в ожидании щемящее чувство ностальгии появилось в груди. Сразу вспоминается детство, окрики отца, который будучи в настроении вспоминал о них и забавлялся с ними, фрейлины, которым приходилось разыскивать нерадивых наследников, не желающих заниматься французским, первые балы, первая любовь…
Она ждала уже несколько часов, будучи совершенно уверенной, что о ней доложили. Пусть и пришла она на аудиенцию без приглашения [исключительно потому, что на письма ее упорно не отвечали], но теперь ей казалось, что ее словно специально держат здесь то ли чтобы указать на ее место, то ли чтобы проверить терпеливость. Лизе, в общем-то всё равно – она пришла сюда не ради ссоры и уж точно не для того, чтобы напоминать о статусе, который теперь мало что значил [как ей кажется]. Она совершенно твердо решила в конце концов встретиться с кузиной, императрицей, да с кем угодно и перестать трястись по ночам после злополучной казни.
Кошмары стали посещать ее чаще, чем самой Лизе хотелось бы. С того самого дня она толком не провела ни одной ночи, чтобы не разбудить весь дом своими стонами и криками, после которых долго не могла прийти в себя и сразу же начинала искать Кирилла, который к счастью обнаруживался рядом. Ужасно бывало, если нет. После – она долго не могла уснуть, как ребенок цепляясь руками за него, как цеплялась бы за спасательный круг, бессвязно шепча что-то ему в грудь. Так или иначе дальше так продолжаться не могло – она бы измучила так всех совершенно, а единственное, что могло ее успокоить это вера в то, что с ними такого не случится. Лиза знала, представляла, что Кирилл по крайней мере не хотел отпускать ее одну, а вообще скорее всего этого предприятия не одобрял. Если бы мог – наверняка бы запер дома, но она была твердо убеждена, что от кошмаров не избавиться просто закрыв дверь и спрятавшись под подушку. Кошмары останутся за дверью. Да не могла она поверить в то, что в этом дворце ей может что-то угрожать. Он всегда оставался ее – чтобы там не происходило.
«О, Лиза – теперь он не твой, ты запомни».
Вот так и оказалась в позиции гостя, разглядывая знакомые и незнакомые портреты и ожидая то ли своей участи, то ли в сотый раз воображая что это может быть да встреча. Старшей сестры у нее никогда не было и быть может не так страшен черт как его малюют? Нет, казнь не скоро выйдет из головы, но в конце концов Лиза ведь сама виновата, что вообще не ушла вовремя. А казни бывали всегда… Оправдания она находила весьма жалкие, но продолжала себя уговаривать. Если же особой любви и родственной близости у них не случится, то по крайней мере может случится уважение. Да хоть что-нибудь, что Лизу успокоит – ей ужасно надоели сплошные сплетни и страшные истории!
— Любуешься? — послышится громкий, резкий окрик, заставляя вздрогнуть и отвернуться от созерцания портретов. Мысли испуганно разлетаются сотнями птиц и все на что хватает ее теперь это реверанс, который пришел из глубин памяти по какому-то наитию. И хорошо, что пришел, ведь было бы совсем уж неуважительно его не сделать перед императрицей. Плохое было бы начало, особенно когда пытаешься заверить человека, которого совсем не знаешь то ли в преданности, то ли в уважении.
А если придется врать? Если впечатление нынешняя императрица произведет на нее прямо противоположное тому, на которое она так надеется?
Что же, тогда придется стать очень хорошей актрисой.
Императрица оказалась неожиданно высока, но при этом по странному нескладна и словно бы угловата. Через чур яркое [по крайней мере на вкус Лизы, которым она могла похвастаться] но безусловно ужасно дорогое платье смотрелось на ней несуразно, словно обладательница его и сама пока ещё к нему не привыкла. Телосложения она была очень крепкого, если не грубоватого, что и отражалось в этом голосе. Императрица была толста, смугловата, и лицо у нее более мужское, нежели женское. Лиза по мере того как она широкими шагами [в платье выглядели они ещё нелепее] приближалась к ней, казалась себе на ее фоне совсем уж хрупкой статуэткой, хотя никогда хрупкой себя не считала – то было привилегией Наташи. При ближайшем рассмотрении становилась очевидна их разница в возрасте – лицо Софьи под слоем пудры было рыхловато и не обошлось здесь уже и без морщин, делавших угол рта по-странному капризно опущенным. Из-за этого даже когда она улыбалась казалось, что императрица чем-то недовольна.
Примечательного в ней были разве что глаза от части выдававшие в ней родню – внимательные, карие глаза, которые при прямом взгляде мало кто выдержит. Разве что, если в глазах ее отца всегда легко было прочитать что он теперь думает – никогда не был он скрытен, то здесь распознать это было невозможно.
— Батюшка мой много портретов за собой не оставил, да и этот дрянной, — слова вылетают резко, кажется что весьма прямолинейно и Лиза даже теряется поначалу, опешивая от этого и осознавая, что все это время разглядывала портрет отца императрицы и своего дяди, коего никогда и нигде кроме этого портрета и не видела.
А цепкий взгляд карих глаз тем временем с жадным любопытством оглядывает саму Лизу, словно прицениваясь чего Лиза даже и не заметит. Позади императрицы мужчина ей и вовсе не знакомый тоже на нее смотрит. И если бы не была Лиза так застигнута врасплох может и обратила бы на него больше внимания. Но взгляд этот ей бы не понравился. От таких взглядов замужней женщине так или иначе не по себе становится. Может этот взгляд заметила императрица, но ничего не сказала, только карие глаза стали совсем темными.
— Нет, что вы, Ваше Величество, портрет хороший. Просто я никогда его не видела. Мой батюшка позировать тоже не любил – необходимость сидеть на месте его тяготила… — отвечает она, наконец, стараясь звучать как можно
вежливее.
А Софья Михайловна в ответ только разразится коротким, лающим словно бы смехом покачивая головой.
— Ой ли, девонька! Моего отца дураком называли, чего уж тут. Не чета моему дядьке...Да ты не смущайся, я баба простая, что думаю, то и говорю – коли правда, чего молчать. Я правду ох как люблю! Да не будем стоять тут, как чучела на Масленицу. Ты же поговорить пришла. Вот и пошли покумекаем.
И она последует такими же широкими, словно бы раздраженными шагами прочь, а Лизе ничего не остаётся как поспешить следом за ней. Сопровождающих Софья Михайловна с собой не пригласила. В конце концов разговор должен был быть приватным. А может все дело было в том, что своего спутника, что глазел на Лизу, она с ней оставлять совсем не хотела.
—…располагайся-располагайся, я видишь ли ещё здесь не обжилась по приезду, только привыкаю. Думала остаться в Москве обосноваться, все же батюшка мой там жил и правил, пока твой не решил на болота столицу перенести, — тут Лизе показалось, что зазвучало недовольство или же какая-то скрытая неприязнь. Многими годами позже она поймет, что с этой женщиной так всегда: тебе будет что-то мерещиться, а она только сильнее станет запутывать тебя в своих намерениях. Но сейчас Лиза только продолжает дивиться. Продолжает дивиться ее необычному поведению, которое было бы свойственно скорее помещице, а не императрице с этими деревенскими приговорками, не самыми изящными движениями и прочим.
Около окна действительно стоит ружье на подставке. Значит императрица здесь не изменяет своей привычке, о которой фрейлина Свиридова писала Варе.
—… но там все уж больно запущено. Здесь все же поновей да побогаче. Даром, что столицу в Первопрестольную перенесли. Садись-садись, чай пить будем.
Стол накрывают скоро и словно бы испуганно. Чего так боялись девочки-служанки Лиза не успеет понять. Зато к чаю умудряются подать самые что ни на есть разнообразные кушанья. Но пожалуй самое здесь необычное то, как этот чай пила сама императрица, налив тот в блюдце и прихлебывая так громко, что вздрогнешь. Лиза невесело подумает о том, что ее мать пожалуй, лишила бы ее в детстве сладкого, если бы она могла позволить себе так по-крестьянски хлебать чай. А впрочем не все ли равно как пить треклятый чай? Совсем не это главное!
— Но где ж тебя носило? Говорят пропала куда-то, я уж думала не увидим тебя более. Ходили тут слухи, что в монахини ты собиралась? От чего же так бежала?
— Замуж выходить не хотелось, — не придумав ничего лучше отвечает тем временем Лиза, тактично отпивая из фарфоровой чашки [кажется этот фарфор подарили ее матери] чай и не желая вдаваться в подробности всего с нею произошедшего.
— Ну да-ну да, — крякнет в ответ императрица, словно что-то для себя понимая во всей этой истории. — Как у нас говорят: «Замуж не напасть, кабы замужем не пропасть». Верно говорят, верно. Я тоже замужем была, выдали. Только муж мой обеднел, да спился. Водку после того ненавижу, экая дрянь, — словно забывая о чем шла речь до этого, а Лизе только и остаётся, что кивать. В темных глазах напротив нее промелькнуло что-то похожее то ли на обиду, то ли на зависть. Но глаза эти вообще были так темны, что в них мало что можно было разобрать. — Ну так а теперь что? Монахиней быть гляжу передумала, да и больно лицом ты вышла красива, чтобы в монастырь-то идти. В монастырь идти так – Бога гневить, а его гневить нельзя, — она размашисто перекрестится. — С Волконским своим будешь? — черные глаза впиваются в лицо с таким пристальным вниманием, что становится не по себе.
А на лице Лизы, видимо, от такого неожиданного поворота разговора видимо отобразилась наоборот вся гамма чувств, которые она могла испытывать и первейший из них – страх, если не ужас. В голове сразу же мелькают возможные варианты развития событий – что теперь с ними сделают, куда теперь бежать и главное, Лиза, ты ведь сама во всем виновата право слово, взбрело же тебе в голову вообще сюда явиться. Но как она узнала и главное насколько же много она знает? Знает ли про венчание? Про ребенка?
Софья видимо замечает ее замешательство и испуг, довольная произведенным эффектом усмехается.
— Да полно, не съем же я твоего капитана. Болтают о вас, а я ж говорю – новая, не привыкшая, во
т и послушала чего болтают. Да не мудрено, девонька что от Васьки убежала. Васька он конечно – лицом не вышел, да и умом тоже не удался. Военных я сама по молодости любила. Чего делать теперь собираетесь?
Нет, про венчание ничего она не знала. Даже если все это странное прямолинейное дружелюбие напускное, она бы наверняка что-то да сказала бы. Даже если знает на самом деле, где они живут и интересуется просто ради праздного любопытства или же чтобы удовлетворить собственное достоинство исходя из разницы их положений.
Вся эта беседа начинает ей напоминать игру в шахматы, в которую даже если нынешняя императрица играть не умеет, сейчас она определенно владела положением.
— Ваше Величество, я прошу прощения, что сразу как только оправилась не приехала и лично не поприветствовала вас… — вряд ли получится игнорировать тот факт, что она про них знает, а люди болтают. Другой вопрос сколько люди успели наболтать. — что касается капитана Волконского, то… — поднимает взгляд, буквально его скрещивая с ее взглядом. Отпираться бесполезно. —…я люблю его. Он прекрасный человек, преданный своему Отечеству. У него есть все качества, за которые его можно полюбить.
— Кроме короны, а? — живо подхватывает там временем она. И снова не поймёшь – то ли шутит, то ли всерьез. — Да и хорошо, что любишь, люби себе на здоровье. Преданные нам завсегда нужны. А что сразу не пришла – так это ничего страшного. Я, как видишь, тебя сразу тоже принять не смогла – все дела, а ты так внезапно на пороге появилась, — укор ли это или просто фраза, которая ничего особенного и не значит? — Где живёшь теперь ежели не тут? Неужто по офицерским квартирам ютитесь? Может нужно вам чего? Кровь поди не водица, родственники мы с тобой все таки. Можно домик вам какой отрядить. Вон у Голицыных их особняк освободиться должен был. Говорят очень недурственный.
И снова этот жгущий, болезненно пристальный взгляд, словно ожидающий ее ошибки взгляд жадно рыскающий по побледневшему Лизиному лицу. Лизе же снова становится дурно. Дурно от нахлынувших воспоминаний, дурно от одной мысли о том, что их могут заставить жить в месте, в котором недавно жили люди, казнь одного из которых она видела своими глазами. Дом, наполненный привидениями.
Одна рука осторожно поглаживает живот в тщетных попытках защититься.
И ведь самое главное, что отказаться от такого нельзя, нельзя – будет выглядеть так, словно пренебрегает добрым расположением, а она здесь именно чтобы доказать обратное.
Софья Михайловна видимо довольная произведенным эффектом откидывается на спинку стула и усмехается.
— Ваше Величество такой подарок… щедр, но я не уверена, что будет уместен…
— Потому что дом предателей? Но да и правда, приличные люди в нем жить не захотят. Дом просто хороший, там теперь жить некому будет. Но да ладно – вам какой-нибудь другой найдем. Ты скажи мне напрямую теперь сама зачем пришла?
— С вашего позволения, Ваше Величество во дворце остались кое-какие мои вещи. Я бы хотела их забрать.
— Ну конечно-конечно. Это ж твой дворец был, — в этих словах просквозит некоторая неприязнь, но она не даст ей даже шанса оспорить эту истину и как ни в чем ни бывало продолжит. — Так забирай что надо за чем дело встало. Говорю же кровь не водица. Ты Романова, да и я. Авось подадим.
— Ваше Величество, — Лиза находит, наконец, подходящий момент для того, чтобы сказать то, что репетировала и ради чего приходила. — я бы очень этого хотела. Я также хочу заверить вас, что не представляю для вашего величества никакой мыслимой и немыслимой угрозы. Даже малейшей. Все, чего я хочу – жить с любимым человеком и иметь с вами добрые отношения. Все мои родные или очень далеко, или умерли. Я была бы рада, стань вы моим другом, — Лиза позволяет себе улыбнуться едва-едва нерешительно. Она говорит так вежливо и уважительно, как иной раз не говорила с отцом. Она считает, что так должно быть правильно.
Темные глаза похожи на бездонные колодцы. Императрица долго разглядывает ее лицо, а некрасивое ее лицо снова выглядит то ли уставшим, то ли недовольным.
— Угрозы говоришь? А какую же т ы угрозы вообще могла мне представлять? — она недобро усмехается, но подспудно словно ждёт от Лизы чего-то. То ли признания во всех смертных грехах, то ли признания в чем-то, о чем Лиза сама не знает и в чем признаться не может. Не добившись желаемого она продолжит. — Так-то оно хорошо, люблю людей с добрыми намерениями, а не тех, кто нож за пазухой прячут как Иуды. С теми, кто мне предан и честен я сама ласкова, а вот лгунов и предателей не прощаю. А вот скажи мне, пажи твои теперь на хороших местах кто при коллегии иностранных дел, а кто в гвардию зачислен. Письма хорошие ты им написала, но поверх моей головы скакнула. Хороши те письма знать были.
Сердце тревожно ударится о грудную клетку, а во рту неожиданно пересохнет. Недовольства в том, что устроила судьбу своим мадам, которым это обещала ввиду невозможности более находиться при ней она никак не ожидала.
— Они были со мной с 12 лет, Ваше Величество. И могу сказать, что я полностью им доверяю и они также будут преданно служить вам, я уверена, — голос не дрогнет. — Я написала рекомендательные письма не для того, чтобы унизить вас, просто только так я могу отплатить им за их службу мне, которая теперь невозможна…
— Ну, преданность проверим, а так – полно, я же не в обиде вовсе, — бесцеремонно прерывает ее, протягивает руку и неожиданно ободряюще похлопает по руке Лизу. — Мне здесь свои люди ой как нужны. Будет хорошо, если мы с тобой Лизка подружимся. Чай не чужие, хоть и не виделись никогда. Да и гвардия наша говорят тебя обожает, вон и любовник твой оттуда. Авось и ко мне поблагосклоннее окажутся… — и это прозвучит совсем не как просьба или предположение. Но Лиза от себя подобные мысли гонит. Просьба. Простая и понятная. Ни разу императрица в конце концов не высказала своего к Лизе недоверия. Ведь так? Или ты верить в это хочешь. Как бы слово любовник не коробило все сознание. — Да и при дворе этом. Я баба простая, — повторяет сказанное ранее. — А ты более просвещённая. При дворе надеюсь увижу. Жаль такую красоту по солдатским лагерям прятать.
И здесь уже сложно будет отказаться – нельзя постоянно от царских подарков и просьб отказываться. Поэтому Лиза просто кивает, кладет собственную руку на ладонь императрицы, стараясь по привычке почувствовать чужое тепло в своей необходимости касаться других.
Вот только чувствует холод.
Руки у Софьи Михайловны ужасно холодные.
***
Лиза долго хохотала, когда это изящное трюмо затаскивали в эту маленькую комнату – до того на самом деле нелепым было это занятие. Наверное, из всей мебели, которая находилась теперь здесь он представлял собой самую дорогую вещь, которая смотрелась почти нелепо и она сама не знает какой черт ее дернул забрать этот столик с собой вместе с платьями, кое-какими книгами личного пользования [последние, в отличие от драгоценностей, интересовали ее кузину в меньшей степени], в том числе паре томиков Коперника и книг по мореходству с Сашиными личными заметками. Их удалось найти с великим трудом, сваленными в одну нелепую кучу в одной из перестраивающихся теперь гостиных и Лиза просто не смогла их там оставить. Таким образом теперь она сидела на полу в окружении сундуков, целого вороха разноцветных платьев, с любовью перебирая вещи, о которых успела позабыть: гребешки для волос, шкатулку, самые главные для себя драгоценности. В ее платьях кузина также не нуждалась и по причине того, что были они для нее уже ношеными [к чему ей платья, когда у нее все возможности императорской казны], да и по размеру совершенно не подходили. И Лиза бы слукавила, если бы сказала, что платья ей совершенно не нужны – в конце концов при дворе она всегда слыла за первую модницу.
Лиза встрепенется от своего занятия, обложенная со всех сторон этим пестрым, сверкающим ворохом одежды, как только он зайдет в комнату. До того она была так увлечена всем этим, что, кажется, и не заметила его сразу. Встрепенется, по уже устоявшейся между ними привычке легко подлетает к нему, обвивая шею – быстрая, счастливая то ли от того, что он пришел, то ли от того, что закончился этот день, то ли от того, что кошмаров более не будет. Звонко чмокает его в щеку, не торопясь объяснить весь тот развал, который теперь происходил в их доме – словно дворец на секунду переехал к ним. Лиза знает, знает, что он себе думал не в силах остановить ее от очередного риска. Видит по его лицу почти что все, что он мог себе придумать. Она бы придумала это точно также, но за замками не спрячешься – замки легко выломать. Лучше просто отогнать кошмары подальше.
— Ах, Кирюша, но все ведь хорошо вышло! – не отпуская его и склоняя голову на бок. — Мы встретились с нею, с императрицей. И я смогла забрать несколько платьев… — махнет рукой в сторону горы платьев, которую никак нельзя обозначить словом «несколько». —…ну хорошо-хорошо, забрала столько, сколько смогла – ей они не пригодятся, а мне очень даже, только придется их перешить, потому что в скорости я не влезу ни в одно из них, потому что превращусь в огромную тыкву… — добавляет она, живо вспоминая всех беременных женщин при дворе, которые в какой-то момент неожиданно раздувались. Да даже если взять ее сестер – она вечно удивлялась каким образом они так раздавались при каждой из своих беременностей.
Лиза не хочет мириться с мрачной атмосферой, которая установилась у них после злополучного дня казни. Она и сама после встречи с императрицей отгоняла их, убеждая себя, что по крайней мере для них никакой опасности нет. А от того тянет его за собой с беспечным веселым смехом и вновь вернувшейся ее природной живостью.
— Я забрала несколько Сашиных книг, а то ведь все одно никто читать их не станет… Кирилл, ничего страшного не произошло – не смотри так, как будто я мертвый призрак, — повернется к нему, выдавая это с некоторым укором, настойчиво предлагая по крайней мере разглядеть то, что удалось ей перевести из дворца сюда. — Не думаю что мы быстро с нею станем друзьями, она…другая, — осторожно подбирая слова начинает Лиза, осознавая, что итог их разговоров с императрицей пока важнее всего. Ведь наверняка он и не сомневался, что ее оставят там в качестве заложницы и опять все заново. — Если бы ты ее увидел – ты бы понял о чем я. Но я уверена, что мы ее сейчас интересуем мало. А это, — она обводит руками комнату. — знак доброго ее расположения. Она о нас знает. Не все, — быстро добавит Лиза, чтобы он не решил, что она ко всему прочему решила рассказать императрице и о свадьбе. — и не имеет ничего против. Даже сказала, что подыщет дом. Правда от одного я отказалась. Сказала, что будет рада видеть меня при дворе однажды и что надеется, что гвардия ее полюбит также, как и меня. Не смотри так! — Лиза закатывает глаза, не желая слушать и слышать очередного «нет», «так нельзя», «так не правильно». — Я знаю, что ты думаешь – но это лучше, чем скрываться по всей России всю жизнь! Я не собираюсь заставлять ее кого-то любить, но мы могли бы попробовать хотя бы.
Да, она отлично знает его упрямство. Знает и гвардию, которую часто называла своей, которая упрямо отказывалась от того, чтобы воспринимать всерьез другого императора, который ничем перед ней не отличился. После смерти Васи, Васильевский пол придет в такой же упадок, как и прочие, лишившись своего главного покровителя, а ведь по сути вступившие в него ни в чем не виноваты. Армия должна быть заодно, в идеале придерживаясь верности одному императору. Она также легко вспоминает слова Семена, который упомянул то, что многие видели в ней то, от чего она упорно открестилась.
Ребенок легко толкнется в животе, а Лиза, радостно вскрикивая хватает его за руку, прикладывая к животу и они так просидят какое-то время, пока не почувствуют это снова в слегка выпирающем ее животе. Лиза рассмеется, заглядывая ему в лицо, а после, выуживая из того вороха вещей, с которым еще разбираться и разбираться теперь, перешивая платья на необходимый для нее размер, детскую крестильную рубашку из кружев и муслина. Она была такой длинной, что могла напоминать скорее платье, сшитая так искусно и так аккуратно, что не заметишь ни одного шва и напоминала скорее одно большое газовое облако.
— А еще взяла это… Мое крестильное платье и одеяльце. Когда родится наш ребенок – покрестим его в этом, что скажете, а, Кирилл Андреевич? — Лиза снова заглядывает в его лицо, прислоняется лбом ко лбу и замирает так на несколько секунд. — Я просто надеюсь, Кирюша, что кошмаров теперь не будет – только хорошие сны.
***
Лиза вертится перед зеркалом с раннего утра, умудрившись вскочить с кровати еще раньше Кирилла, что случалось с нею крайне редко. Не без сожаления выбираясь из теплых, таких надежных его объятий, она провела первые утренние минуты перед своим новым \\ старым трюмо, разглядывая под складками струящейся ночной сорочки собственный живот, выискивая в нем признаки тех самых изменений, которым поддаются так или иначе все женщины. И к своей радости, которую она даже и не ожидала почувствовать, всегда полагая, что испортить фигуру будет для нее страшным ударом, замечает, что изменения все же есть, пусть теперь и не самые значительные. Лиза поглаживает слегка округлившийся теперь живот, который скоро придется прятать под длинные платки, шали и пелерины, с удовольствием представляя себе относительно скорую встречу с дочерью или сыном [но сговорились они о дочери и оба представляли только ее с легкой руки ее отца]. Лиза повертится так еще какое-то время, прежде чем с легкой душой впрыгнуть обратно в уже остывшую постель, радостным рыжим вихрем. Склоняется над его лицом – кажется, он все же начал теперь просыпаться.
Проведет по ровной линии бровей пальцем, выдувая в лицо поток теплого воздуха.
— К-и-р-и-л-л А-н-д-р-е-е-в-и-ч, — произносит по буквам его полное имя, которым раньше только и величала. Даже не верится теперь, что они могли позволить себе только это. — Кирилл, — продолжает она, ласково взъерошивая его волосы и заставляя таки открыть глаза. И какое же это, пожалуй, блаженство, просыпаться вот так каждый раз и каждый раз видеть друг друга перед глазами точно зная, что пройдет еще много лет, а ничего не должно измениться – у вас еще много лет, которые вы можете друг другу посвятить, просыпаясь вот так сотни и сотни раз. Но кажется, каждый раз будет как в первый. — Мой Кирюша, — мягко целует в губы и с удовольствием разглядывает его глаза с осколками петербургского неба, запечатленного в радужке.
Удовлетворенная полностью Лиза упадет рядом на подушку. Вот уже несколько недель никакие страшные сны ей не снились, из дворца никто за ними не посылал и она осталась совершенно уверенной в том, что нет необходимости играть в прятки и бояться каждого угла с удовольствием постигая в определенной степени свою семейную жизнь.
— Я сегодня приеду к вам. У подпоручика Зинина ребенка крестят – я обещала крестной быть, так что ты не удивляйся, что приеду. Ах, скорей бы наш родился, крестных бы выбрали… Нам нужно будет об этом подумать! — радостно воскликнет она, тем временем.
Лизе и вправду хочется жить будущим или по крайней мере настоящим, но уж никак не оборачиваться в прошлое, тем более, если оно такое страшное и темное. Уж лучше задумываться о том, кто будет крестным ребенка, какие у ребенка будут цветом волосы, а какие глаза, какое слово скажет он первым и в каких числах родится, чем размышлять о том сколько лет осталось им жить или за каким деревом прячется возможный подосланный шпион. Упорно не хотелось обращать ей внимание и на то, что если увидишь, как кого бьют на улице за какой-то проступок непременно окажется это русский, а бить его станет иностранец, коих теперь в столице становилось все больше. Народ только начинал сплетничать о императрицыном фаворите, что тот-де из «немцев» [пусть так и называли всех тех, кто попросту не владел русским], а значит жди беды. Ведь от них и ожидать больше нечего.
Но Лиза больше не хочет ни о чем думать и старается ничего не замечать, сосредотачиваясь на счастье личном, которое они в конце концов заслужили.
— Вот ты кого бы выбрал? Я бы позвала князя Вяземского или может твою сестру? А может… — ее лицо становиться по-лисьему хитрым, она повернет к нему голову, совершенно довольная неожиданной своей забавой [понимала ли она, что шутить так почти жестоко действительно ничего не воспринимая всерьез?...]. —…кого из моих мальчиков? Семена позову! — она хохотнет глухо, ловко выпрыгивая из постели, не давая возмутиться и заставить себя передумать, кинет не долго думая в него подушку, шелестя босыми ногами по полу и продолжая дразниться. — Он хороший, может и подружитесь в конце концов! Возьму и позову, что вы мне сделаете? — Лиза засмеется, продолжая побег по такой маленькой комнатке от него со своими угрозами относительно Семена-крестного, а также их возможной дружбы, находя все это крайне забавным развлечением, пока в какой-то момент ее все же не ловят, а она с еще пущим смехом валится на кровать, которая жалобно скрипнет. Лиза разглядывает его лицо снизу-вверх, удерживаясь за плечи и внимательно вглядываясь в его лицо. Улыбка с собственного сходить все равно отказывается.
— Муж, — она готова повторять это снова и снова и каждый раз, когда она произносит это вслух сердце как в первый раз заходится от восторга. — Мой муж, — повторяет она, тянет на себя и таким образом грозится снова никуда его не пускать. Если бы это было в ее воле, пожалуй, так бы оно и было.
***
Ребенок был замечательный и даже почти что не плакал, когда окунали его в купель, а после кряхтящий сверток в простеньком одеяльце передавали ей на руки. И она с каким-то трепетом в сердце разглядывала маленькое сморщенное личико мальчика, которого назвали, как с гордостью ей было сообщено «Петром – в честь вашего батюшки!». И пока священник дочитывал положенные молитвы она, как завороженная смотрит на него, поправляя складки одеяла. Все существо трепет охватывает, стоит только взглянуть на него и на секунду представить, что через несколько месяцев точно также будет держать собственных детей. Пару раз за службу она нет-нет, но взглянет на Кирилла, который в числе прочих здесь, улыбаясь уголками губ. Для них обоих церемония эта была особенная.
После нее со всем веселым шумом, отдала подарки родителям, заранее заготовленные. Лиза предусмотрительно, чтобы не обращать внимания на свой живот укрывала плечи вышитым длинным платком и таким образом было это не так заметно. Да и не в первый раз ей присутствовать на разных гвардейских праздниках. Как ей говорили это у нее от батюшки ее – тот, обожая свадьбы, непременно ходил в качестве свата, чтобы заключить помолвку с понравившейся его сподвижникам и гвардейцам девушкой. Не пропускали они раньше и полковые праздники вроде Преображения – не ехали сразу во дворец, а сначала после службы непременно в полк, где ставились длинные столы. Пасха, Рождество и вот такие крестины — без них тоже как видно не обходились. Теперь эти традиции уже ушли далеко, но Лизе их забывать совершенно не хотелось, да и ничего сложного она в этом не наблюдала. Наоборот – всегда шумно и весело.
Пили за будущее здоровье сына и его родителей, за ее тоже пили. Смеялись и шутили тоже громко. Лиза тоже пила, по крайней мере делала вид, чтобы своих ребят не обижать, то и дело бросая взгляд на Кирилла, который, наверняка если бы мог выпил бы все эти рюмки за нее, но не думает же он, что она вправду станет пить. А ее, как всегда это бывало, обступают многие, желая что-нибудь сказать, за что-нибудь поблагодарить и так далее. И в какой-то момент их вполне оживленной беседы выкрикнет кто-то весело:
— А у нас Ваше Высочество новости – Кирилл Андреевич теперь женился!
Лисье выражение возвращается к ней. Она складывает руки в замок, кладет на них подбородок и совершенно натурально захлопав ресницами, изображая крайнюю степень удивления воскликнет:
— Неужто ли п р а в д а? А мне помнится говорили, что никогда Кирилл Андреевич не женится!
И стрельнет глазами в его сторону зелеными глазами. Вот же влетит им обоим, если узнают об этом здесь право слово.
— Да, только признаваться, кто это не желает.
— Вот оно как… А я думала девушки вас совершенно не интересуют. Но хотя бы расскажите какова ваша избранница. Я обожаю слушать истории любви со счастливым концом! — едва ли нельзя назвать это невинным издевательством, но Лизе совсем весело становится и она не собирается отступать от этого своего замысла, отдуваться заставляя именно Кирилла.
Только к вечеру удается освободиться от того веселья, которое организовано было и как только приходит время отбывать Лизе приходит в голову еще одна мысль — найти себе провожатого. Все конечно же желают разом поехать с ней, но она только качает головой, а потом выдает следующее:
— Нет-нет, господа, боюсь проводить меня во избежание различных эксцессов должен кто-нибудь, кто во мне не заинтересован совершенно. Кирилл Андреевич – вы женаты недавно и жену свою наверняка любите, да и я вам, наверное, совсем не нравлюсь. Вот и проводите меня, будьте так любезны.
***
Покачивается карета на свежевыпавшем снегу, который и теперь медленно валил с небес, а она тихонько-устало склонит голову на его плечо, накрывая рукой в перчатке его руку. Хохотнет в плечо, точно зная, что если он и дуется на нее за такие спектакли, то уже не всерьез. Приподнимется, заглядывая в его лицо:
— Кирилл, ты веришь, что у нас все будет хорошо? Или все еще боишься? — смотрит пристально, а после вдруг звонко потребует, стукнув по стенке: «Останови!». Стрельнет в него зелеными глазами и ловко соскочит из кареты, заставляя выбираться следом за собой.
Ночь чудная – точно такая же, какая была в день их свадьбы. И Лиза ловит на руки падающий тихо снег, кружится на одном месте и неожиданно звонко прокричит ему, радостная, свободная, счастливая:
— Кирилл, мы живы! И мы будем жить! И это наша жизнь! И ничего я не боюсь более! И я тебя люблю! И мы поженились! Слышите, все! По-же-ни-лись! — она кричит это громко в пустоту улиц готовившегося отходить ко сну Петербурга. Возможно, какие-нибудь одинокие прохожие и обратили внимание на эту странную девушку, которая кружится под снегом и кричит про брак, но наверняка приняли их за двух сумасшедших, которые попросту не знают как себя в приличном обществе принято вести.
и, чтоб любви н е т а я л а звезда,
исполнитесь возвышенным искусством:
не позволяйте выдыхаться чувствам,
не привыкайте к счастью никогда.
Поделиться142024-04-13 22:54:31
Он любил её глаза за этот упрямый огонь.
Но у каждой любви была своя цена.
Однажды он мог осмелиться решить, что беспомощность — состояние обыкновенное, но с каждым разом — только хуже, только острее пронзает / раздирает душу, особенно когда смотришь на н е ё. Кирилл хватается за любое движение, взгляд, вздох, совершенно не желая испытывать судьбу и достигать тех границ, за которыми её лицо пуще прежнего побледнеет. “Какой же дурак”, — этого недостаточно, ведь он, никто больше, должен был повернуть назад; он и никто больше, должен был беречь с в о ю семью. Рука чуть дрогнет, удерживается от порыва прикоснуться. “Лиза”, — произносит, разве что одними губами. “Тебе плохо?” — удивительно бестолковый вопрос, оставшийся без ответа. На её бледном лице ответ и ему совсем не нравится, не нравится оказываться в пустом взгляде напротив, который всегда дарит самое лучшее — любовь, надежду, убеждённость. А теперь? Теперь оставляет глупые вопросы, наивно полагая что смогут дотянуть хотя бы до дома, но глаза полные ужаса заставляют замереть / затаить дыхание. Дрожь разбегается по телу.
— Лиза? — спрашивает на сей раз твёрдо, громче, не находя более подходящего вопроса, — гулкое биение перепуганного сердца не позволяет думать вовсе. Не раздумывая, бросается за ней, в то же время несколько теряясь — у него (у них) всё впервые. Может быть, немедленно нужен лекарь? Может быть, Лизу следует вернуть в карету и мчать куда-то, — он не знает наверняка куда. Последняя мысль кажется не самой удачной, поэтому Кирилл не предпринимает ничего, несколько мгновений глядя в ей в спину, а после приближаясь осторожно. Протягивает руку, невесомо касаясь плеча, невольно боясь прикоснуться; ведь откуда ему знать, что сейчас происходит с ней (она увидела саму смерть, что же ещё может происходить?) и как вести себя п р а в и л ь н о. Всему придётся выучиваться постепенно, чтобы однажды оказаться умудрённым опытом и самой жизнью человеком, который тихонько будет посмеиваться над молодыми и неграмотными. А пока, прислушиваясь к внутренним инстинктам, держится на расстоянии, удерживаясь от резких / неосторожных движений.
Ему самому хотелось бы знать “за что”, утвердить догадки, которые стали бы истинными причинами. Неосторожно можно решить, что людей не казнят забавы ради, не руководствуясь серьёзными обстоятельствами, не казнят лишь бы казнить. Но эта страна давно утеряла единый верный закон, которому следуют все: от крестьян до царей. Очередная ставка сделана неудачно? Кирилл не знает и знать не желает, последнее, о чем сейчас думать — политика, осточертевшая и обгнившая.
— Ты знаешь почему... — качнув головой, исподлобья смотрит на неё, будто уже и взгляд поднять боится. Она с ними выросла, они, эти люди — часть её жизни; а у него прямо сейчас подрастает ребёнок и страдает жена — часть его жизни, куда более значимая, не имеющая даже цены — такой цены не существует во вселенной. Ему, говоря откровенно, плевать на чужих. Слишком велик и необъятен мир, а юношеская идея взять на себя его тяжесть подавно ушла на дно. Тяготить душу может лишь то, что этот случай не исключает остальные, похожие; верно, казнить теперь могут любого дурака, или того, кто покажется неугодным. Он не хочет думать об этом, поддаваясь бессмысленному “а что, если...”, отвлекается на решительные действия, сокращая расстояние между ними и делая попытку заключить Лизу в утешительные объятья, — только кто нуждается в утешении больше, непонятно. Не отступится, не выпустит, удерживая возле крепко, прижимая к себе тоже крепко.
Ему и будущее, жуткое, кровавое, видеть не нужно, чтобы кинуться вместе с ней на край света; только бы не чувствовать всем своим существом дрожание её тела, не слышать этих слов — разве ей должно быть страшно там, где дом? Кирилла уговаривать никогда не придётся, по первому зову / просьбе / слову сделает то, что должен. А иначе быть не может, когда любишь. Только набирает полные лёгкие воздуха, чтобы свободно дышать, и снова удар, весь этот воздух выбивающий.
— Этого не будет, Лиза, не будет, — его негромкий голос не в состоянии посоперничать с её громким; он мотает головой, словно сей жест добавляет весомости словам. Его врать не учили, разумеется, но в первую очередь обманывает самого себя. Ведь не напрасно зашевелилась тревога в душе, а теперь хочется скривиться от покалывания в груди. “Они не посмеют, они не смогут, не будет повода”, — будто кому-то нужны поводы, ей-богу, чтобы отправить на дыбу. И сомнений не возникнет у людей в том, что Лиза — человек, имеющий больше прав, нежели кто-либо ещё — больше прав остановить только разрастающееся беззаконие по всей империи. Это могло быть действительностью и уже “давно”. Кирилл отгоняет эти отвратительные мысли и навязчивый голос Бестужева. Всё, что требуется от него и всё, что он может сделать сейчас — успокоить, выждать пока не станет хотя бы немного лучше. Прислушивается до последнего к её дыханию весьма сосредоточенно, не переставая проводить ладонью по спине.
Похоже, выбора у него не было; ни единого шанса, когда любимый изумрудный взгляд наполнился твёрдой решимостью, и стало ясно, что отговаривать, умолять даже, тщетно. Дворец на противоположной стороне реки точно зловеще надвигается, вытесняет, кажется слишком высоким, грузным — беги или погибни под его тяжестью, или под тяжестью вязкой тени. Бежать они не намерены. Он переводит задумчивый взгляд на её лицо, наконец вернувшее розоватый оттенок; он смотрит на свою храбрую девочку и только любит, любит ещё сильнее. Ветер теребит прядки волос, подол накидки, продувает, а она стоит как никогда твёрдо и разве может он возразить? Вопреки тому, что первое впечатление о якобы родственнице оказалось самым отвращающим. Губы дрогнут в улыбке на словах о любви. Разве он хотел чего-то иного?
— Делай что считаешь нужным, — снова берёт за руки, глядя в глаза, — только будь осторожна, прошу тебя, — шепчет умоляюще. — Если так нужно... я готов на всё, чтобы мы были в безопасности всю нашу долгую жизнь, — крепче сжимая её руки в своих, мужественно улыбается.
Он любил её глаза за этот упрямый огонь.
И платил свою цену.
***
Кирилл не единожды пожалел о сказанном, на протяжении всего дня, не находя ни покоя, ни места. “Так нужно? Делай, как нужно? Вздор какой!”, — только и вертелось в голове. Никто не собирался его отпускать, да и здравому рассудку понятно — это глупо; не сторожить ведь, дворец — только хуже сделается, когда, не приведи господь, императрица утвердится в факте “цесаревну гвардия любит”. А гвардия любила и даже буквально. Кирилл следовал самому благоразумному решению — держался подальше, выстраивая ряды мальчишек, недавно поступивших на службу. Срывался по каждому пустяку, порой привлекая неодобрительный взгляд Дмитрия Яковлевича. В определённый момент он вовсе перестал понимать, для чего взращивают будущих офицеров; чтобы аресты и публичные казни чинили по всей стране? От воображаемых картин тошно становилось, а день тянулся невыносимо долго. Отпустили наконец. Лиза должна была вернуться домой, только отчего-то уверенности никакой. Кирилл умчался, не слыша чужих голосов, — то ли остановить его пытались, то ли чего-то дознаться. Как издавна повелось, все махнули рукой, потому что Кирилл Андреевич — человек непростой, а иногда и глухой. Он мчался домой с намерением учинить переворот, ежели Лизы не окажется на месте. Его решимости хватило бы на всевозможные столичные полки. И он бы сделал это, не увидь Лизу, как только ворвался в их комнату, не похожую на прежнюю. Ворвавшись, застывает в очередном глупом положении, словно ожидал увидеть не супругу в положении, а гвардейский конвой. Выдыхает медленно и ловит встрепенувшуюся Лизу, очевидно забывая, что положено улыбаться в таких случаях. Обнимает её, а лицо остаётся непроницаемо-каменным, взгляд украдкой бегает из стороны в сторону. Его сугубо мужской ум не успевает ухватить множество новых сведений, таких как наряды и всяческие женские мелочи; бросается на глаза разве что трюмо и это он усваивает.
— Хорошо, говоришь? — переспрашивает с явным недоверием, косясь куда-то в сторону. Ей-богу, будто из ящика трюмо выпрыгнет гвардеец или агент канцелярии или в шкафу притаился воздыхатель. Наверняка ревнующие мужья выглядят именно так. — Что же, платья — это хорошо, полагаю, — произносит прагматично, резко кивая головой и делая второй выдох, за которым напряжённые плечи чуть опускаются. — Только не перешивай все, тебе же понадобятся и такие... — бросает взгляд на добытые наряды, разумеется, ничего в этом не понимая, но спрятать тревогу за какими-то словами нужно. Стягивает перчатки, которые отчего-то с первого раза не стягиваются. Лиза смеётся, — значит взаправду всё хорошо? Должно быть, его взгляд взаправду походит на того, кто наблюдает за призраком или собирается подстрелить из ружья воздыхателя тайного, чёрт знает. По крайней мере, Лиза смеющаяся, радостная, беззаботная как в лучшие годы их жизни, способна сойти за призрака. Призрак безоблачного прошлого. Кажется, ухватишься за её руку и сияющий мираж рассеется. Лиза хватает его за руку и становится более чем осязаемой, живой, излучающей тепло.
— А ты бы призналась, случись что-то страшное? — спрашивает вдруг, пристально глядя ей в глаза, недавно выражающие неоспоримое упорство. Он согласился, поддался, после жалел о своём решении, а теперь предстоит убедить себя в том, что “всё хорошо”. А если бы не призналась? Решая не настаивать на ответе, отводит взгляд. Увидеть Сашин почерк было бы приятно, словно он шлёт приветствие с того света и напоминает о себе, — не дай боже, его забудут. — Думаю, я увидел достаточно, — продолжая упорствовать, освобождается от тяжёлого плаща. Ему бы избавиться от тяжести на душе. Кирилл быстро сдаётся в самых редких, исключительных случаях. Точно не сейчас, весьма опасливо относясь к эдакому жесту доброй воли “сестрицы”. — Вкус разочарования особенно горький, не каждому вытерпеть даётся, — иными словами, хочется заявить о том, что гвардия — не девица, и чем дальше, тем сильнее ему “не нравится”. Но в определённый момент, как уже повелось, он отступает, отводит взгляд по её просьбе “так не смотреть”. Молча кивает, вспоминая свои недавние слова: делай что считаешь нужным. Тогда доверял и сейчас будет, ведь важнее не императрица новоиспечённая, а спокойствие в доме. Кирилл убеждается в том лишний раз, умостившись рядом с ней, когда ладонь прижимается к животу; замирает, пытаясь прислушаться, будто любые шорохи дитя пугают. И вот, долгожданный лёгкий толчок, словно в руку упирается крохотная ручка или ножка, заставляет окончательно обо всём позабыть и губы растянуться в широкой улыбке. Ведь всё теряет значение, когда они вместе. Он наклоняется, целует в том месте, где руку держал и тогда, встречаясь с её глазами, снова улыбается с облегчённой душой.
— Прости, день был тяжёлый, — а её смех по-настоящему возвращает домой, когда слышишь — веришь, даже если “всё хорошо” казалось призрачно-хрупким. — Скажу, что у меня лучшая жена. Мне очень нравится, — шепчет, когда от близости сплетаются дыхания. — Я тоже, милая, я тоже, поверь. Только хорошие, — находит её руку и прикрывает глаза. Дух захватывает от ожидания удивительного времени, когда всё случится.
***
Кирилл подставляет лицо то ли тёплому дыханию, то ли нежным губам, упрямо отказываясь раскрывать глаза и медленно расплываясь в блаженной улыбке. Прошедшей ночью сон был удивительно крепким, лишённым сновидений и самое главное, кошмаров. Слыша сквозь полудрёму родной голос, вспоминает что и день должен обещать сплошное счастье. Они, кажется, всё уладили. Перед ними семейная жизнь, ограждённая от бед и пристального внимания нежелательных особ. Он, неспешно, но открывает глаза и только шире улыбается, видя перед собой её лицо, чувствуя нежные руки, щекотно касающиеся кожи рыжие волосы. Ещё сонный, но охотно тянется за утренним поцелуем, без которого и день может не задаться. Никто, наверняка никто не ведает, какое счастье быть “её”, будь то Кириллом, или Кирюшей, мужем, главное, что “её”. Отмалчиваясь с озорным блеском в глазах (лукавая улыбка красноречивее, не так ли?), растягивается, наслаждаясь каждым мигом этого волшебно-неповторимого утра — и наверняка череда всех остальных будет такой же, ведь Лиза всегда рядом. Ещё одно утро, усыпляющее тревоги и бдительность заодно; однако, ему нравится, ему не хочется возвращаться в прошлое, кошмарами кишащее. Лиза была п р а в а, говоря о спокойствии и безопасности, в чём приходится убеждаться каждый божий день. Не доставало разве что, избавиться от обязательств службы, дабы целое утро валяться с ней в тёплой постели — роскошь, позволенная только их приблудившемуся коту. Расслабленный, он совсем не ожидал услышать следующие вести и напоминание о том, что время подниматься с кровати, в одночасье. Если бы, если бы только он задумался над тем, сколь опасны подобные визиты в гвардию, словно навещаешь дом родной иль близких товарищей. Не каждый из высшего света заглядывает на “гвардейские” крестины. Не каждый. И едва ли императрице на подобным празднестве были бы рады. Кирилл опрометчиво, на сонную голову, думает только о том, сколь сильно ею гордится. Заслужить любовь и доверие гвардии — это тоже может не каждый. Любовь гвардии никогда не даётся даром.
— Ещё и об этом? Я думал, достаточно достать крестильное одеяльце, — то ли шутит, то ли всерьёз. Так уж повелось в их семье: за подобные мероприятия отвечает Лиза. — Я об этом совсем не думал, — пожимает плечами, испытывая искреннее желание полениться. Разве не позволительно, когда решили жить без страхов и кошмаров? — Что? Кого ты придумала? — настораживается, замечая знак недобрый — выражение совершенно лисье, весьма гармонирующее с её огненными волосами и зелёными глазами. Лисой прозвать следовало. Кириллу, разумеется, не смешно, но никому, а особенно е м у, не позволит поганить семейное счастье. — Очень хорошо, — возмущается демонстративно-громко, видимо за то и получая подушкой по лицу. А затем подорваться с кровати становится делом чести, не иначе. Затеянная игра обречена заведомо на проигрыш Лизаветы Петровны. Кирилл ловит Лизу, помогая повалиться обратно в постель. Не судьба сегодня вовремя на службу явиться; ему позволительно, — прерогатива повышения.
— А теперь повторите всё, что говорили, Елизавета Петровна, — прижимает её всем телом к кровати, на случай попытки сбежать. — Как отец этого ребёнка, я ещё имею право голоса. Или вам есть чем возразить? — выгибая бровь, смотрит на неё так же внимательно. От одного её “мой муж” губы растягиваются в улыбке и здесь бессилен любой Бестужев, любой человек, умудряющийся выводить Кирилла Андреевича из душевного равновесия. — Жена, — произносит с гордостью, чуть подбородок вскидывая, а после поддаётся и накрывает губы поцелуем.
***
— Тревожно, Кирилл Андреевич, — низким тоном произносит Еремей, оглядываясь, будто боясь своего признания и намечающейся беседы. — Слыхали, что творится? Снова притесняют. Снова за мундир боязно, а ежели завтра в пруссаков нарядят? Только от французских собак отходить начали, — негромко, зато от души выговаривается; сразу чувствуется, давно ему “поплакаться” хотелось, а быть может и побраниться что есть мочи. Кирилл чинно держит руки за спиной, наблюдает за празднеством и слушает, слушает. Некоторое время назад ребёнка крестили. Он глядел на Лизу и видел, как держит она на руках ребёнка своего. Видел её завороженные глаза и убеждался в том, сколь хорошей матерью она будет. Хочется ли теперь выслушивать правду? Ребятушки веселятся, пить продолжают, радоваться, и уж чего хочется — задержать миг, словить и не отпускать, в клетке запереть как ловкую птицу. Но, видимо те, кто стоят в стороне и наблюдают, догадываются что птичка выпорхнет. Останется пустота и быть может, клетка, в которой самим оказаться придётся. Гвардейской любви она хотела? Кирилл усмехается, готовый рассмеяться. Хороша любовь, да только по-настоящему будут любить только одну женщину, и она находится здесь, посреди шумного офицерского сборища. Еремей наверняка замечает переплетённые взгляды, прятаться становится только труднее, особенно когда Лиза берёт в руку очередную рюмку.
— Мы не сдадимся, — отчего-то твёрдо заявляет Кирилл. — Не бойся. А ежели нас и заставят, то ты знаешь где русский мундир прятать, — и не менее неожиданно улыбается, подхватывает рюмку водки из чужих рук, бодро салютуя озадаченному товарищу.
— Как же так? Как же честь офицерская? За что мы бились?
— Иногда нужно отступать, Еремей, понимаешь? Если чувствуешь опасность, отступай. Если что-то грозит твоим близким... — он невольно взглядом Лизу находит, так же невольно запинаясь, — немедленно отступай. В случае чего я буду действовать именно так, — и после этого соврёшь, ежели скажешь, что Кирилл Андреевич бесчувственный булыжник. Эта церемония взаправду была особенной для них. Вскоре приходится выйти из тени, присоединяясь к оживлённой беседе. Кирилл впадает в замешательство явное, сперва теряясь и бегая глазами по раскрасневшимся лицам от тепла, выпивки и слишком бурного хохота. Лиза сама будто на театральные подмостки поднялась, следует соответствовать. Изображает якобы естественное смущение, неудобство от поднятой темы, переминаясь с ноги на ногу и покашливая в кулак.
— Меня интересовала только одна девушка, ваше высочество. И я счастлив, что она моей женой стала, — ни капли лукавства, ведь такова истина. — А что здесь рассказывать? Для каждого влюблённого мужчины его избранница — лучшая на земле, как богиня. История только начинается, это ещё не конец... лишь начало, — быть может, он настолько серьёзен и честен, что портит намерения повеселиться. Кто-то притихает, задумываясь о чём-то своём, а кто-то понимающе кивает головой. Кирилл даже не уразумел, что кое-кто с лисьем взглядом невинно поиздеваться вознамерился. — Ну однажды я познакомлю всех с ней! — ещё одно внезапное заявление, выпаленное громко и бодро, под поднятый бокал. Тогда мигом загудели голоса, зазвенела посуда и веселье продолжилось до самого позднего вечернего времени. Веселиться следовало от души, предчувствуя нехотя, невольно приближение тёмных дней.
Кирилл не успевает подумать о том, как они будут расходиться. Она, разумеется, отправилась бы в карете, а он — верхом, выждав определённое время. Но Лиза оказалась шустрее, подобную мелочь предусмотрев. А быть может, не хотелось расставаться с сегодняшним весельем, ведь наверняка его недовольство количеством добровольцев веселит. Слушая её, он, однако, улыбается и качает головой мол “какая неисправимая у меня жена”.
— Конечно, сочту за честь, Елизавета Петровна, — оставаясь привычно немногословным, подставляет ей свою руку и благо, сверкающие озорством глаза спрятаны в тени треуголки. — Скажи, мне есть о чём тревожиться? У тебя что-то было с провожатыми? — любопытствует, когда они отходят на более безопасное расстояние. — Господи! Моя любимая жена будет очень ревновать, саму цесаревну до дома провожаю, только вообразите себе! — и даже если кто-то услышит — пусть, для правдоподобности. — Прямо в карете или ты его пригласила на чай? Обыкновенное мужское любопытство, Елизавета Петровна, — пожимает плечами, пропуская лукавую улыбку и помогая ей взобраться на подножку. Разумеется, эта поездка в полутьме ночной приятнее чем верхом на лошади.
\\\
Камергер покинул покои в унылом расположении духа, виновато понурив голову. Работка досталась ему самая нелёгкая, невзирая на молодые годы да неопытность. Нести столь большую ответственность перед Её Величеством не каждый сдюжит. Жалко его, а впрочем, не воевать заставляют и не мешки с картошкой тягать, стало быть, рано или поздно приловчиться. Кирилл поблизости оказывается не случайно, прогуливаясь, как оно повелось. “Никак”, — разводит руками камергер, выглядя так, словно готов отправиться в крепость за дурную службу. Как и положено, боится в глаза посмотреть. “Ступайте отдыхать”, — рука опускается на чужое плечо, но не задерживается. В его голосе сквозит добрая снисходительность и понимание, ведь он знает, в чём дело; не знает только, до сих пор, имеет ли какое-то право приказывать в этом доме, а потому всегда просит, если человек располагает. С откровенными негодяями, безусловно, разговор совсем другой. Не выполнить просьбу сложно, камергер уйдёт с расстроенными чувствами, оставляя всё в руках того, кто действительно “имеет право”. Пусть это право и оказывается под сомнением каждый новый день.
— На вас снова жалобы поступают, Ваше Высочество, — заходит в спальню, где невозможно оставаться непроницаемо-серьёзным, обязательно уголки губ потянутся в игривой улыбке. — Говорят, вы отказываетесь исполнять свой долг. Что скажете в своё оправдание? — заводя руки за спину, становится напротив кровати, выжидающе глядя на Его Высочество. У него волосы густые, тёмные и порой безобразно вьющиеся, точно взял лучшее от своего дяди; глаза больше отцовские, пусть иногда проступают изумрудные вкрапления на радужке; надутые губки точно достались от мамы. Он сидит в постели со скрещенными руками, как взрослый, дуется, разумеется, как ребёнок своего возраста. — Упорное молчание означает согласие? — улыбается Кирилл, усаживаясь на край кровати. Упрямство досталось двойное — от обоих родителей, с чем бороться особенно трудно. Несчастный камергер, впрямь не повезло.
— Не хочу спать. Если я засну... мне приснится страшный сон, — лепечет детским голоском, но крайне серьёзно, становясь весьма похожим на своего отца. — Только никому не говорите. Они скажут, что я не мужчина, — добавляет более жалобно, глядя большими глазами умоляюще.
— Мне тоже снятся страшные сны, но это не делает ни одного человека трусливым. Знаешь, что действительно трусливо? Прятаться. Нужно бороться. Сегодня я помогу тебе, — спокойный голос делается всё тише, что немедленно располагает маленького упрямого мальчика. Глаза загораются, а губы более не дуются обиженно.
— Значит я могу теперь называть тебя папой? — ловко перескакивает на край кровати, крепко цепляясь за отцовские руки и заглядывая в лицо с явным нетерпением. Кирилл только кивнуть успевает, прежде чем сын набросится с объятьями, обхватывая ручонками шею. Пока своды формальностей и правил принуждают к разного рода нелепостям, они договорились о том, что наедине будут как самые близкие люди, как товарищи. Об этом, конечно же, ни один камергер не знает. Сашенька умеет хранить секреты.
Кирилл стягивает сапоги, в которых ходить оказывается удобно и привычно — даже теперь не отказывается от мундира, считая, что в любой миг должен быть наготове. Забирается в постель, и под рукой шустро Саша устраивается, на этот раз без любимой книги. Он знает, что папенька никаких сказок не учил, зато умеет чудно выдумывать. Кирилл знает, что учить сказки ему не нужно, потому что сама жизнь — сказка со своими героями, хорошими и плохими, остаётся только перефразировать.
— Король и королева ждали свою принцессу, когда она родилась, они были счастливы. Пока не объявилась злая колдунья... — в завершении своей жизненной истории Кирилл начинает засыпать, а Саша глядит на него внимательно и не очень-то довольно, хмуря тёмные брови.
— Почему? Почему сказка не закончилась когда все были счастливы? — выпячивает нижнюю губу, собираясь снова обидеться. Кирилл открывает глаза, недолго глядя на сына задумчиво. И впрямь, почему? Ведь у них был счастливый конец, они могли жить долго и счастливо; тогда почему? Почему столько шрамов на душах и сердцах, на телах? Случись всё иначе, наверняка не было у него такого сына, умного не по годам. Учителя говорят, живой ум, бойкий нрав, ловко управляется с цифрами. Таковым должен быть сын императрицы. Такова его личная отцовская гордость. Кирилл слишком любит своих детей, чтобы сожалеть о чём-либо.
— Если бы история закончилась на этом, все были бы счастливы, верно. Но... ты же знаешь, в любой сказке нужно победить злодея. Иначе, что за сказка такая? Они его победят, непременно. Ты тоже сможешь.
Саша улыбается довольно, мостится на отцовской груди, чтобы заснуть в надёжных объятьях.
Кирилл не жалеет и никогда не станет.